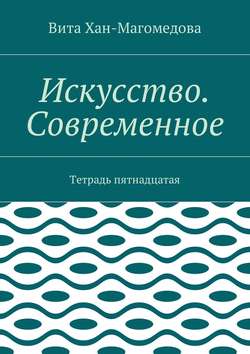Читать книгу Искусство. Современное. Тетрадь пятнадцатая - Вита Хан-Магомедова - Страница 5
ИНСТАЛЛЯЦИИ
Инсталляции в 1960-1980-е
ОглавлениеИнсталляцию как форму, жанр пространственного искусства начали выделять в 1960-е. Но существовали и более ранние прецеденты, особенно в авангардистских движениях начала ХХ века как супрематизм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм и футуризм. Например, выставочный дизайн Эля Лисицкого, Марселя Дюшана и переделки, изменения, сделанные Куртом Швиттерсом в помещениях его дома, известные как Merzbau, являющиеся ранними прототипами инсталляций.
Период формирования инсталляционистского искусства в 1960-1970-е был периодом социального, политического и культурного переворота. Такие авангардистские движения как минимализм, энвайронментальное искусство, land art, концептуальное искусство и перформанс возникли в этот период как реакция на перцептивные ограничения модернизма – коммерциализация произведения искусства, выдвижение на первый план изображения, доминирующего над опытом и как реакция на ограничения, навязанные единственной, специально подготовленной встречей с произведением. Отказываясь от таких ограничений, как рама и плинтус, минималисты выступали против стратегий изображения, характерных для картины и скульптуры, сосредотачивая внимание на зрителе, вместо того, чтобы сконцентрироваться на тотальности современного опыта работы с произведением – с его материалами, контекстом и местоположением. Подобные тенденции прослеживаются в энвайронментальном искусстве, land art, концептуальном искусстве, перформансе, хэппенингах и видео-арт, что проявилось в создании временных, перформативных и site-specific работ, отказе от коммерциализации произведения.
В 1960-е слово инсталляция использовалось в таких журналах как Artforum, Arts Magazine, Studio International для описания способа, с помощью которого была аранжирована выставка и фотографическая документация этой аранжировки называлась инсталляция spot. Нейтральность термина была важной причиной обращения к нему, особенно для художников, отождествляемых с минимализмом, представители которого отказались от беспорядочных, экспрессионистических энвайронментов их предшественников (как Алан Кэпроу и Клаус Олденбург). Минималисты обратили внимание на пространство, в котором работа демонстрировалась и стремились к непосредственному вовлечению зрителей в это пространство, как и в саму работу. С того времени различия между инсталляцией как формой искусства и инсталлированием произведений стали размываться.
Возьмём, например, инсталляцию Беверли Найдюс «Это не испытание» (1978—1983), которая демонстрировалась на выставке «Конец света», организованной в Новом музее в Сохо в Нью-Йорке в 1984-м. Она рассказывает о страшных разрушениях и опустошениях, последующих после ядерной катастрофы, о деградации человека. Инсталляция Найдюс состоит из сооружения, сделанного из поваленных деревьев, с небольшим возвышением на вершине, напоминающим лодку или палатку. В эту «лодку» вмонтирован маленький экран, на который проецируются слайды – «прославленные», уже не существующие, «уничтоженные» пейзажи, воспроизводящие различные уголки земного шара, как бы символизирующие «потерянный рай». Когда зритель попадает вовнутрь инсталляции, он начинает различать неясные, расплывчатые, искаженные звуки человеческих голосов. «Разговор» между двумя потрясенными людьми продолжается шесть минут. Фраза одного из них: «Но я занят работами на мертвой линии» поразительно точно соответствует по смыслу визуальному ряду, уточняя, как в наше повседневное существование врывается нечто неотвратимое и ужасное.
Найдюс рассматривает апокалиптические видения смерти не как естественную катастрофу, а как преднамеренную гибель и конец всей цивилизации. Наверху, за «лодкой» с экраном, художница установила деревянный почтовый ящик с приглашением для зрителей записать свои впечатления от увиденного, свои мысли и чувства. Согласно Найдюс, единственная положительная реакция на сложившуюся в мире ситуацию – это «верить в способность людей сознавать нависшую над ними опасность и действовать сообща. Иногда и художник своей по-настоящему удачной работой может способствовать пробуждению самосознания у людей. И мы сможем надеяться, что в самый отчаянный момент они объединят свои усилия и будут действовать творчески, чтобы предотвратить опасность».
На этой же выставке демонстрировалась инсталляция Майкла Смита «Закусочная» (1983), представляющая собой комнату, превращенную в убежище от «радиоактивных осадков», «оснащенную» в соответствии с рекомендациями правительственной инструкции по осуществлению мер по гражданской обороне населения. «Закусочная» подразумевает ее использование при «чрезвычайных обстоятельствах».
Итак инсталляции, которые в 1980-е получают все большее распространение в зарубежном искусстве, видоизменяются, усложняются: возникли видеоинсталляции, цветоинсталляции и т. д. «Для многих наблюдателей прогресс в искусстве XX века, – пишет английский критик Крис Макклейн, – кажется неким путешествием от оптимума к отчаянию, от энергии к пустоте» (2). Он весьма пессимистично оценивает искусство 1980-х, подчеркивая, что открытия в искусстве начала XX века соответствовали потребностям общества, а большинство призывов, нововведений в искусстве наших дней релевантны лишь по отношению к самим себе. Как же оценить в подобном контексте инсталляции: как конечную остановку перед «прыжком в ничто», в пустоту или напротив, как какой-то, даже возможный, выход в искусство будущего? Обладают ли они эстетической ценностью? Явление это неоднородное и противоречивое и оценить его однозначно достаточно трудно и вряд ли возможно.
Слово «инсталляция» («installation») переводится как установка, расположение, устройство, монтаж. Но эти значения лишь частично отражают смысл художественной акции, соединяющей в себе разнообразные по своей структуре, материалам, техникам виды искусства, организующие пространство и объединенные общей темой. Инсталляции «вошли в моду» в 1960—1970-е, но наибольшее распространение получили с 1980-х. Зарубежная критика рассматривает инсталляции как закономерную эволюцию современного искусства, как своеобразный ответ, реакцию, на новое видение мира в конце ХХ-начале ХХ1 века в плане новых гипотез в отношении структуры материи, временных понятий, когда отмечается «кризис самой идеи пространства», которое переворачивается, по-новому заполняется, рождает иные закономерности, необъятные возможности и с точки зрения психологии восприятия зрителя. Характерный пример – произведения Морица Корнелиса Эшера, который довел перспективный иллюзионизм почти до парадокса, заставляя зрителя сначала «потеряться», совершая абсурдный воображаемый маршрут, а затем как бы сориентироваться во времени, определить точку зрения, являющуюся ключом для прочтения его образов.
Инсталляция как новая форма искусства («пространственного искусства») синтезировала в себе многие предшествующие неоавангардистские (постмодернистские) направления: «оп-арт», кинетическое искусство, поп-арт и минимальное искусство, концептуальное искусство и энвайронмент, элементы дизайна и т. д. Следует подробнее остановиться на кинетическом искусстве, подводящем к видеоинсталляциям, световым инсталляциям, поскольку именно в кинетическом искусстве (в его разновидностях – «синетическом искусстве», выражающем иллюзию движения при помощи оптических средств, которое поражает воображение зрителя, и «передвижном» искусстве, где зритель должен передвигать вращающиеся на шарнирах и петлях устройства, нажимать на кнопки или изменять расположение предметов, переводя их из одного статического состояния в другое) в 1960—1970-е наиболее явственно обозначились перспективные попытки стимулировать широкое сотрудничество между художниками, учеными и инженерами. Своеобразие кинетического искусства заключается в том, что оно открывает большие возможности для обогащения эстетических переживаний зрителей в эпоху научно-технического прогресса. Зритель получает возможность видеть формы в постоянном движении, изменении, в определенном пространственно-временном измерении.