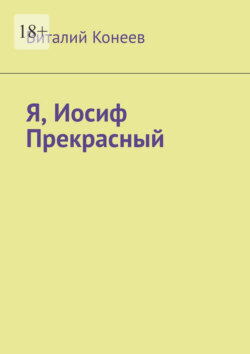Читать книгу Я, Иосиф Прекрасный - Виталий Конеев - Страница 3
Глава первая
Оглавление…И вдруг в тишине раздался громкий храп…
Несколько минут до этого император Нерон стоял во внутреннем помещении театра, взволнованный, утирал влажное лицо рукавом девичьей туники. А едва он надевал маску юной девушки, как вновь снимал её и торопливым жестом руки смахивал со лба обильный пот. Император задыхался от волнения. Он вздрогнул крупным телом, когда мимо него на сцену скользнул актёр Грек Пирр, семнадцатилетний никому неизвестный юнец, который, тем не менее, нравился публике своей красотой, голосом, порывистыми движениями рук. А если он пел, то люди переставали чавкать и глядели на него. Едва Грек умолкал, зрители без приказа разражались бурными аплодисментами и настойчиво требовали повторить. Впрочем, такими же аплодисментами и криками они награждали и Нерона. Тем более что на первых четырнадцати рядах сидели «августинцы» – триста юношей всаднического достоинства. Треть из них были вольноотпущенники Нерона, то есть бывшие рабы.
Префект претория Софоний Тегеллин стоял сбоку от всадников, следя за сценой и за людьми, чтобы в нужный момент дать «августинцам» условный сигнал. И тогда раздавались или греческое гудение носами, которое очень нравилось императору, или мерные плески ладонями, или слитный, шумный выдох: «О!» или смех, или клакёры подавались телами вперёд, протягивая руки в сторону императора, изображая лицами горе. Перед всадниками в орхестре сидели сенаторы из страха своим отсутствием в театре возбудить подозрение Нерона. Среди сенаторов занимали места и полководцы, известные каждому гражданину империи своими блестящими победами в далёких провинциях. Нерон не верил им и постоянно держал их около себя. И они вынуждены были гудеть носами и делать всё прочее по команде любимца императора и соучастника его дневных и ночных оргий префекта Тегеллина. Что до толпы пролетариев, то им было всё равно, что происходило на сцене, лишь бы было на что смотреть. Они с рассвета до заката солнца сидели на трибунах и укладывались спать на лавках, чтобы утром вновь смотреть на сцену.
Вольноотпущенники наперебой успокаивали Нерона, а он бормотал, порой со стоном:
– Нужно сделать так, чтобы Грек на выходе со сцены запнулся на потеху толпе.
– Будет сделано, патрон.
– Всем молчать! Я могу забыть слова. Дайте мне копьё.
Руки императора тряслась, когда он взял золочёное копьё и поправил висевшую на плече кифару. Пьесу «Гибель Трои» он сам сочинил. И так как Нерону страстно хотелось сыграть роль девушки на сцене, то он, разумеется, вспомнив, что мать Ахиллеса с первых лет его жизни внушила мальчику, что он девочка Гекуба, ввёл в пьесу сон Ахиллеса. Однако этот сон с помощью чар увидел халдей Трои и решил погубить Ахиллеса, войти в его сновидение с воинами Приама. И вот они на сцене замыслили гибель Героя.
Маска закрывала только верхнюю часть лица Нерона, чтобы губы его были открытыми для страстных речей и, не менее, страстного пения. Император не решился сбрить рыжую бороду или загримировать её, уверенный, что своим искусством он мог заставить зрителей забыть, что на лице девушки Гекубы рыжая борода.
Он выскочил на сцену, по-прежнему взволнованный, и крикнул, с ужасом отметив, что его голос стал сиплым:
– Вот вы где, злодеи, способные только воевать со слабыми женщинами! И ты, Гектор, здесь, хотя я ждал тебя на поле битвы!
Нерон злобно взглянул на Грека и забыл слова длинной речи. У императора ненависть к таланту юнца была так велика, что он размахнулся копьём и со всей силы ударил им в лицо актёра, игравшего роль Гектора, хотя вначале «девушка Гекуба» должна была перебить его сообщников вместе с хитроумным халдеем. Грек в ужасе нырнул под копьё, бросился на подмостки и затих. И тогда император вынужден был поразить копьём всех остальных актёров. От его ударов спрятанные под плащами пузыри полопались, и сцена обильно покрылась бычьей кровью.
Нерон, тяжело дыша, снял кифару с плеча и, глубоко вобрав в лёгкие воздух, хотел запеть песнь победы, и вдруг в тишине раздался громкий храп…
На верхних рядах театра кто-то мыкнул, но ему тотчас зажали рот. Зрители оцепенели, глядя на императора, у которого во время его стремительного движения по сцене слетела с лица девичья маска. И теперь оно было искажено гримасой страдания, потому что нашёлся кто-то на трибунах, кто не оценил его талант, более того, он заснул, не желая смотреть на блистательную игру императора.
Страдающее выражение лица Нерона сменилось выражением гнева. Он повёл взглядом по театру и увидел того, кто нагло храпел.
Тегеллин тоже был растерян, не зная, какой сигнал дать клаке. Но привыкший быстро реагировать, он вскочил на орхестру и, наступая на ноги сенаторам и полководцам, промчался к тому месту, где сидел, запрокинув седовласую голову Веспасиан Флавий. С ходу префект нанёс удар жезлом по голове полководца. Тот, ещё не проснувшись, выкинул вперёд правую руку и крикнул:
– Легион, делай как я!
– Проклятый, – сквозь зубы процедил в бешенстве император, – ну, я тебе покажу легион.
И он сильным движением руки ударил по струнам кифары, и запел. Голос его был сиплым, а игра на кифаре неверной, однако все, кто присутствовал на трибунах, особенно облитые бычьей кровью актёры, были в ужасе, потому что видели гнев принцепса. Едва он кончил своё пение, как актёры вскочили на ноги и яростно ударили в ладоши, восклицая:
– Божественный голос! Игра достойная только богов Олимпа!
– Сам Аполлон завидует, глядя на Гекубу!
Шквал аплодисментов, не греческих мерных, а римских, раздался на трибунах и заглушил истерические крики сенаторов:
– О, божественный Аполлон. О, боги, что за голос! Какие сладчайшие звуки! – и они в исступлении хватали себя за головы и качали ими.
Душа Нерона смягчилась. Он опустился на колено и протянул к зрителям правую руку.
Граждане Рима вскочили со своих мест с лицами облитыми слезами умиления и в едином порыве закричали:
– Август, наслади нас своим божественным голосом! Не лишай нас удовольствия слушать тебя!
Нерон поклонился и, подумав, сиплым голосом сказал, что он готов выполнить требование зрителей, но будет петь «Ниобу». Он пел три часа подряд. По нужде выйти из театра было нельзя, так как преторианцы бдительно сторожили все выходы с трибун. И люди, то ли изнемогавшие от естественной нужды, толи от божественного пения Нерона, осторожно, ползком уходили к стене и перелезали через неё, иные, прикинувшись мёртвыми, с размаху падали с лавок в проходы. Преторианцы клали их на носилки и выносили на улицы. Там хитрые зрители чудесным образом оживали.
На трибунах раздался писк новорождённого младенца, но роженица молчала. Люди сидели неподвижно, словно каменные статуи. Боялись почесаться, утереть пот с лица, шумно вздохнуть, отвести взгляд от императора, потому что преторианцы внимательно следили за направлением взглядов зрителей.
Когда Нерон закончил своё пение, то к нему, не ожидая его приказа, метнулись уставшие, измученные ожиданием и страхом руководители театра с золотым венком победителя и денежным призом.
– Патробий, – приказал он вольноотпущеннику, – дай Греку сто тысяч сестерциев и скажи ему… ничего не говори.
– А может быть, ему лучше подойдут Гемонии? – мрачно усмехнувшись, ответил Патробий, который в кабинете императора был министром по прошениям и был пугалом города, так как ни одна казнь не проходила без его участия.
– Нет. Пускай живёт и страшится моего Гения… Тегеллин, как я пел? – уже на ходу спросил Нерон префекта.
– Как всегда божественно. Зрители боялись пошевелиться, чтобы чего-нибудь не упустить.
– Да, я заметил, – смущённо улыбнувшись, с удовольствием сказал Нерон. – И я хотел спеть ещё, но сегодня я решил забрать Поппею у Отона.
– Август, он наслаждается ею вместо того, чтобы только делать вид, что она его жена.
– Мне это по душе, – задумчиво пробормотал Нерон, спускаясь по ступеням в сумрачный проход под трибунами, идя следом за преторианцами.
Он резким движением передвинул висевшую сбоку на плече кифару на живот и, охваченный жаждой творчества, на ходу трогая пальцами струны инструмента, начал сочинять новую песню, но, вспомнив Грека, поморщился лицом и посмотрел на Патробия, который шёл слева от него, словно что-то ожидая, буркнул:
– Ты всё ещё здесь?
– Август, ты не договорил относительно Грека.
– Хм… па-па-па-ра… – протянул Нерон, настороженно вылавливая в памяти ускользающую мелодию, и раздражённо мотнул головой, перебил самого себя: – То, что мне нужно, Патробий, ты знаешь. Иди. Не мешай.
– Я хотел услышать от тебя, Август, какое лекарство дать актёру, чтобы он лучше запел: медленное или быстрое?
– Конечно, медленное.
Но Патробий и преторианцы не смогли найти в театре Грека Пирра. Он в это время в длинной, грязной рубахе раба, с опущенными на лицо накладными волосами мчался по улицам города, боясь оглянуться, каждую секунду ожидая услышать властный, грозный крик за спиной: «Стой!»
Конечно, Грек не раз и не два играл роли благородных Героев, обречённых по воле богов или земных владык, разумеется, греческих, покончить самоубийством. Медленно и торжественно он закалывал себя мечом или перерезал вены на руках, а потом, лёжа на подмостках, страстно говорил предсмертные речи, порой долго, до тех пор, пока не раздавался шёпот режиссёра: «Грек, опомнись. Актёры ждут своей очереди». Но в реальной жизни Грек не хотел так умирать. К тому же он был простолюдином и не имел почётное римское гражданство, и не собирался подражать патрициям, которые резали на своих руках вены по приказу Нерона. Страх душил его, сознание мутилось, и Грек продолжал бежать, натыкаясь на людей, сбивая их с ног. И когда перед ним, словно по волшебству, широко распахнулась дверь, он влетел в сумрачное помещение. Торопливо отдышался и повёл вокруг взглядом, пытаясь понять, где он оказался. Рядом с ним кто-то рассмеялся. Смех был нехороший. Грек отметил, что он странный, а если бы его повторить на сцене, то зрители, пожалуй, задрожали бы от ужаса.
Потом прозвучал голос, похожий на карканье вороны, но, вероятно, женский:
– Мы тебя ждали. Проходи.
– А куда я попал?
– Туда, куда стремился. В лупанар. Где твои деньги, парень?
Дверь за его спиной с грохотом захлопнулась.
В широком подтрибунном проходе были боковые коридоры. Многочисленная охрана принцепса не боялась, что здесь могло случиться покушение на жизнь их господина, да и никто из них не знал, что четверть века назад в таком же подтрибунном помещении был убит император Калигула префектом и военным трибуном претория. Сам Калигула, его время так сильно затушевались обильными событиями, что сотрясали сотни раз империю и Рим за двадцать последних лет, что его правление казалось людям таким же далёким, как и время первых Олимпиад.
И никто из преторианцев, которые шли впереди Нерона, не заметил в сумраке невысокую женскую фигуру. Она стояла за углом бокового коридора. Это была молодая Эпихарида, вольноотпущенница. Она прятала в руке маленький кинжал, готовая броситься на императора и заколоть его, поглощённого сочинением песни.
Следом за Нероном шли второй префект претория Фений Руф и юный трибун Субрий Флав, они заметили Эпихариду, потому что предполагали, что она могла появиться здесь. Фений Руф прибавил шаг и, обойдя сбоку императора, шагнул в коридор, и схватил правую руку Эпихариды.
– Уйди, не время, – тихо шепнул он и отнял у молодой женщины её оружие.
– Я могу убить его, – едва слышно сказал военный трибун Субрий Флав, положив руку на свой меч, идя в трёх шагах от императора.
Рядом с ним шли другие заговорщики: трибуны и центурионы претория. Они замыкали отряд охраны. Но Фений Руф отрицательно качнул головой и отодвинул Эпихариду себе за спину. Он не был военным человеком. Ранее Фений Руф в качестве префекта руководил доставкой хлеба в Рим из приморского города Остия. А так как хлеб всегда поступал в Рим бесперебойно, то горожане наделили Руфа всеми возможными достоинствами характера, а Нерон назначил его префектом претория, потому что боялся военных людей, боялся военного заговора. Он знал, что рядовые солдаты претория не уважали и не могли уважать ни Тегеллина, ни Руфа, так как они, не имея военного опыта, сразу получили высокую должность равную должности легата. Нерон поставил во главе претория двух префектов, чтобы ни один из них не имел абсолютной власти над гвардией, так как солдаты, несмотря на своё отвращение или презрение к командиру, обязаны были выполнять его приказы. Но так как вскоре Нерон заметил, что Фения Руфа народ по-прежнему любил за прошлое его руководство поставками в город хлеба, то решил уволить его с высокой должности под предлогом, что у корпуса преторианцев мог быть только один командир. Нерон завидовал славе любого человека, и не хотел терпеть рядом с собой префекта, которого в присутствии императора народ окликал и приветствовал.
Когда сенаторы осторожно намекнули Фению Руфу, что есть заговор против Нерона, он тотчас изъявил желание присоединиться к членам тайного общества, так как знал, что Нерон решил отправить его в отставку. А Фений уже привык находиться на вершине власти и не хотел её терять.
Сумрачные коридоры под трибунами большого театра не освещались факелами. И никто из преторианцев не заметил дрожание тела Фения Руфа, ужас, что отразился на лице второго префекта, когда он спустился следом за императором в тёмный коридор и понял, что наступил удобный момент для убийства Нерона. Руф желал смерти ему, но страх и ужас, присущие любому гражданскому человеку, сковали его душу, и он не смог, хотя бы кивком головы, отдать приказ центурионам, военным трибунам убить императора. В мире людей это поведение человека всегда называлось трусостью. Но это качество характера префекта никто не знал.
Эпихарида, идя следом за заговорщиками, пользуясь тем, что звуки кифары и топот окованных гвоздями сапог преторианцев гремели эхом в коридоре, сердито говорила:
– Что же вы медлите?
Фений Руф, уже давно пришедший в себя, с презрением в голосе ответил:
– Молчи, слабая женщина. Тебе ли, рабыня, порицать нас, мужчин, свободнорождённых.
Нерон вышел на улицу и сел в носилки. Тотчас за ним построилась колонна «августинцев». Заняли свои места сенаторы, полководцы, друзья императора. Большинство «августинцев», кто был недавно рабом, шли, делая руками жесты, чтобы люди видели на их пальцах золотые кольца всадников или держали руки над головами.
Люди начали смеяться и показывать телодвижениями, как заслужили рабы звание аристократов. Всадники бросились на горожан. Закипела яростная драка, беспощадная и кровавая. С обеих сторон кричали о помощи. На место схватки бежали подкрепления к простолюдинам и к всадникам.
Нерон, любивший такие дела, вскочил на ноги и с носилок зорко стал следить за боем, подбадривая то горожан, то всадников, осыпая бранью неловких и хваля удачливых бойцов.
Драка перешла в многолюдное побоище, в которое вмешались и римлянки, как состоятельные, так и бедные. Они, словно был вражеский приступ, метали из окон домов посуду и предметы быта на головы тех, кто им был не по душе, обливали водой и помоями.
Нерон топал ногами, хохотал, тыкал пальцами и кричал:
– Дайте ей за меткий бросок сто сестерциев! А этой – пятьсот!
Тут подступила к Нерону другая толпа простолюдинов и начала осыпать его бранью за низменную, позорную для принцепса любовь к театру, к скачкам, за то, что он разлюбил свою жену Октавию – дочь божественного Клавдия, за его гульбища, постыдную любовь к кастрированному Спору. А кто-то, хвалил Нерона за то, что он уничтожал сенаторов, патрициев и всадников. Зло, смеясь, просили Нерона: «Больше!» А некто, потрясая вощёной табличкой, крикнул:
– У меня всё записано!
– Что? Отвечай! – приказал ему Нерон.
– Как ты вчера пришёл к дому Отона, чтобы забрать у него свою любовницу Поппею, которую ты передал ему для сохранности. Но Отон не пустил тебя в дом, говоря, что ты, не Нерон, а бродяга.
Император принял героическую позу и милостивым жестом простёр свою правую руку к доносчику.
– Я покупаю табличку за сто сестерциев.
– Август, почему так мало?
– А чтобы другим не повадно было доносить императору на императора.
Народ начал смеяться и аплодировать своему императору, а многие закричали:
– Божественный Август, где мы можем послушать твоё пение?!
– Завтра я выступаю в Большом цирке. Буду петь непрерывно пять часов, – с удовольствием ответил Нерон, – потому что я считаю, что нехорошо делать перерывы между песнями и тем самым раздражать людей.
Нерон под аплодисменты граждан отправился дальше, не обращая вниманье на побоище, приказав Тегеллину, чтобы преторианцы выдвинулись вперёд и не охраняли бы сенаторов, которые шли за носилками. Народ тотчас обступил ненавистных правителей и начал кричать им в уши брань, напоминая сенаторам их воровство, продажность, пьянство, разврат. Они зло тыкали пальцами в лица сенаторов, называли их имена и криком рассказывали, кто из них и где подставлял свой зад. Сенаторы держались гордо. Нерон приказал рабам нести его носилки бегом, а сенаторам весело крикнул:
– Догоняйте! Я забочусь о вашем физическом состоянии!
Сенаторы бежали за носилками, а Нерон подбадривал их игрой на кифаре.
Император хотел направиться к Отону, чтобы забрать у него Поппею. Но вспомнил тот ужас, который он испытал на сцене, когда услышал свой сиплый голос и решил немедленно заняться его тренировкой. Ведь скоро должны были состояться Неронии, игры в честь императора. На играх Нерон хотел выступить актёром и певцом, и кифаредом, и чтецом своих стихов и поэм, и глашатаем, и возницей на скачках квадриг. Он даже начал было заниматься пантекреоном – жестоким кулачным боем, но Тегеллин сумел доказать Нерону, что у всех пантекреонистов сломаны челюсти, выбиты зубы, свёрнуты или расплющены носы. Они гнусавили и говорили невнятно. Император мог навсегда потерять свой божественный голос. Его страстное желание получить славу в искусствах и в спорте и передать её потомкам, чтобы о Нероне с восхищением говорили и спустя сотни лет, было естественным и понятным всем людям империи. Жажда славы толкала людей всех сословий на невиданные ранее дела: патриции, всадники и сенаторы выступали в качестве гладиаторов в цирках, выходили на подмостки театров, что было постыдном делом, достойным только простолюдинов. А если не удавалось патрициям получить славу в спорте, они прославляли себя гульбищами и развратом. Это тоже была слава, о которой охотно и подолгу говорили граждане Рима и жители империи.
На Палатинском холме ему показалось, что рабы несли носилки слишком медленно, хотя они бежали изо всех сил. Император зажал под мышкой кифару и прыжком метнулся на дорогу, а потом помчался к своему дворцу впереди преторианцев и свиты. В спортивном зале он сорвал с себя одежду Гекубы и быстро лёг голой спиной на пол. Вольноотпущенники тотчас схватили из стопки свинцовые плиты и начали аккуратно накладывать их на широкую грудь Нерона. Он хрипел, задыхался под свинцовой тяжестью, но терпел, сипло требовал: «Ещё».
Тегеллин стоял рядом с головой императора и настороженно следил за его лицом, боясь, что следующий выдох Нерона мог быть последним. Лицо Нерона почернело от прилива крови. Префект сделал быстрый жест вольноотпущенникам.
– Довольно. Убрать.
Нерон с помутнённым сознанием поднялся на ноги, быстро, отвергнув помощь рабов, взял дрожащими руками кифару и запел.
Тегеллин, наморщив лоб, несколько минут внимательно слушал.
– Август, твой голос приобрёл чувственность и глубину.
– Ну, если ты, не имеющий музыкального слуха, замечаешь, то я на правильном пути, – хрипло ответил Нерон и с досадой подумал, что он не только великий актёр и певец, но и государственный муж, отрывисто обратился к своему кабинету министров, к вольноотпущенникам: – Что там, в провинциях?
Двести тысяч легионеров охраняли чудовищно огромную территорию империи, что находилась на трёх континентах с населением более ста миллионов человек. Любое малейшее волнение народов в далёких провинциях настораживало императоров. Из донесений наместников трудно было понять, где была правда, где ложь, потому что наместники, те, которые имели большие соединения легионов, часто провоцировали возмущение народов, чтобы отложиться от императора и начать гражданскую войну.
Домиций Корбулон, наместник провинции «Сирия» был самым талантливым полководцем императора Нерона. Во всех походах он вёл себя, как Гай Юлий Цезарь. Не имел ни одного поражения. Ел то, что ели солдаты, в походе шёл впереди них в лёгкой одежде даже в зимнее время, когда был наместником провинции «Германия». Строгость дисциплины в его легионах была такой же, как в давних республиканских армиях. Он пользовался любовью и авторитетом у народов восточных провинций, уважением парфянского царя – врага Рима.
В городе ходили слухи, и Нерон знал их, что Корбулон решил отложиться от императора. Народ хотел потрясений, крови и гражданской войны.
Тегеллин шагнул вперёд и раздражённым голосом крикнул:
– Август, убей Корбулона! А эти! – Он ткнул пальцем в сторону окна, за которым был Капитолийский холм с храмом Юпитера Благого и Величайшего, место заседания сената. – Они мечтают о сумасшедшем императоре, вроде Клавдия, чтобы иметь власть. Они ударят тебе в спину, потому что ты сильный, Август. Убей Корбулона, Веспасиана Флавия, Фения Руфа, Сенеку, Петрония. Этот последний нагло смеётся над твоим пением. А все они поддерживают твою мать, Агриппину. Вспомни, как она хотела держать тебя под своей ногой. У своей мамочки научилась. Та тоже рвалась к власти, как одержимая, хотела расколоть империю!
– Между прочим, – мягко ответил Нерон, перебирая пальцами струны кифары, – Сенека, Петроний и Бурр помогли мне выбраться из-под ноги божественной матери. – Нерон милостиво улыбнулся Тегеллину и ласково добавил: – А что мне нужно, ты знаешь.
– Знаю, Август! – гаркнул префект и рассмеялся.
Нерон, покачиваясь и убыстряя свой шаг, направился на ипподром, где ежедневно стояли квадриги, готовые для скачек. Конюхи уже держали коней под уздцы, зная привычки императора.
– Тегеллин, бери левую, а ты, Патробий – правую. Я возьму среднюю, – торопливо сказал Нерон.
Он вихрем взлетел на пятачок квадриги, забыв снять с плеча кифару, уж так он жаждал насладиться стремительной скачкой.
Алчно поглядывая на четвёрку коней, которых с трудом удерживали на месте конюхи, волнуясь руками, Нерон быстро, привычно и умело, затянул конец вожжей на своём поясе, на голом теле, поднял над головой длинный кнут, ожидая удар гонга. И когда он прозвучал, а конюхи отскочили от квадриг, дикие кони с храпом бешено сорвались с места, взметнув из-под копыт комья земли, что хлёстко ударили по лицам возниц.
Нерон закрыл лицо левой рукой и услышал хохот Тегеллина. Префект именно в этот момент и обрушил удар кнутом на спины своей четвёрки коней и вырвался вперёд.
Кифара болталась на свободном ремне и мешала Нерону управлять квадригой. Он простонал, увидев, что и Патробий вырвался вперёд, а он, император, скакал третьим!
Ветер свистел в ушах Нерона, а сбоку от него трибуны превратились в сплошную тёмную полосу, в которой невозможно было различить людей и лавки. Под его широко расставленными ногами прыгала и скакала колесница с большими лёгкими колёсами. Устоять на ней было трудно, даже держась рукой за ограждение пятачка. Но тот спортсмен, который хватался рукой за железный прут, осмеивался публикой. Это было постыдным делом для возницы.
Левой рукой Нерон управлял пучком вожжей, а правой рукой непрерывно во всю силу бил кнутом и без того летевших по полю скакунов. А нужно было следить за соперниками. Поворотный столб быстро приближался.
Может быть, оттого, что Нерон яростно горячил своих коней кнутом, он догнал Тегеллина и Патробия. И теперь три квадриги мчались в одной линии.
Кифара нелепо болталась за спиной Нерона, но он не чувствовал её, весь подавшись вперёд, находясь на колеснице почти горизонтально, прищурясь и не мигая веками император смотрел на поворотный столб, примериваясь к борьбе на опасном участке поля.
Все, кто находился на трибунах, затихли, насторожились, следя за скачкой трёх квадриг, которые не могли пройти столб все вместе. Кто-то должен был уступить. А тот, кто уступал, презирался зрителями, осмеивался и уже никогда не выступал на скачках.
Колесницы имели широкие оси для устойчивости на земле. А большие колёса были лёгкими с тонкими спицами. Дубовые концы осей выступали за пределы колёс на четверть фута с обеих сторон колесницы.
Перед поворотным столбом дорога не сужалась, но каждый спортсмен хотел пройти по ней как можно ближе к столбу. И тот, кто проходил первым, отрывался от основной группы квадриг. Здесь было самое опасное место скачек. На всех играх и, особенно, на Олимпийских, возницы не жалели ни себя, ни тем более соперников, мчались к повороту, всегда ведя грязную борьбу друг с другом, о которой знали судьи, но её невозможно было заметить со стороны трибун.
Кифара уже не болталась за спиной Нерона и не била его, а летела по воздуху, настолько была огромной скорость квадриги. Император чувствовал момент, когда он должен был пройти особую точку перед столбом. Распластавшись на воздухе натянутой струной и непрерывно работая кнутом, немигающим взглядом Нерон следил за этой точкой, видя слева и справа от себя приближавшиеся к нему квадриги Тегеллина и Патробия. Крепко держа вожжи левой рукой, император дёрнул часть их влево, и кони, послушные приказу возницы, взяли влево. В следующее мгновенье конец оси колесницы Нерона вонзился в спицы колеса колесницы Тегеллина. И тотчас прозвучал резкий звук, а потом разломанная колесница вместе с префектом взлетала в воздух. Кони Тегеллина сбавили свой бег, и Нерон, торжествующе крича, с широко раскрытым ртом вихрем скользнул за поворотный столб, слыша, как за его спиной с грохотом рухнула на землю колесница его соперника.
Душа императора пела и рвалась вперёд. Он не посмел глянуть назад на поверженного префекта, чтобы не потерять равновесие и не сорваться с пятачка квадриги. Поле был изрыто копытами коней, и квадрига то и дело мячиком подпрыгивала вверх. Удержаться на ногах был искусством, достойным только олимпиоников.
Патробий был легче императора, и настиг его. И Нерон простонал, вспомнив, что утром он выпил много воды, и она утяжелила вес Нерона.
Как две молнии спортсмены пролетели всё поле. Зрители, едва-едва дыша, следили за бешеной скачкой, любимой и обожаемой всеми гражданами Рима. И никто не обратил вниманье на Тегеллина, которого волочили по земле обезумевшие кони. Когда конюхи остановили их и подняли с земли префекта, он долго не мог прийти в себя, а потом, хромая на обе ноги, ушёл на трибуны.
Раб Патробий, как более лёгкий, первым приблизился к поворотному столбу. Патробий, разгорячённый смертельно опасной гонкой, не хотел отдавать первенство императору, но грязно бороться с Нероном он не мог.
Квадриги стремительно сближались колёсами, и когда Нерон вновь направил ось на спицы колеса соперника, Патробий, зло усмехаясь, не видя выхода в борьбе с императором, рванул вожжи так, что в следующее мгновенье колёса двух квадриг сцепились друг с другом. Тонкие оси лопнули, соперники, как пушинки, взлетели в воздух.
Конюхи с арканами и сетями бросились навстречу коням. Зрители выскочили на поле, подняли Нерона. Он улыбался дрожащим лицом, с головы до ног покрытый грязью.
– Идёмте в термы. Там я напишу стихи об этой скачке.
К императору подошёл Тегеллин, озираясь по сторонам. Тихо сказал:
– Август, всем известно, что в это время ты ходишь в термы.
– Говори точней, – отрывисто, между торопливыми глотками воздуха, ответил Нерон, уже предчувствуя нечто неприятное для себя.
– Мне только что передали, что Августина ждёт тебя на пути к термам в носилках с занавесками.
Нерон судорожно сжал двумя руками кифару с порванными струнами.
– Продолжай.
– Август, я не смею сказать тебе.
– Говори. Приказываю! – с угрозой в голосе крикнул Нерон.
– По городу ходят слухи, что.… Нет, не смею, – с нарочитым стоном пробормотал Тегеллин, закрыв лицо руками и внимательно глядя на императора в щель из-за толстых пальцев.
– Я догадываюсь. Говори.
– Ты, Август, вступил в кровосмесительную связь с Августиной. И якобы были пятна на подушках носилок, в которых ты и твоя божественная мать находились за закрытыми занавесками.
– О, – иронично улыбаясь, ответил Нерон, – вот зачем Августина плотно закрывала занавески.
– Да, она хочет приучить тебя и народ к мысли, что брак между вами неизбежен. Ведь ты боишься ей, Август.
– Заткнись, Тегеллин. Не смей говорить так о моей божественной матери, иначе я разобью кифару о твою голову, – прорычал Нерон и крикнул в пространство: – Дайте мне кифару, освещённую в храме Аполлона!
Он стоял голый в окружении своих вольноотпущенников и друзей и морщился грязным лицом. Он хотел быть в этом мире актёром, поэтом, певцом, кифаредом, великим спортсменом. Чтобы спустя тысячи лет люди восхищённо говорили бы о нём: «О! Я знаю! Это известный всем Нерон. Его сладкий голос и поныне никем не превзойдён!» Император мысленно видел огромные толпы людей, которые нескончаемым потоком шли мимо его статуй великого олимпионика, великого кифареда, великого певца и великого актёра. Люди на разных языках говорили: «Великий… великий… великий…» Нерон был весь в далёком будущем, как вдруг услышал рядом с собой раздражённый голос Тегеллина:
– Август, вернись на землю!
Император вздохнул, оторвался от созерцания чудесных видений его славы и быстро перешёл к земным делам:
– Смойте с меня грязь. Я иду за Поппеей.
И опять прозвучал вечно недовольный, скрипучий голос Тегеллина:
– Август, на том пути тебя ждёт в закрытых носилках Акта.
– Хм… а разве отменён закон, запрещающий частным лицам использовать носилки с занавесками?
– Каков будет приказ, Август?
Несмотря на падение, Нерону понравилась гонка, и он был в благодушном настроении, к тому же ему хотелось встретиться с любовницей Актой, красавицей Актой. Её в своё время подарил Нерону Сенека. Она была рабыней. А после того, что Акта показала императору в постели, он громовым голосом приказал заковать её в кандалы и вызвать претора. Претор торжественным, медленным жестом руки опустил свой жезл на кандалы, что сковывали нежное тело рабыни, и произнёс формулу. Действие претора означало, что девушка никогда не была рабыней и отныне получала статус «гражданка Рима». Теперь она была богатой.
Но, взяв в руки новую кифару, император тотчас забыл о любовнице, о сладких минутах стремительной гонки, начал настраивать струны, к которым никто не смел прикасаться, кроме Августа.
Когда он закончил настройку инструмента и ласковым движением провёл по струнам, и услышал их нежный звук, то в порыве чувства громко воскликнул:
– Скоро я сложу с себя звание принцепса и уеду в Ахайю, где буду кормиться ремеслом кифареда и певца!
Гай Петроний один из первых ударил в ладоши, а Сенека, бывший воспитатель Нерона, сказал, сильно напрягая голос, чтобы все друзья императора услышали его слова:
– Тебе не надо так говорить. Народ не поймёт твоей шутки.
Скользящие по струнам кифары пальцы Нерона остановились. Нерон приятно улыбнулся Сенеке.
– Твой совет, как всегда мудрый. Я воспользуюсь им. – Он быстрым шагом направился во дворец и сказал тихо, сквозь зубы Тегеллину, который хромал рядом с патроном: – Сделай так, чтобы Сенека сегодня не приближался ко мне. Сволочь, он по-прежнему пытается руководить мной, словно я не император, а его ученик.
– Август, ты умнеешь с каждой секундой. К тому же Сенека никогда не называет тебя Августом.
– Займи моих друзей хорошим обедом, а я займусь государственными делами, – ответил Нерон и прибавил шаг.
Он давно заметил вольноотпущенника Магна, составителя всех речей императора, с которыми он обращался к друзьям, к матери, к сенату, к народу. Магн – плешивый, кривоногий коротышка – держал в руке связку вощёных табличек и скромно стоял в стороне от свиты Нерона. Он и во дворец прошёл последним, но едва Магн вступил в императорский кабинет, как принцепс прыжком бросился к нему, вырвал из его руки связку и сел за стол.
Нерон схватил край своей тоги и торопливо обтёр влажные ладони и пальцы, не отрывая взгляд от стопки табличек. Но когда он начал развязывать связку, то отметил, что пальцы вновь стали влажными. Это вызвало ярость в душе императора, и он, рыча, дёрнул концы бечёвки и затянул узел.
На помощь к Нерону бросились его вольноотпущенники. Но всех опередил Тегеллин. Он не собирался руководить друзьями императора, а в нарушении приказа стоял за спиной Нерона. Префект ловким движением рук вытряхнул из связки таблички и аккуратно положил их стопкой справа от императора.
За край стола сел Магн и, вынув из-за пазухи чистые таблички и стилет, начал быстро записывать речи, исходя из событий дня. Магн, то есть, Великий, выдвинулся из группы рабов-грамматиков и занял высокое место во время принципата Клавдия, который не мог разумно говорить, более того, не знал, что говорить и как говорить с людьми, окружавшими его, но владел удивительной памятью. Имея всегда под рукой Магна, император начал поражать своими речами народ и сенат, но все поступки обличали в нём сумасшедшего человека. Единственный закон, который он сам придумал, заставил хохотать всю империю. Закон, разрешающий пукать на пирах. Сенаторы несколько дней внимательно и серьёзно изучали его, помня, что по приказу добренького Клавдия были казнены тридцать пять сенаторов и более трёхсот всадников, пока Нарцисс, вольноотпущенник, правивший империй за спиной принцепса, не послал в сенат народного трибуна, чтобы тот объявил императорскому указу «вето».
Магн с помощью стенографистов тайно переписал записки Августины, а потом вместе с писцами сделал расшифровку текста.
О том, что у матери есть записки, и она хотела издать их отдельной книгой, Нерон узнал от шпионов, которыми руководил Магн.
Нерон боялся Августину не потому, что она отравила трёх своих мужей, а потому что на ней лежал блеск славы Германика, её отца. Народ империи, сенат, германские и восточные легионы помнили бывшего полководца, его супругу, их детей: Калигулу, Друзиллу, Агриппину-младшую и Ливиллу. То, что дети Германика запятнали себя чудовищным развратом и позором, забылось народом. Осталась память о благородстве, чести, высокой нравственности Германика и его супруги, Агриппины-старшей. Граждане Рима и Италии восхищались тем, что Агриппина-старшая руководила германскими легионами, когда им грозил разгром во время похода за пограничный Рейн. Она же принимала парад победоносных легионов. Вот по этой причине народ любил её дочь Агриппину-младшую, хотя все знали, что дочь была сослана на остров Калигулой за то, что объявила себя проституткой. Дело в том, что римских гражданок за разврат претор судил и отправлял в изгнание. Чтобы уйти от строгого неумолимого закона, две младшие сестры Калигулы объявили себя проститутками, на которых действие вышеуказанного закона не распространялось. Но их поведение было предусмотрено другим законом. Родственникам дано было право судить развратных римлянок. Император Калигула исполнил волю закона и отправил двух проституток и Сенеку, мужа младшей проститутки, на бесплодные, скалистые острова, отмерив преступникам весьма скудное питание, достойное только рабов. Закон суров, но это закон. После смерти Калигулы народ Рима встретил Агриппину-младшую, когда она вернулись из ссылки, как героиню, выйдя из города навстречу. Она же тотчас по прибытии в Рим начала бороться за власть. Будучи племянницей императора Клавдия, Агриппина женила его на себе.
Поведение матери страшно напугало семнадцатилетнего Нерона в час смерти Клавдия. Она сама, собственной рукой облила ядом белые грибы в присутствии мужа и всего большого семейства во время обеда, и в полной тишине приказала рабам подать их императору. Холодно и жестоко улыбнулась ему и сказала:
– Мой божественный супруг, это самое лучшее кушанье, которое ели только боги. А теперь отведай и ты.
Словно парализованные, дети Клавдия с ужасом смотрели на своего отца. Он, посмеиваясь, как обычно с жадностью схватил гриб и торопливо сунул его себе в рот, а потом – второй, третий. В тишине звучали только смех императора, его чавканье и натужные глотки. Клавдий чувствовал себя хорошо, и Агриппина раздражённым голосом крикнула, глядя на императора:
– Лакуста!
Из-за портьеры в зал осторожно и быстро скользнула создательница ядов.
– Что ты приготовила?!
В это время Клавдий захрипел. Его рвало. Агриппина сделала знак врачу и другу императора Ксенофонту, стоявшему наготове с отравленным пером.
– Прочисти ему горло.
У друга императора не дрогнула рука, когда он ввёл в открытый рот Клавдия смазанное ядом перо якобы для того, чтобы вызвать рвоту. От новой порции яда Клавдий поник головой. У него обвисли плечи. Император повалился лицом на стол, а спустя минуту, у него остановилось сердце.
Агриппина, между тем, с большим аппетитом ела дичь и спокойно смотрела на конвульсии супруга. Когда же врач сказал, что император умер, она холодно посмотрела на Нерона и властно сказала, словно приказала:
– Теперь ты – император!
Дети Клавдия по-прежнему сидели неподвижно, боясь выказать своё сострадание к отцу. В комнату вбежали телохранители императора – германцы, молодые, высокие, с длинными до плеч белыми волосами, которые телохранители не хотели обрезать, несмотря на то, что белый цвет и длиннота волос вызывали смех у преторианцев и городского люда. Германские юноши не знали римский язык, обычай, нравы, но у них были глаза, были уши, были чувства. И когда караул телохранителей сменялся очередным, и свободные от дежурства при особе императора Клавдия возвращались в свою казарму, то сокрушённо качали головами, готовые начать обмен мнениями по поводу того, что они видели и слышали. Но их вождь, старый, опытный воин, знавший Германика, тихо, с угрозой в голосе говорил: «Молчание». Телохранители тотчас плотно сжимали губы. Однако их вождь Ульрих понимал, что с ними иногда нужно проводить беседу, поэтому он, прохаживаясь по казарме, перед замершими телохранителями, кратко говорил:
– Если вы не хотите получать хорошие деньги, красивых девушек, то вы можете вернуться на родину, в свои леса, где вы будете вновь пахать и сеять или заниматься грабежом, пока не попадёте в рабство римлянам.
Конечно, юноши презирали смерть, любили войну, но, живя в Риме, они точно знали, что никогда по своей воле не смогли бы покинуть солнечную, весёлую, многолюдную Италию и самый лучший город мира – Великий Рим. Они молчали и верно служили Клавдию. И, хорошо зная, кто есть кто в окружении императора, германцы, при виде неподвижно лежавшего на полу Клавдия, вырвали из ножен свои мечи, чтобы немедленно изрубить в куски Агриппину, её сына Нерона, врача Ксенофонта и вольноотпущенника Палланта, любовника Агриппины. Паллант, в сущности, обыкновенный раб, которого поднял из ничтожества Клавдий, подарил ему сотни миллионов сестерциев, сделал министром казначейства, был сообщником Агриппины в убийстве своего благодетеля и друга. А в прошлом Паллант был одним из организаторов убийства Гая Калигулы и этим гордился, и почти любой разговор начинал с того, как он уничтожил тирана. Здесь он уйдёт от смерти. Он вскочил из-за стола и метнулся вместе с врачом вон из комнаты. И не смогли бы они уйти от длинноногих германцев, но в комнате находились Сенека и префект претория Бурр, которые были участниками заговора. Бурр окликнул стоявших за портьерой преторианцев. Они вбежали в комнату, обнажая мечи и, вероятно, над телом убитого императора завязалась бы кровавая схватка. Все знали свирепость германцев и уже считали себя погибшими, но появился Ульрих. Его невмешательство в события Агриппина купила за золото.
– Хальт! – крикнул он германцам и указал пальцем в сторону выхода. – Шнель!
Юноши тотчас опустили мечи и немедленно вышли из комнаты.
С того момента, как появились германцы, неожиданно для Агриппины, она тряслась от страха за свою жизнь. А едва Ульрих увёл телохранителей, Агриппина бросилась к Британику, к сыну Клавдия и с надрывом закричала о том, как она боялась за его жизнь. Потом со слезами на лице обратилась к врачу:
– Ксенофонт, обрадуй меня, что мой божественный супруг живой.
– Да, он живой, – заикаясь от только что пережитого страха, ответил с противоположной стороны комнаты Ксенофонт и радостно вскрикнул: – Он шевелится!
Агриппина в ужасе обхватила руками свою голову, потому что знала каким лютым зверем становился Клавдий в припадке гнева.
– Убейте его скорей! – завопила Агриппина.
Бурр с обнажённым мечом подошёл к императору, осмотрел его, потом наклонился, припал ухом к груди Клавдия и, удовлетворённо хмыкнув, по-военному кратко сказал:
– Он мёртвый. Дайте ему припарки.
В словах префекта одно противоречило другому. Дело в том, что во время обсуждения деталей убийства Клавдия, заговорщики решили, что смерть императора необходимо скрывать несколько дней, а для этого нужно было объявить его больным и обложить припарками.
– Дайте моему божественному супругу припарки! – властно и сильно крикнула Агриппина.
Её лицо вновь стало спокойным и холодным. Она приказала принести заранее приготовленное золото и своими руками сыпала монеты в подставленные плащи преторианцев, которых привёл Бурр. А в это время рабы в присутствии детей Клавдия торопливо обкладывали мёртвое тело горячими припарками.
Три дня Агриппина скрывала смерть мужа от народа и осыпала золотом рабов, преторианцев, сенаторов. А чтобы ввести народ в заблуждение, заговорщики приглашали актёров, певцов. И они пели песни, плясали перед трупом, хорошо видя и понимая, что перед ними лежал на ложе труп, на теле которого рабы то и дело меняли горячие припарки. На третий день был схвачен и брошен в политическую тюрьму «Карцер» вольноотпущенник Нарцисс, неофициальный правитель империи. И только после этого Агриппина объявила народу о смерти Клавдия, а Нерон, сопровождаемый своим воспитателем Сенекой и Бурром, отправился в лагерь претория, где все четырнадцать когорт торжественно присягнули ему как императору.
Потом начались казни сторонников Нарцисса. На Гемонии сбрасывались каждый день сотни мёртвых тел. Народ аплодировал Агриппине за убийство аристократов и наглых вольноотпущенников, которые люто грабили империю. Народ, то есть, пролетарии, которых в Риме было более трёхсот тысяч, любили дочь Германика, и ничто не могло очернить её в глазах простолюдинов. Она хотела выйти замуж за Палланта, чтобы отстранить от власти Нерона и править империей единолично.
Вновь был составлен заговор опытным интриганом Сенекой и туповатым Бурром. На сцене жизни появилась очаровательная красавица Акта, юная, игривая, весёлая, она легко обворожила Нерона. И тот, влюбившись в рабыню, начал подчиняться ей, выйдя из подчинения матери. Более того, ослеплённый чувством любви, Нерон подкупил группу сенаторов, чтобы они клятвенно подтвердили его слова в сенате, что Акта из царского рода, так как он решил жениться на ней. Сенека был душеведом. Он составил список того, что должна была требовать от любовника Акта. Нерон окружил себя центурионами претория и говорил с матерью только в их присутствии, потом, осмелев, он лишил её в соответствии со списком Сенеки свиты, телохранителей, выселил из дворца в частный дом. Мать поняла, кто руководил её сыном, мгновенно изменилась. Стала чувственно-ласковой с Нероном, бесстыдно в присутствии центурионов показывала ему свои интимные части тела, словно это было то, что требовал наедине от матери её сын.
Умение Агриппины перевоплощаться напугало драматурга Сенеку, всех друзей Нерона, потому что за победой Агриппины немедленно последовала бы их казнь.
Сенека отправил Акте миллионы сестерциев и подробный список того, что она должна была делать в постели с Нероном, что говорить в момент жарких объятий любовника.
Агриппина не дремала.
Так как сын обязан был учитывать мнение народа и появляться перед матерью несколько раз в день, и он появлялся, окружённый центурионами, она принимала Нерона в спальне. Агриппина лежала на ложе, чуть прикрыв интимные части тела лёгкими, прозрачными одеждами и говорила с сыном томным, чувственным голосом. И так как он стоял, окружённый мрачными преторианцами, мать нежно просила сына то накрыть её, потому что ей было холодно, то раздеть её, потому что ей было жарко. Сын подчинялся, и она хватала его влажные руки и прижимала к своей груди, громко восклицая:
– Когда я родила тебя, то кормила этой грудью!
Нерон знал, что мать никогда не кормила его своей грудью. Он пугался её чувственности, обильно потел. От него исходило зловоние. Императора колотила дрожь. Он боялся подойти к своей матери, которая страстно говорила ему о том, как она любила его. А ведь нужно было обязательно обменяться с матерью поцелуями.
В те годы были очень популярными в театрах драмы «Орест-матереубийца», «Ослепление Эдипа», то есть, драмы о кровосмесительной связи матери с сыном, потому что зрители хотели видеть нечто ужасное, бьющее по нервам.
Агриппина вновь хотела взять власть над империей в свои руки, любой ценой. Её поведение приводило в ужас не только Нерона, но и его друзей, потому что каждый, вечером покидая дворец Нерона, боялся, что император мог ночью подпасть под влияние матери и послать по её приказу убийц к своим друзьям.
Сенека внимательно изучал любимые народом драмы, потому что Агриппина вела себя так, как героини этих драм. Она играла роль, конечно, зная, что все матери «чёрных» драм были убиты сыновьями. Она не хотела успокоиться, отойти от власти и наслаждаться жизнью. Августина, как и её мать, Агриппина-старшая, свирепо рвалась к единоличной власти, никого не щадя, презирая всех, готовая ради своей цели развязать гражданскую войну. Не добившись кровосмесительной связи с собственным сыном, Агриппина начала оказывать внимание Британику, говоря всюду, что ему пора стать императором. Народ чутко реагировал на слова Августины: Британика люди начали приветствовать, как принцепса.
Сенека составил новый заговор, потому что перепуганный Нерон не знал, что делать. Сенека, великий драматург, объяснил Нерону, что Британика нужно лишить невинности, чтобы народ не обожествлял его после смерти, потому что смерть невинного юноши могла вызвать у людей большое сострадание к нему и ненависть к Нерону.
Нерон поступил так, как ему приказал Сенека. А потом вновь была вызвана во дворец великая отравительница Лакуста с набором ядов.
Британик не был бессловесной тварью. Он всё видел, понимал, как и две его сестры, Октавия и Антония, но в схватке двух матёрых убийц, в схватке за власть, юноша был ничтожной жертвой. Он мог только стенать и плакать.
Появление Лакусты во дворце ни для кого не было тайной. Семейство не знало только одно: кто будет отравлен сегодня. Мать и супруга Нерона Октавия ежедневно принимали обильное противоядие. Когда весёлый Нерон и добродушный Сенека обменивались длинными речами, поразительно умными и красивыми, написанными задолго до обеда, что было в моде того времени – рабы, отравили ядом питьё и поставили его перед Британиком. Он выпил и в конвульсиях упал лицом на стол, как и его отец. Агриппина и сёстры Британика были страшно напуганы и в ужасе отодвинули от себя еду. А Нерон, весело смеясь, сказал, что Британик с детских лет страдал падучей, что сейчас он оклемается.
Сёстры и Агриппина истерическими голосами, визгливо стали смеяться, громко говорить, словно поверили словам убийцы, в то время как несчастный юноша корчился на полу в предсмертных судорогах.
Это был жестокий предметный урок для Агриппины, придуманный Сенекой. Но она не отказалась от схватки за власть.
В империи было много потомков принцепса Октавиана Августа, и Агриппина бросилась к ним, то одного, то другого называя законным наследником божественного Августа. Нерон в ярости грозил матери, что он готов сложить с себя звание императора и в качестве частного лица удалиться на Родос, если она не перестанет возмущать народ.
На острове Родос жил изгнанником будущий император Тиберий, великий полководец и умнейший человек своего времени. Нерон, а точнее, Сенека заметил, что история повторилась самым поразительным образом.
После смерти императора Августа германские легионы потребовали от своего полководца Германика принять титул императора и двинуть восемь легионов на Рим, где сенат и народ присягнул на верность Тиберию. Но Германик отказался в резкой форме от предложения солдат, тем более что он был приёмным сыном Тиберия. Его жена была внучкой Августа и начала требовать от мужа начать гражданскую войну. Германик пытался объяснить ей, что такая война обращала в пепел города, губила миллионы людей, что он послушный сын Тиберия и будет ждать своего часа. Агриппине ничего не говорили эти слова. Она стала искать популярности среди солдат, являясь перед ними с маленькими детьми, стала готовить заговор. Об этом узнал от шпионов Тиберий. Он долго медлил, обдумывал последствия своего поступка и приказал тайно убить Германика. Агриппина не успокоилась. Она стала грозить Тиберию своими двумя старшими сыновьями. Они были убиты по приказу императора. Дочь беспощадно повторила свою мать, и Нерон обрушил удары на потомство Августа. Они один за другим вместе с семействами отправлялись на Гемонии. Народ веселился, глядя на казнь благородных патрициев и сенаторов. Аристократы были в ужасе. А божественная мать находила всё новых и новых потомков Августа. Она писала письма легатам и отправляла золото офицерам германских легионов.
Нерон развлекался ночными драками, ходил днём и ночью по лупанарам, возвращался во дворец пьяным. Но когда Магн подавал ему тайно скопированное письмо матери, он мгновенно трезвел и бил кулаками по своей голове, сипло крича:
– Что делать с этой матерью!
Все друзья Нерона, его кабинет министров, то есть, вольноотпущенники думали об одном слове – «убийство». Иного выхода не было, но никто не решался сказать это слово вслух в присутствии Нерона. Одно дело, когда отец или мать убивали своих детей. В этом не было ничего преступного. Тогда как отцеубийство или матереубийство было жутким преступлением. По римскому закону убийцу родителей живого зашивали в мешок вместе с петухом, собакой, змеёй и обезьяной и бросали в море. А имя его предавалось проклятию во всех храмах и оставалось в памяти потомков, как постыдное и позорное, недостойное того, чтобы кто-либо ещё носил имя убийцы в роду.
Но такое убийство было редким явлением, как в прошлой, так и в настоящей жизни великого Рима. Его совершали простолюдины и аристократы, не обличённые государственной властью. А в кровавых спектаклях события всегда развивались в вымышленных городах Ахайи и в других странах эллинов. Простолюдины, то есть «чернь», как их презрительно именовали с древнейших времён писатели-аристократы, были силой, на которую опирались императоры рода Юлиев-Клавдиев. Эта сила могла уничтожить Нерона. А он очень дорожил своей властью, хотя часто говорил, что в любой момент готов ради искусства стать частным человеком.
Когда Нерон начал выступать на сцене в качестве актёра и певца, он, разумеется, исполнял роли трагедийных героев в «чёрных» драмах. А они все были о матереубийцах. Нерон постоянно думал об убийстве своей матери, которая всё более и более пугала его тем, что могла в любой момент броситься в лагерь претория и крикнуть солдатам: «Я дочь Германика! Выполняйте мой приказ!» Нерон был уверен, что рядовые солдаты немедленно подняли бы на щит божественную мать, так как презирали Тегеллина и Фения Руфа, а Германика помнили.
Нерон схватил со стопки дрожащей рукой верхнюю табличку и поднёс к своему лицу, к глазам, не чувствуя, что из его безобразно открытого рта потянулась вниз слюна, а от его потного тела начал исходить тяжёлый, зловонный запах. Он долго вглядывался в строчки слов, но не смог понять смысл текста.
– Где Тегеллин?!
– Я здесь, Август!
– Читай, что она пишет.
У Тегеллина был хороший чёткий голос, но он читал текст женщины, которая писала по-женски, и Нерон никогда ранее не читавший женские тексты, иронично улыбаясь, начал смотреть на префекта.
Римские орлы, вероятно, оттого, что им некуда было сесть в лесах Германии, садились то на плечи маленького Калигулы, то на плечи Германика, то на плечи его супруги и даже нашли малютку Агриппину, и сели на край её колыбели. Чудеса и божественные явления, словно боги Олимпа покинули свою гору и прочно обосновались в лагере Германика, шли непрерывным потоком. То вдруг река начинала говорить на греческом языке и предсказывать членам семьи Германика их судьбу. То дубы кланялись и тоже по-гречески говорили то, что ожидало семейство в Риме, на Востоке, говорили долго, красиво, как настоящие риторы или грамматики.
Тегеллин вскоре утомился, перечисляя божественные знамения и удивительные разговоры природы, окружавшей римский лагерь. Голос префекта стал монотонным, бубнящим, навевающим сон.
Голова императора начала медленно клониться вниз. Он резким движением тряхнул головой, быстро утёр лицо ладонями, встал из-за стола и начал ходить по кабинету, глядя прямо перед собой. Нерон думал о сложной ситуации, которую создала его божественная мать.
Народ, конечно, любил своего императора, хотя ежедневно ругал на форуме за гульбища, за разврат. Но Нерон знал, что его поведение очень нравилось простолюдинам, то есть, пролетариям, которым он вернул раздачу денег на проституток, отменённую в своё время императором Тиберием. Во всех городах Италии пролетарии ежемесячно стали получать деньги на естественные нужды.
Врагами императорской власти были сенаторы, патриции и всадники. Офицерский состав легионов состоял только из патрициев и всадников. Они хорошо знали, что происходило в Риме из писем друзей и родственников и из газеты сената «Ежедневные ведомости». Сенатская газета уходила в легионы, во все города империи. Её охотно читали и варвары за пределами империи. Конечно, противостояние матери и сына не отражалось на страницах газеты, но недавно произошло то, что было кратко изложено в «Ежедневных ведомостях» и напугало Нерона.
Он находился в сенате, сидел на трибуне в кресле консула, будучи консулом, и вёл заседание сената, как вдруг в зал вошла его мать. Божественная мать имела право в любой час войти в сенат, но, предупредив сенаторов, испросив разрешение императора или консула о своём желании появиться в зале.
В храме Юпитера Благого и Величайшего затихли голоса. Все смотрели на божественную мать, которая твёрдым, уверенным шагом направлялась по проходу между лавками с сенаторами в сторону трибуны, где находился её сын, растерянно глядевший на мать. Люди поняли, что Агриппина решила сделать и, потрясённые её поведением, оцепенев, следили за нею, ожидая наступления постыдных минут в жизни сената и империи.
Ещё была надежда у сенаторов, что божественная мать хотела сесть на переднюю лавку напротив сына. Но она прошла вперёд и начала подниматься по ступеням на трибуну. Казалось, что момент величайшего позора был неизбежен. Оставалось не более десяти секунд, необходимых для того, чтобы Агриппина дошла до курульного кресла консула и села в него рядом с сыном.
Сенека, сидевший на передней лавке, громко сказал:
– Принцепс, что же ты медлишь? Поприветствуй свою божественную мать.
Нерон вскочил с кресла настолько быстро, что едва удержался на дрожащих ногах и, как пьяный, раскачиваясь из стороны в сторону, пошёл навстречу матери. Тогда Сенека вновь воскликнул:
– Принцепс объявляет перерыв!
Сенаторы поднялись с лавок и, опрокидывая их, почти бегом покинули зал, чтобы Агриппина, если она по-прежнему желала сесть в кресло консула, то могла бы это сделать в пустом зале без нанесения позора сенату и империи.
Агриппина остановилась и с яростью взглянула на Сенеку, как ударила. Он спокойно выдержал её взгляд. Божественная мать повернулась спиной к сыну, чтобы уйти из зала, но остановилась и, сдерживая себя, несколько раз глубоко вздохнула. И только после этого она холодно посмотрела на Сенеку, на бывшего своего друга, который в прошлом был мужем её младшей сестры Ливиллы и был отправлен Калигулой в ссылку. Божественная мать заговорила подрагивающим голосом:
– Ты сгнил бы на острове. Я спасла тебя, вернула в Рим, осыпала тебя золотом. И ты же предал меня, мерзавец! – Не отрывая ненавидящего взгляда от Сенеки, она сильным жестом руки указала на растерянного Нерона. – Ты думаешь властвовать над ним вечно! Ты не знаешь его!
Он улыбнулся Агриппине приятной улыбкой и, хлопая в ладоши, воскликнул:
– Августина, ты показала игру, достойную только божественной матери. Я наслаждался, наблюдая твою игру.
Она с трудом сдержала своё желание броситься на Сенеку и вцепиться ногтями в его напомаженное морщинистое лицо или крикнуть, что он старик, изображающий собой юношу. Агриппина ещё раз глубоко вздохнула и молча вышла из храма.
На следующий день в газете было кратко сказано о визите Агриппины в храм Юпитера Благого и Величайшего.
«Мать божественного Августа божественная Августина почтила своим присутствием сенат».
Нерон воспринял это сообщение, как сигнал легионам, потому что в заметке не было сказано, что Агриппина пришла в сенат по повелению Нерона, то есть, о противостоянии матери и сына узнала вся империя. А сенаторы своим предательством императора открыто перешли на сторону Агриппины.
– Что она творит?! – душераздирающим голосом сипло, закричал Нерон, сминая в комок страницы газеты.
…Нерон остановился напротив Патробия, увидев в его руке папирусный свиток с печатью на шнуре, отрывисто спросил:
– Что это?
– Из Иудеи приехало посольство…
– Ты забыл, Патробий, – резко перебил министра по прошениям Нерон, – что такой страны нет!
– Да, Август. Из твоего прокураторства «Палестина» приехали евреи с просьбой освободить соплеменников, которых ты, Август, отправил на остров Сардиния на каменоломни за ересь, за то, что они были волнуемы их Хрестом. – И так как Нерон продолжал стоять и смотреть в лицо Патробию, он добавил: – Их двое человек, посол и переводчик.
Но Нерон, глядя в лицо Патробию, внимательно слушал то, что монотонно читал Тегеллин, и не услышал слова министра, да и не хотел слышать.
Августина подробно рассказала об одном эпизоде жизни её матери. Когда она заболела, к ней пришёл император Тиберий. Она начала осыпать его бранью, перемежая слова брани просьбами, чтобы он позволил ей выйти за кого-либо замуж. Тиберий, не сказав ни слова, молча ушёл.
– Ха! – смеясь, крикнул Нерон. – Какое коварство! Тегеллин, прочитай это место сначала.
Тегеллин утёр мокрое лицо рукавом туники.
Императора Тиберия ненавидели пролетарии за то, что он сократил раздачи, хотел всех посадить на землю. Ненавидели за то, что он часто изгонял проституток из Рима. За то, что хотел навсегда запретить гладиаторские битвы. Патриции и всадники ненавидели Тиберия за то, что он ввёл ограничения на роскошь, на пиры, так как золото уходило в Индию и Китай за шёлк и за деликатесные продукты питания.
Он никогда не разговаривал со снохой Агриппиной. Но однажды схватил её за руку и процитировал стих из греческой трагедии:
– Ты, дочка, считаешь для себя несчастьем, что не царствуешь?
Когда сноха заболела, Тиберий, вынужденный считаться с мнением народа, пришёл к ней. Молча слушал её брань в свой адрес. Стоял и прямо смотрел в лицо Агриппины. И вдруг она заговорила о своём желании выйти замуж. Он знал от шпионов, что Агриппина тайно прелюбодействовала с его врагом Азинием Галлом, которого любил народ и уважали патриции, который мечтал о власти. Его лицо не дрогнуло. И только придя в свой кабинет, Тиберий дал волю своим чувствам. Свирепым ударом кулака он проломил дубовый стол и закричал:
– Она не хочет успокоиться! Она замыслила дворцовый переворот с Азинием Галлом!
И вот тогда префект претория Элий Сеян предложил императору хитрый план. Он предупредит Агриппину, что она будет отравлена во время обеда. А император предложит ей фрукты. Она откажется. И тогда её можно будет по закону за оскорбление величества отправить в ссылку. Ведь отказ Агриппины – это обвинение самого императора в попытке отравить её.
Нарочно на обед Тиберий пригласил многих сенаторов. Он возлежал за столом напротив возлежавшей угрюмой снохи. Рабы принесли и поставили подносы, полные прекрасных фруктов, перед Тиберием, Агриппиной, перед всеми гостями. Все начали есть. Тиберий взял с противоположного подноса яблоко и протянул его снохе.
– Дочка, прими мой подарок.
Агриппина жестом руки приказала рабам убрать со стола фрукты и не приняла яблоко. В зале наступила тишина. Тиберий возлёг на ложе, повернулся к матери Ливии и громко сказал:
– Теперь я могу отправить её в ссылку.
На следующий день сенат единогласно приговорил Агриппину к ссылке на остров Пандатерия.
Тегеллин замолчал и перевёл ожидающий взгляд на Нерона. Все вольноотпущенники насторожились, понимая, что император должен сейчас на что-то решиться.
– У меня нет причины, чтобы отправить её в ссылку, – медленно заговорил Нерон. – Но я не могу всё время ждать её удара. – Он помолчал несколько секунд и просто сказал: – Её надо убить, но как? Ведь недавно был отравлен Британик. Народ всё поймёт.
Вольноотпущенники облегчённо перевели дух, задвигались вокруг своего патрона. Вперёд выступил адмирал Мизенского флота Аникет – то есть, Никита. За своё ничтожество, никудышность и лень он был приставлен Агриппиной дядькой к младенцу Луцию Домицию Агенобарбу, потому что больше ни на что не был способен. Он многому научил будущего императора, который, став императором, даровал рабу свободу, всадническое достоинство и звание адмирала флота. Хотя ленивый раб не захотел учить грамоту и учиться плавать. Раб Никита люто ненавидел свою бывшую хозяйку. Он давно придумал, как убить её, но молчал.
– Август, не знаю почему, но однажды я приказал построить особый корабль. Он может выйти в море, а потом легко распасться на части и затонуть.
– Но мать умеет плавать, – возразил сын, сразу отметив, что план убийства матери был великолепный.
– Матросы баграми добьют её, – торопливо ответил Никита, боясь, что император мог отказаться использовать его ловкий план.
Но Нерон улыбнулся. И тогда Никита, широко открыв свой рот, полный гнилых зубов, с удовольствием рассмеялся, мысленно увидев, как его матросы убивали божественную мать.
Император улыбался по другой причине. Слово «добьют» напомнило ему недавний эпизод любовной встречи с красавицей Актой. Очередной раз восхищённый её страстностью, умелостью и великолепными интимными частями тела, он вскочил с постели, схватил кифару и крикнул:
– Танцуй!
Притопывая ногой, император начал играть бешеные ритмы, которые непрерывным потоком рвались из его души, воспламенённой любовью и страстью.
Акта с фигурой юной Венеры была искусной и в танцах.
Непрерывно лупя рукой по струнам кифары и вопия что-то непонятное для самого себя, Нерон быстро двигался вокруг танцующей любовницы, алчно смотрел на её подрагивающие формы тела, на движения бёдер, ног. Он хотел всё это видеть бесконечно долго. И хотя его руки стали влажными, а пальцы часто пролетали мимо струн, но он не прекращал бешеной игры и пляски, решив увидеть победный итог.
Акта рухнула на пол и сладострастным голосом взмолилась:
– Рыжебородый малыш, ты добил меня! Пощади!
Тяжело дыша, он поставил дрожавшую от усталости ногу на её грудь и, прохрипев: « Я люблю добивать женщин», запел песнь победы…
Продолжая улыбаться, император вновь задумался о том, на какой из двух красавиц нужно было остановить свой выбор, жениться. Акта и Поппея были одинаково любимы Нероном, хотя у них были разные характеры. Акта была весёлой, озорной девчонкой. При виде её, он сразу переходил на особый шаг, который в народе назывался «постыдным», а его туника ниже пояса сама собой начинала оттопыриваться.
Поппея была благородной патрицианкой, холодной и властной, как его божественная мать. Она раздражённым голосом требовала, чтобы он удалил на остров свою жену Октавию или удавил её.
– Ведь ты владыка огромной империи. Что тебе мешает поступить так, как ты хочешь. Женись на мне!
– Я ещё не подумал, – нерешительно говорил Нерон, отводя свой взгляд от грозного взгляда Поппеи, хотя ему очень нравилось то, как патрицианка смотрела на него блистающими гневными глазами.
– Тогда ты меня больше не увидишь!
Боясь, что Поппея могла навсегда покинуть его, он хватал своими влажными руками её руки, торопливо бормотал, что народ не желал его развода с Октавией.
Поппея в ярости пронзительно кричала:
– Ах, так! Ты боишься мненье народа! Тогда не лезь ко мне, слюнтяй!
Она хлестала тяжёлыми ударами ладоней по его голове, царапала длинными ногтями его божественное лицо, била ногами, целя в божественный пах. Поппея, как женщина, хорошо знала, что он не божественный, а обыкновенный и не лучше чем у других.
Божественный слюнтяй озлоблялся и, рыча, отвечал ударами на удары. И, взъярённый от позорящих его титул кровавых отметин, злорадно смеясь, он, в свою очередь, с удовольствием царапал лицо благородной патрицианки.
Вероятно, в предчувствии будущих драк с императором, Поппея, когда она ещё не была знакома с Нероном, закрывала своё лицо повязкой. И никогда не выходила без неё на улицу. Теперь же оцарапанная божественными руками Нерона, она имела повод, чтобы выходить на улицу с тщательно закрытым лицом.
Тегеллин напряжённо наблюдал схватку двух любовников через щелку двери и в нужный момент врывался в спальню, чтобы остановить свирепую драку.
Когда Нерон покидал благородную патрицианку, осыпаемый народной, грубой бранью, какую можно было услышать только от проституток в лупанарах, то был уверен, что обязательно женится на ней. Когда он покидал Акту, то был уверен, что обязательно женится на ней…
Нерон тряхнул головой. Нужно было придумать план, как заманить божественную мать в ловушку, ведь он с ней давно не оставался наедине. Его рабы, конечно, были хитрыми, да не умными.
– Тегеллин, позови Сенеку.