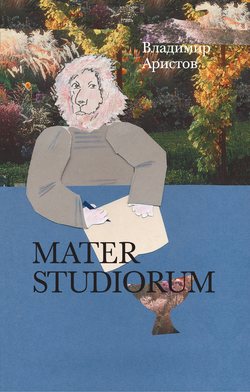Читать книгу Mater Studiorum - Владимир Аристов - Страница 8
I
6
ОглавлениеВ аудитории, когда он бывал студентом, теперь он держался уверенней, и чаще позволял себе выставляться резонером с задней парты, со студенческой скамьи, с Камчатки. Но профессором, подходя к белой аудитории, робел опять, рука явственно колебалась в воздухе, когда поднимал он ее, поднося к ручке двери, и сердце иногда чувствовалось. Так же легонько екала жидкая еда в маленьком термосе в его портфеле – первое время он не выдерживал напряжения и делал небольшой перерыв между половинками лекции, выходя в коридор и быстро выпивая у окна горячую кашу. За густыми, не своими бровями, сквозь маску бороды он видел снова девическую аудиторию, заикаясь, стараясь сгустить голос до баритона и по-профессорски почему-то картавя – чтобы инстинктивно удалиться от студенческого облика. И начинал свой витиеватый рассказ.
Все, что он узнавал как студент, старался он тут же пускать в дело, впервые столкнувшись лицом к лицу с китайским языком, по-неофитски восторженно говорил о преимуществах иероглифики перед европейским алфавитом, но с ужасом чувствуя, что внушает и нечто противоположное, и пытается совмещать уже два эти вида письма. Пытаясь, например, нелепо соотносить несопоставимое: слово «ПОЛЕ» он пытался увидеть в китайском иероглифе, означающем поле, который представлял собой окошко с перекрестием – он утверждал, что русское письмо представило последовательность букв, а китайское совместило эти же знаки, уложив друг на друга.
«Ты хоть и доктор наук, и должен следить за научной строгостью, но в своем курсе будь смелым, – внушал ему тогда Осли, – как замдекана обязую тебя раскрыть перед первым набором женских курсов все, на что способна невзнузданная мысль». Вспоминая эти слова и понимая, что отпускает узду и закусывает удила, он пускался во все тяжкие своей раскованной мыслью. Подслушанное и только помысленное – все шло в дело.
Хотя план лекций существовал в его воображении, каждая из них была вольной импровизацией на приблизительно заданную тему. Сразу он заявил своим слушательницам, что будет утешать их философией, вспомнив и тут же приведя по-латыни (которую только начал узнавать) название труда Аниция Боэция «Consolatione Philosophiae», то есть «Утешение философией». Тут же и не к месту, а может быть, для него и к месту, еще раз он сказал о «Consonantia et claritas» – «Пропорции и сиянии».
Помнил он, конечно, и о своем научном задании про Лейбница и нуль и упрямо гнул в ту сторону, хотя, казалось бы, нуль тут при чем? Но вспоминая все на свете, вдруг он оживлялся и, соединяя банальность с непонятностью, рисовал – вначале в воздухе мгновенным движением пальцев, – ему хотелось зажечь спичку и прочертить ею знаки, – но спички не было, а потом на доску – нуль и единицу. И он, даже нарисовав нуль в воздухе, сделал вращательное движение рукой, показав, как легко, перекрутив нуль, превратить его в восьмерку и, опрокинув на спинку, превратить в бесконечность. «Лейбниц был создателем двоичной арифметики, – внушал он слушательницам, – впрочем, все это было известно и до него, – то, что все вычисления можно опереть лишь на ноль и единицу, но он первый придал этому значение, связав немыслимым образом с какой-то китайщиной, с их философией, с «Книгой перемен» и тому подобное». Тут он совсем разошелся и стал размахивать руками, но охладил себя, потому что чуть не сбил парик и не разоблачил себя.
«Затем, – продолжал он, – эта двоичность проникла во все механические – нет, тут я неточен – во все электронные цифровые устройства, все компьютеры, кроме некоторых, которые основаны на триаде, на троичной системе исчисления, можно сказать, заражены этой двоичной болезнью, этим вирусом». Сказав о «цифре», он вдруг перешел к рассуждению о происхождении, об этимологии слова, и о том, что на самом деле «цифра», а тем самым и единица, и «нуль» недалеки в своем происхождении. Хотя в нашем воображении, да и в воображении электронной машины они разошлись на непредставимое расстояние. Тут он счел уместным, хотя вышло совсем неуместным, и даже многие спавшие во время лекции девушки пробудились и отчетливо улыбнулись: он сказал, что известно древнее изречение «я знаю, что ничего не знаю», а он бы хотел, оправдывая свое многоречие, произнести «я не знаю, что все знаю», – но прозвучало это настолько ни к селу ни к городу, что все замерли, и даже в этой белой и монотонно гудевшей от тайных разговоров аудитории на мгновение воцарилась тишина. Он воспользовался паузой, чтобы попытаться привлечь к своим речам внимание, хотя понимал, что юное доверие заслужить гораздо трудней, чем, допустим, общества ученых дам. Он сказал, что слово «цифра», по-видимому, берет свое начало в индийском «сунья», что значит «пустота». И кто-то из философов или поэтов связал «Сайфер» (или вернее, арабское «сафира», означавшее «быть пустым») и «Зефир», что значит «западный ветер», он тут же оговорился, что так выразился тот мыслитель, но он, конечно же, ошибся, хотя в ошибке великих может быть скрыта великая мудрость, – на самом деле «Зефир», конечно же, это «южный ветер», а западный ветер – это «Аквилон», оду которому создал другой поэт – Перси Биши Шелли.
Но видя, что вновь утратил внимание половины аудитории, он сказал, что напрасно они скучают при слове «математика» или «арифметика», ведь Арифметика всегда в древности изображалась в виде женской фигуры, возвышающейся, допустим, над Пифагором и Боэцием, склонившимися над абаком и грудой арабских цифр соответственно. Не говоря уж про Гипатию Александрийскую – он велел им заглянуть в поисковую систему – что, к его изумлению, некоторые тут же и сделали – и найти ее в белом одеянии среди бородатых мужчин в «Афинской школе» Рафаэля. С мест раздались голоса, что никакой Гипатии там нет, но когда он сказал им «слева или справа от Пифагора, где-то там рядом», и они действительно нашли, то это хотя бы убедило некоторых из них, что он не несет полную отсебятину. «Взгляните на миниатюру в манускрипте Геррады Ландсбергской «Hortus deliciarum», то есть «Сад наслаждений» – можно было бы назвать его «Сад неземных наслаждений» – по аналогии, но и в противоположность с Босхом, – здесь в кольце вокруг малого круга, где царит София-премудрость над двумя учеными мужами, – в этом кольце по углам семилучевой звезды расположены семь женских образов по количеству семи свободных искусств». «Можете мне назвать хотя бы три?» – обратился он к вновь задремавшей аудитории, пытаясь вернуть их к первой своей, наверняка забытой ими лекции. «Риторика», – тут же выкрикнул девичий голос издалека, и ему показалось, что он его узнал. «Блестяще, – громко и как ему показалось нагло, заявил он, – вы будете первым ритором на женских курсах».
Он сказал о том, что не случайно и в «тривиальном» курсе, то есть в «Тривиуме», и в следующем «Квадриуме» все эти науки – грамматика, логика (она же, по-видимому, философия) и риторика, и затем, как полагалось, более сложные арифметика, геометрия, музыка и астрономия связаны с женскими полубогинями, и – недаром – в русском языке – все науки эти женского рода – все эти женственные образы вращаются вокруг праматери всех наук и, возможно, искусств – Софии.
Он сказал о том, что от софийских соборов – от Софии константинопольской, киевской, новгородской, да и московского храма софийского на Кузнецком, – исходят как бы лучи премудрости, которые именно в женском образе витают над грубой, но действенной мужской оболочкой, которая воплощает эти незримые тонкие идеи.
Тут к нему откуда-то из глубины аудитории прилетел голубь, правда, в этот раз лишь один, и лег прямо на кафедру, он стал разворачивать его бумажное тельце, но увидев, что это записка, написанная по-латыни, засомневался в своей способности хоть что-то в ней понять, и поэтому призвал аудиторию сосредоточиться на последние десять минут. Время пробежало незаметно, и он понял, что толком ничего – а это была уже вторая лекция – не успел сказать. Вернулся к Лейбницу, но забыл, о чем говорил. Поэтому заскользил куда-то вглубь веков, вспомнив спор абакистов (сиречь абацистов) и арифметистов о том, какая система исчисления лучше и пригоднее в подсчетах. Те, которые считали при помощи абака, то есть, по сути, при помощи бухгалтерских счетов с их обточенными, обглоданными косточками, утверждали, что лучше, конечно, римская система чисел, и были по-своему правы. Но правее исторически оказались арифметисты, использовавшие арабские цифры, что было, несомненно, удобнее при вычислениях на бумаге. Бухгалтерия – а тогда ей занимались исключительно мужчины (зачем он привел эти недостоверные сведения, он сам не знал, ввернул, вероятно, чтобы польстить – сомнительная лесть – большей части аудитории), – так вот, бухгалтеры проиграли, а победили канцелярские – назовем их так – то есть бумажные черви – вычислители на бумаге. В результате этот червь вычислений проник во все вычислительные машины. Сама проблема – как получилось, что аналитика, вычисления, пусть и на бумаге, но в уме, и выше, в мировом уме, древние греки его иногда называли Нус, – как получилось, что отвлеченности, умозрительности и идеальности, связанные с числом – или даже нулем, кстати, арифметисты пользовались активно нулем, и именно отчасти поэтому победили, – как получилось, что платоновско-плотиновская идея числа вдруг оказалась доверенной грубой материальности машины – такая проблема составит часть следующей лекции. Об этом поговорим в следующий раз.
Здесь он закончил и, постаравшись изобразить, что несусветно торопится, – а это было правдой, потому что он убегал от возможных комментариев и вопросов, он представлял, что после его слов к аудитории: «Будут ли вопросы?» вырастет вдруг какой-нибудь юноша и спросит: «И за эту… – дальше следовал эвфемизм (да и то еще в лучшем случае), – вам платят деньги?» – и он не сможет ничего ответить, и бежит позорно, так что он предпочитал исчезнуть, раствориться в ином облике сам.