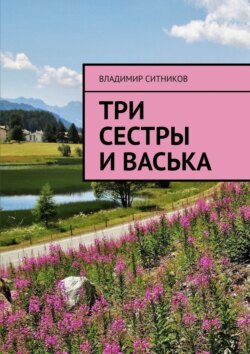Читать книгу Три сестры и Васька - Владимир Арсентьевич Ситников - Страница 3
Гробовые – на веселье
ОглавлениеУ Ивана Чудинова было две гармони. Одна парадная, нарядная, инкрустированная, тульской работы находилась в Коромысловщине. Её знали и слышали почти все жители села. Он ведь и в ДэКа выступал со сцены, и топотуху наяривал на улице в праздничные дни. Любовались коромысловцы Ивановой хромкой. Как и положено, уважаемый инструмент хранил Чудинов в футляре.
Вторая гармонь, потёртая, с невзрачными выцветшими мехами жила в Зачернушке. На ней и училась играть Васька. Тоже вроде неплохая гармонь, голосистая, но что-то стала похрипывать и посипывать. Видно, простыла после того, как по оплошности оставили её на зиму в клети. Так и лежала теперь завёрнутая в старый полушалок на шкафу в бабушкиной избе, и никто к ней не прикасался.
И вдруг полный обвал с гармонями. Лишился Иван их обеих.
Выходила замуж за Эдика Куклина старшая дочка Чудиновых Татьяна. Что-то вроде свадебки отгуляли в Коромысловщине, а потом по-настоящему решили гульнуть в Кирове. Народу молодого в кафе назвали полным-полно. Невеста счастливая красавица с русой косой и жених хорош, питья полно, пожеланий и воплей «горько» на весь вечер. Всё как положено.
Анфиса Семёновна хотела всплакнуть: горько-де отдавать родимую кровиночку на чужу сторону, да нахальная бойкая тамадиха, нанятая специально, пресекла всю её печаль:
– Я вызвала сантехника, чтоб из глаз не капало у вас.
Вот и погорюй тут по-человечески.
Вовсе нынче иной ритуал, хоть вроде суетятся дружки, невесту крадут и прячут, чтобы вытребовать выкуп. Но всё это только ошмётья от прежних старинных обычаев.
Наёмная тамадиха бегала с бумагами в горсти вокруг стола, командовала, когда пить, когда петь, когда смеяться, сыпала присловьями вроде: женитьба – это досрочный рай. Ивану ходу не давала. Он сидел со сватом – отставным полковником, у которого весь китель в наградах, и по-умному рассуждал о политике да о том, что опять затеяли правители гонение на вино. Но народ всё равно выход отыщет. А так стыд и позор – давятся люди у магазинов, по головам друг у дружки лезут. Сколь сил и времени теряют.
Где-то под конец застолья удалось Ивану повеселить игрой пожилую публику. Молодёжь-то привыкла под громовое буханье аппаратуры радость свою выплёскивать, кривляться да топтаться на месте. А Иван такую топотуху завёл, что пожилые гости от души побили каблуками кафешный пол. Молодёжь, расчухав, что тут настоящее веселье, переметнулась к Ивану. Конечно, Жанка и Светка дали жару: знай наших, коромысловских.
Жанка крутилась по-всяконькому перед Эдиковым отцом, отставным полковником, до тех пор, как не вытащила его. Не выдержал тот и пошёл тоже отплясывать. Васька поодаль стояла. Могла бы и она вихрем пронестись, да восьмиклассницам вроде негоже по-взрослому-то отплясывать. А хотелось, и могла она вспомнить зачернушкинские пляски.
Жанка, когда возвращались в автобусе домой, выхвалялась перед Светкой:
– Ну, я дала прикурить. Ноженьки резвые пляски хотят. Я разойдусь, так меня нипочём не остановишь. Бабка Эдикова тоже, видать, шваркнула хорошо, целоваться лезла и всё меня с тобой путала: Светик да Светик. А где Аграфена-то – Василиса ваша?
Светке тоже было о чём пошушукаться. Её продолговатые зелёные глаза лукаво щурились.
– А Мишка-то, ну этот, тогда на пляже который песчаные дворцы строил, тут целоваться ко мне при всех полез, я ему смазала по щеке: не приставай к честным девушкам. А он ещё больше напился. Всё ходил за мной, извини да извини.
– И не одна трава помята, помята девичья краса, – шёпотом вредненько пропела сёстрам Васька.
– Ну ты-то чо понимаешь? – озлилась на неё Жанка. По-прежнему считали её недоростком. Подумаешь.
Ругала потом себя Васька, что зря не уехала со свадьбы пораньше вместе с родителями. Надо было. Эх, кабы знать, где упасть, соломки бы подстелила.
Ивана сватовья по отчеству навеличивали: Иван Родионович, Иван Родионович. Непривычно было, да что поделаешь. Раз дочь замуж выдал, уж не молодой, значит. Вот Иван Родионович и Анфиса Семёновна прикатили на автовокзал уставшие от веселья и обильного угощения, чтобы сесть на свой орлецовско-коромысловский маршрут. Народу полно, толчея, но нашли для Ивана Родионовича местечко присесть до отъезда. Анфиса Семёновна, оставив мужа, решила пройтись по палаткам, посмотреть хламьё-тряпьё, а Иван остался и заснул.
Когда, насытив своё любопытство в торговых палатках, подошла Анфиса Семёновна к мужу, он похрапывал, откинувшись на жёстком вокзальном диване, а футляра с гармонью около ног не оказалось. Проспал. Говорили ожидающие, что какие-то ханыги тёрлись около Ивана, кто-то доказывал, что молодой парень прихватил футляр с гармонью, сказав:
– Это мой дядя Филимон. Надо дядюшке помочь, – и унёс гармонь.
Городские милиционеры не то, что Егор Трофимов, вникать в происшествие не стали. У них этих краж за день по десятку, а то и больше случается. Зевать не надо. Ищи теперь ветра в поле. Народу-то сотни. А примет особых у преступника-вора никто сообщить не мог. Все теперь в болоньевых куртках ходят, у всех картузы с долгим козырьком. Вот такой-де и был парень, укравший гармонь.
В общем, убитый горем, растерянный вернулся Иван Родионович в Коромысловщину. И так страдал, да ещё Анфиса Семёновна, как тупая поперечная пила, его скребла и грызла всю дорогу за потерянную гармонь. Проспал добро.
Василиса, вернувшаяся домой с сёстрами Жанкой и Светкой, узнав об отцовом горе, сразу помчалась в Зачернушку, притащила оттуда старую гармонь. Пусть пока поиграет отец на ней, а потом, глядишь, удастся купить или заказать мастеру новую.
Но вот беда, старая гармошка голос не подавала. Так и эдак дёргала, вертела её Васька, никакого ладного звука, один хрип да писк. Значит, в ремонт надо отдавать, а пока – оторви да брось, никакого толку от инструмента.
Затосковал – забубённая головушка – Иван Родионович Чудинов, даже шутки у него стали какие-то невесёлые. Разочаровался в человечестве.
Люди сочувствовали. Клубарь Зоя Игнатьевна принесла адрес мастера, который живёт в Кирове и славится на всю область умением мастерить гармони. Потом бабушка Эдика Инна Феликсовна сообщила, что дали ей адрес гармонного мастера, который живёт в Оричах. Надо свозить ему обезголосевшую гармошку. Изладит.
Анфиса Семёновна втайне считала, что без гармони жить даже легче и спокойнее, не таскают теперь Ивана по пирушкам. На чужих же гармонях он играть отказывался наотрез. Зазорным считал это для себя. «Что я побирушка?» – возмущался он.
Пока собирались поехать в Киров, принесла новую весть та же Зоя Игнатьевна из ДэКа, что умер от расстройства сердца городской мастер после того, как крутые его дочери повыбрасывали прямо с балкона на улицу в мусорные баки все его заготовки к инструментам.
– Бывают же такие изверги среди дочерей, – возмущалась Зоя Игнатьевна.
На Василису это так подействовало, что села она тут же за письмо оричевскому мастеру гармонных дел. Может, этот жив?
«Дяденька Николай Васильевич, пишет вам не известная для Вас Василиса Чудинова из деревни Коромысловщина. Живы ли Вы и можно ли к вам приехать показать нашу изломавшуюся гармонь да посмотреть ваши инструменты, а то наш игрочёк – папа мой, того гляди захворает. Свет белый ему не мил. Жду ответа, как соловей лета».
Опустила Василиса конверт в почтовый ящик и чуть ли не каждый день стала забегать к почтарке Августе Михайловне, чтобы узнать, нет ли ей ответного письма.
– Влюбилась что ли? – с хитрецой выспрашивала почтарка.
– Скажете. От подруги письмо жду, – соврала Василиса, чтоб не объяснять болтливой почтарке что к чему.
Ответ принесла прямо на дом сама Августа Михайловна.
– Говорила, что подруга напишет, а тут какой-то кавалер из Оричей, – упрекнула она. Василиса вырвала тощенький конверт из рук почтарки, а в нём писулька: «Жив. Приезжайте».
Тут уж пришлось Ивану Родионовичу отсрочить все неотложности. Васька постоянно теребила его: мастер ждёт, а ты…
На автобусе добрались до Кирова, а до Оричей прокатились на электричке. Мастера Николая Васильевича здесь знали многие. Нашли его Чудиновы без затруднений.
Сухой, подтянутый, с мальчишечьей чёлкой на лбу пожилой мастер встретил их в фартуке и в очках. Сразу видно – делом был занят. Стал извиняться за неуют в жилище, за то, что верстачок в комнате и станок тут же.
– Один живу, – объяснил он, – умерла моя Анна Андреевна. Песни любила. Всё мне напевала: ой, Коля, Николаша. А теперь один кукую. По бабам бегать не привык, водкой не балуюсь. Вот гармони спасают. Весь интерес у меня в них.
Иван Родионович поперхнулся, озадаченно переглотнул слюну. Прихватил он с собой бутылочку для облегчения разговора, да вот, оказывается, мастер в рот спиртное не берёт. Наверное, недоступный человек. Как с ним говорить?
С первого взгляда определил Николай Васильевич, что зачернушкинская гармонь – не жилец.
– Извини, Иван Родионович, но она восстановлению не подлежит. Коррозия съела голоса. Возиться бесполезно.
Приговор Ивана Родионовича и Ваську вогнал в тоску:
– А как же быть? – озадачилась Васька.
– Свои покажу. Вдруг выберёте, – сказал мастер. У него, конечно, интерес сбыть свои изделия.
Четырнадцать гармоней бережно снял мастер с полок, вытащил из шифоньера. У отца глаза разбежались. Одну возьмёт, на ней поиграет, за другую хватается. А вон третья ещё голосистее.
Мастер пояснял.
– Маленькая, бордовая, с колокольчиками – это «Мечта», узорчатая в зелёном перламутре – «Фантазия», а вот эта – «Симфония».
Чувствовалось, мастер не прост, с претензией, и, видать, труды свои высоко ценил. Но это ничего. Главное, хорошую гармонь найти, с голосом.
Сходил мастер в соседнюю комнатушку. Вынес ещё три инструмента.
– Я ведь другим-то не показываю настоящие-то гармони. Кто так, меха только рвёт, ему больно-то хорошая и не нужна. На черта чёрту стеклянный лоб, он всё равно его разобьёт. Теперь ведь у кого шире орёт гармонь – тот и мастер. Тонкости не разумеют.
Вовсе стало тесно в комнате от инструментов. Повсюду гармони, гармошечки. И одна краше другой, во всяком случае, так казалось отцу и дочери Чудиновым.
– У каждой разный строй, – добавлял гармоням достоинств Николай Васильевич. – Главное-то гармонь по душе. Послушаешь переборы – вроде с молодостью встретился.
А Иван Родионович уже в музыку погрузился. Наигрыши за наигрышем вспоминал и пускал такие развесёлые трели, что даже у Николая Васильевича глаза загорелись. Но он всё ещё форс держал.
– Вятская игра складывается из трёх наигрышей: прохожей, плясовой и топотухи. Не умеешь играть прохожую, не выходи на люди, – пояснил Иван.
– Вот наигрыш позабористей будет, – хвалился Николай Васильевич и пускал Истобенскую прохожую. – Эту, наверное, ещё при первом мастере Нелюбине играли. Старинная прохожая.
– Красивая, – соглашался Иван Родионович, но не сдавался, находил ещё чем удивить мастера. – Это наш коромысловский напев. Как заиграю, дак старухи у калитки сойдутся, слушают. Не терпится кренделя ногами выделывать.
Но Николай Васильевич ловок был в игре и пускал новый наигрыш.
Когда поустали игроки, обратила внимание Васька на маленькую, почти игрушечную гармошку, стоявшую на подоконнике.
– А эту как зовут? – спросила она.
– Это полубаян. Без названия. Для забавы сделал, – бросил мастер. – Думал внукам поглянется, да ни один интересу не проявил. Разленились. Проигрыватель у них теперь главный в жизни инструмент.
Васька залюбовалась миниатюрным полубаянчиком. Он так и просился в руки. Ладно умещался в ладонях, но был увесистый. Видно, много голосов поместил в нём мастер. Взяла и оторвала тончик. До чего мелодично пел инструмент – заслушаешься.
– Любимую-то гармонь, как автомашину, как лошадь свою в чужие руки отдавать нельзя, – задумчиво проговорил мастер.
– Правильно говоришь, – согласился Иван. – Вот эту бы я взял, – и погладил гармонь в зелёном перламутре. – А вот ту, малышку, для Василисы бы.
– Эту, зелёную-то, тебе, наверное, не потянуть, – охладил пыл Ивана мастер. – Она у меня самая дорогая. Я её полтора года излажал. Всё сам делал от и до. Не играет, а будто девушка смеётся.
И правда, певуча и звончата была гармонь. Не зря её выделил среди других Иван Родионович. А слова насчёт того, что «не потянуть» только раззадорили его.
Любил Иван Родионович частушку:
Я гуляю, веселюсь,
Никого я не боюсь…
Тятя мерина продаст,
На гармошку денег даст.
Неужели своих у него не хватит?
– Сколько просишь за неё?
Мастер назвал цену. Иван Родионович озадаченно крякнул. Недёшево ценил свой труд Николай Васильевич. Совсем недёшево.
– А Василискина «черепашка» сколько потянет?
Николай Васильевич назвал цену. Эта была куда дешевле, но всё равно выходило, что надо было выложить все деньги, заработанные на уборке. А комбайн его ходил нынче как заведённый. Комбайнер Чудинов как угорелый до поздней ночи жал зерновые, пока не падёт роса. И так два месяца. Гордился. Увесистым получился заработок.
– У тебя зарплата-то хорошая? – подзудил мастер. – На хлеб и икру хватает?
– Хватает, – ответил Иван Родионович.
– На красную или чёрную? – уточнил мастер. Умел уесть.
– На кабачковую, – откликнулся Иван. – Ну как, Вась? Берём?
– Не знаю, – пожала плечами Василиса. Её ошеломила стоимость, названная Николаем Васильевичем. От такой цены волосы дыбом поднимаются.
– Беру и ту, и ту, – решительно сказал Иван Родионович и полез в карман за деньгами.
– Ну ладно, полштуки-то я сброшу. Чувствую, игрок ты от Бога, – подобрел мастер. – И девочка ловко играет. Надо поддержать вас.
Выходили они от мастера обрадованные и сконфуженные одновременно. Вроде исполнили свою заветную мечту. Завели гармони, но оказались с пустыми карманами. А что скажут дома Анфисе Семёновне? Она ведь наказала купить куртки для Жанки и Светки, Василисе зимние сапоги, ей самой шубу каракулевую. С больших-то денег можно. А денежки – тю-тю. Улетели. На что эти наряды брать теперь?
– Матери-то не говори, сколько мы вбухали, а то визгу будет. Не пустит она нас в дом, – предостерёг Иван Родионович Ваську.
– Не скажу, – пообещала Васька, прижимая к боку гармошечку.
Видно, всю дорогу ломал голову Иван Родионович, как ему быть, где перехватить денег, чтоб явиться домой не с пустыми руками и чтобы не заподозрила Анфиса Семёновна истинную цену гармоней. Тогда слёз и ругани будет досыта.
Не доехав до Коромысловщины, попросил Иван Родионович шофёра высадить их у повёртки в Зачернушку.
– Бабулю надо навестить, – объяснил он Ваське. Явно оттягивал время появления перед всевидящими строгими глазами Анфисы Семёновны.
Баба Луша расцвела при виде дорогих гостей. Ой, ой, – захлопотала, неся на стол из клети и холодильника всё, что приберегала на случай, если они появятся.
Иван ходил, будто заново оглядывал стены родного дома, многочисленные фотографии в раме, где отец ещё в гимнастёрке с медалями, а сам он лихой босой пастушок стоит с шелыганом-кнутом на плече, коров тогда пас. Вот вся семья: и мать, и отец, и он посерёдке. Это перед отъездом в училище механизации.
Показали Лукерье покупки. Сначала Василиса сыграла, потом Иван показал, какая голосистая ему досталась вещь.
Решившись, наконец, сказал, чтоб пошла Васька в хлев, проведала свою младшую Вешку. А это время он успел признаться матери, что просадил на покупки гармоней все свои деньги, боится дома появляться, и только мать может их спасти.
– Дак ведь не пропил ты деньги-то, а музыку завёл. Почто ругаться-то? – поспешила оправдать сына Лукерья. Скоко надо-то?
– Да много. Но я ведь верну. Долг платежом красен, – заверил с жаром Иван.
Последние слова мать будто не услышала.
– Гробовые-то, похоронные мои так жо лежат, – сказала она и полезла в кованый, ещё невестинский сундук, достала сложенный конвертом белый плат, в котором завёрнуты были бережно разглаженные, наверное, не раз пересчитанные купюры. Подвинула Ивану хорошую папушу сотенных.
– Хватит ле?
– Извини, стыдно нам, – смутился Иван, – да кроме тебя никто нас не спасёт. Ещё бы полтысчёнки надо.
Мать подвинула больше, чем полтысячи, и облегчённо весело сказала:
– Гли-ко, гробовые-то на веселье пошли. Придётся ещё пожить, – и засмеялась, сияя голубыми глазами. Умела она найти в плохом приятное. – Говорят, молодость – это когда жить завлекательно, – добавила для оправдания. Какие наши годы!
– Спасибо, ма, – дрогнувшим голосом выговорил Иван.
Когда Василиса, обрадованная свиданием с Вешкой, вернулась в дом, Иван уже деньги в карман спрятал и, вновь расхваливая гармонь, играл: «Тихо в поле, в поле под ракитой». Настроение у него поднялось. И Васька, схватив полубаян, подыграла ему.
Бабушка Луша жила экономно, новой одежды не заводила. Куда она ей? В Зачернушке приятней в своей старой ходить, а на выход вон сколько Анфиса Семёновна своих, потерявших моду кофт да пальто навезла. Пенсия, слава богу, теперь не обидная да ещё за проданное молоко кое-что ей перепадает. Знала, что в большой Ивановой семье хоть живут справно, непременно случится такое, когда «поголу забегает», и потребуется ей добавлять сыну деньжат взаймы без возврата. Девкам да бабе обязательно что-нибудь приглянется. Известно ведь, курицу не накормишь, бабу не оденешь. А ей-то, старухе, к чему деньги? Вот только гробовые. А у самой-то расходы невелики.
– Гармошечка-то махонькая пусть от меня Васе в подарок будет, – обнимая внучку, наказала бабушка Луша.
– Ой, спасибо, – обрадовалась вдругорядь Васька гармони.
Дома, в Коромысловщине, чтоб избежать допроса с пристрастием, с порога объявил Иван Родионович, что повезло им с Васькой, купили задёшево сразу две гармони. А что касается покупок для дочерей, то в нарядах он не разбирается, пусть сама Анфиса с ними едет, и выложил денежки на стол. Анфиса Семёновна всё-таки что-то заподозрила. Не те купюры положил перед ней Иван, какие увозил, да и сложены бережно, ниткой перевязаны. А чтоб расспросов не было, закатили они с Васькой семейный концерт. И на радостях, конечно, пропустил он стакашек из согревшейся в кармане поллитрухи. А с пьяного какой спрос?
Отцовскую тайну с покупкой гармоней хранила Васька верно и это её не угнетало. Всё равно иного выхода не было. А гармони играют. А для бабушки отец и сено заготовит, и дров напасёт, и гостинцев привезёт. Всё это никакому подсчёту не поддаётся. Свои родимые люди, как не выручить?
Уже в ближайшую субботу, когда съезжались в Коромысловщину ставшие горожанами дети крестьянские, объявила клубарка Зоя Игнатьевна семейный концерт Чудиновых. Иван свои наигрыши показывал, и агрономша Галина Аркадьевна Бушмелева порадовала зрителей сильным красивым голосом.
Галина Аркадьевна женщина броская, с решительным лицом. Решительности этой добавляли тёмные сросшиеся брови и тёмный пушок на верхней вздёрнутой губке. Многие заглядывались на неё.
Месяц спрятался за рощу,
Спят речные берега…
Хороши июльской ночью
Сенокосные луга…
Только я ли виновата,
Что утеряно кольцо,
Что ладони пахнут мятой
Да ромашковой пыльцой.
В небе вспыхнули зарницы,
Над рекой туман поплыл.
И уж время расходиться,
Да расстаться нету сил.
Три раза заставляли любящие сенокосную пору коромысловцы повторить эту песню, и Галина Аркадьевна три раза пела, вкладывая душу в исполнение, а Иван Родионович так прочувственно играл, что не восторгаться было нельзя.
Зато Василиса с позволения клубарки выдала такую озорь под свой полубаян, что зрители крутили башками: ну Васька даёт! И только учительница Татьяна Витальевна хмурилась: нельзя школьнице эдакое петь, пусть и на злобу дня, да в Коромысловщине всё это дозволялось. Лишь бы весело было да попадало не в бровь, а в глаз. Конечно, добавила Васька от себя к зачернушкинским частушкам. Наверное, в этом и ценность их была.
Вы на праздник собралися,
Весели нас, Василиса.
С уважением к селу
Вас сейчас повеселю.
В Коромыслах у магазина
Два подкидыша лежат.
Одному лет сорок восемь,
А другому шестьдесят.
А про наши магазины
Злая славушка бежит:
Что получше, подешевле
Под прилавочком лежит.
Сыграй, милая гармошка,
В сельмаг послали босоножки.
Мои ножки топнули,
Босоножки лопнули.
За прилавком я стою,
Дефициты раздаю
И подружкам, и родным,
Председателям своим.
Спать не любит наш Фомич,
С рассветом поднимается.
А те, кто любят магарыч,
На работе маются.
В Коромысловщине грязь,
Комбайн по ступицу увяз.
Ох, весёлая пора —
Комбайн тянут трактора.
Я по улице хожу,
Председателя бужу.
Председатель, выдай замуж,
Я доярочку рожу.
Сыграла всё гармошечка,
Взбодрила вас немножечко,
А как праздник провожу,
Гармонь на полку положу.
Все Василисины намёки продавщице, пьянчугам, хоныге Матвею Исайкину и председателю Григорию Фомичу поняли коромысловцы. Усердно хлопали. А продавщица в слёзы. Пришлось самой Анфисе Семёновне ходить за хлебом, потому что на Ваську продавщица даже смотреть не хотела.
Председатель колхоза Григорий Фомич растрогался и сказал Ваське:
– Бес ты, а не девка, – и вручил дефицит – коробку конфет, а «подкидыши» надули губы. Ну, Васька, погоди. А Ваське хоть бы хны.
Ну а Ивану и после концерта пришлось играть. Всю новёхонькую рубаху на животе истёр. Старался по полной оправдать покупку гармони.
О том, что неспроста так чувствительно подыгрывал песням агронома Бушмелевой Иван Чудинов, кое-кто догадывался, а Васька открыла это в поле, когда дожинал отец ячмень около деревни Опаринцы. Там поле сырое и пришлось жать уже по застылку. Васька была у него вроде помощника комбайнера. Нравилось ей управлять «Колосом», хотя никаких прав у неё не было, но уверенно работала. С малых лет рядом с отцом у штурвала была. Постигла.
Подъехала как-то на мотоцикле к их комбайну агроном Галина Аркадьевна. Беретик модный, на бочок, куртка новенькая, красная, вся на молниях. Отец сразу комбайн остановил.
– Работаем? – спросила агрономша.
– Нет, блин, отдыхаем. Вон с пяти утра катаемся, – откликнулся он.
– Как намолот?
– Да какой намолот. Солома одна, – разочарованно поморщился отец.
Говорили о привычном, обычном. А отец вдруг с комбайна сошёл, наказал Ваське, чтоб управлялась без него. Он же съездит за запчастью в мастерские. Галина Аркадьевна довезёт. Когда он вернётся, бункер ещё не наполнится. Урожаишко-то так себе на этом участке.
Ведя комбайн, ухватывала краем глаза Васька, что поехала агрономша с отцом вовсе не в Коромысловщину, а в лесок. Неспроста это. Нехорошо.
Когда подкатил на уазике одновременно с бортовой машиной, отвозившей зерно, председатель Григорий Фомич, то сильно удивился, не увидев отца.
– Одна что ли работаешь, Васька? – спросил он.
– У папки живот схватило, – сказанула первое, что в голову пришло, – скоро вернётся.
Отец и правда тут же появился.
– Ну что, живот-то перестал болеть, – спросила Васька, чтоб отец догадался, какую она причину придумала для того, чтоб оправдать его отсутствие.
– Вроде отпустило, – откликнулся отец. – Не то поел, вот и схватило.
Она-то знала, что вовсе не за тем был отец в лесочке.
На другой день на поле услышала Васька голоса. Напористый, требовательный Галины Аркадьевны и растерянный, виноватый – отца.
– Заварил, Ванечка, кашу, так и не жалей масла, – почти с угрозой говорила она.
– Да как? Ведь четыре девки, – словно оправдывался отец.
Это была вторая отцовская тайна, которую пришлось хранить Ваське. Эта тайна мучила её, тревожила и злила больше, чем первая о покупке гармоней.
Отец же будто не замечал, что многие догадываются о его связи с Галиной Аркадьевной. Она же ступала гордо и независимо. Зато Анфиса Семёновна выходила из себя. То и дело смахивала слёзы с ресниц. У Василисы муторно было на душе от этого. Но какой существует выход? Что кинуть камнем в агрономшу, окно разбить в квартире?
Васька как-то подстерегла агрономшу по дороге домой.
– Можно с вами поговорить?
– Что тебе?
– Лучше бы вы уехали отсюдова, – выпалила Васька.
– Это с каких порёнок?
– Все знают про вас. Мне папу жалко, – выдавила она из себя.
– Да чего ты понимаешь? Зачем лезешь во взрослую жизнь? – возмутилась агрономша и, не желая слушать Ваську, ушла в свой профком.
Определённо, Галина Аркадьевна передала отцу разговор с Васькой, потому что отец как-то со вздохом покачал головой.
– Ох, Васька, Васька, Василисушка. Жизнь прожить – не поле перейти. Всякое бывает. И не надо тебе пока молодую головку забивать.
И то, что он не вспылил, не отругал её за вмешательство, ещё больше встревожило её. Неужели может такое случиться, что отец покинет их.
Видимо, мать пыталась вразумить Ивана Родионовича. То и дело на кухне раздавался её слёзный голос и угрюмое бурчанье отца.
Конечно, Анфиса Семёновна догадалась всё сделать по тогдашней методе: сходила к Григорию Фомичу, пожаловалась, потому что отец упрекал её в том, что наябедничала, хотя у него будто бы ничего с агрономшей не было и нет. Ну, подыгрывал на гармони, когда она пела, дак больше некому было.
Григорий Фомич был человек тёртый, опытный, умел щекотливые дела спускать на тормозах. Не довёл до шумного обсуждения на партбюро или даже партсобрании.
И то, что Галину Аркадьевну повысили и перевели в районное управление сельского хозяйства, видимо, произошло не без участия председателя. Он ведь в их Орлецком районе был самым авторитетным, шёл на звезду Героя Социалистического Труда. Урожайность была 25—27 центнеров зерновых с гектара, удои чуть ли не самые высокие в области. Уехала Галина Аркадьевна в райцентр, заменил её пожилой агроном Василий Васильевич Шихов из районного управления сельского хозяйства, которого определённо переманил к себе Григорий Фомич.
Многие недоумевали, как этот уже в больших годах лысый очкастый человек решился из города Орлец с высокой должности перебраться в обычное село Коромысловщину.
– Я, конечно, не писатель Шолохов, но считаю, что жить и творить надо в самой народной глубине, – объяснял Шихов любопытным.
И первое своё знакомство на разнарядке начал стихами: не завидная, но очень почётная у нас доля. Без нас людям не прожить. Но больше всего достаётся нам.
О нас поэты песен не слагают,
И режиссёры не снимают нас в кино,
Везде лишь только нас ругают
За шерсть, за яйца, мясо, молоко.
Народ стихи одобрил и агронома принял.
Григорий Фомич удивлялся начитанности и эрудированности Шихова, который знал сведения не только по хозяйствам района, но и по стране. К примеру, о том, что нагрузка на трактор по стране 95 гектаров пашни, на комбайн 155 гектаров уборочной площади. Он не только этими цифрами козырял, но и знал, сколько бы надо установить для машин этих самых га для самой производительной работы.
Григорий Фомич крутил головой:
– Ну и головастый ты, Василий Васильевич, откуда что берёшь?
– Да книги, газеты об этом только и пишут, – объяснял Василий Васильевич.– Вон получил я статистический сборник. Там всё есть. Кстати, Григорий Фомич, на посевную-то надо бы азофоски-то добавить. По прогнозам лето будет жаркое, так что запасы полезных веществ так и останутся в почве. Я вот тут набросал справочку, – и подавал председателю выкладку потребности в минеральных удобрениях.
Галина Аркадьевна жила и работала в райцентре Орлеце. Вроде ни слуху ни духу о ней, однако Анфиса Семёновна ещё долго не могла успокоиться. Когда отец уезжал в райцентр, зло бросала:
– Опять к этой стерве укатил.
Отец отмалчивался. Что у него творилось в голове и представить было невозможно. Васька считала в то время, что такая запретная любовь – это болезнь, от которой трудно излечиться. А какие есть лекарства от неё, не известно. Видно, отец их не знал. Васька жалела его. И мать ей было жалко. А что тут сделаешь?
Постепенно Иван Родионович обрёл привычный для него бодрый весёлый взгляд на жизнь и опять шутил, устраивал розыгрыши. Наверное, отпустила его «болезнь».
Однако Анфиса Семёновна иногда напоминала отцу:
– Седина в бороду, бес в ребро. Дед ведь ты уже.
Это когда у Татьяны родилась сразу двойня – дочка и сын.
– Опять за своё? – угрюмо обрывал её отец.
В это время Иван Родионович раздумчиво говорил приятелям:
– Кто женщину узнал и понял, тот жизнь узнал и понял, – и что-то прочувственное пережитое таилось в этих словах.
Тучноватый, неторопливый, с ранней лысиной на всю голову Василий Васильевич вошёл в обиход села, как будто много лет жил здесь.
Всю Коромысловщину удивило, сколько у нового главного агронома Василия Васильевича книг. Целый грузовик, носил-носил шофёр пачки и мешки с книгами в квартиру, которую освободила Галина Аркадьевна, уехав в Орлец, употел.
– Тяжелее водки книги-то, – определил он.
И послала Татьяна Витальевна свой любимый девятый. Быстренько выстроила в цепочку парней и девчонок, и потекли пачки в квартиру. Василий Васильевич выделил Ваську.
– Тёзка ты моя, – сказал он.
Жена Василия Васильевича Елена Ипатовна бледная, очень красивая женщина стояла, опершись на тросточку, и говорила, что ей вот так стоять стыдно, но она носить тяжести не может и ходить ей трудно. Сердце, но она ребяток чаем напоит с вареньем.
Оказывается, из-за Елены Ипатовны и перебрался агроном в Коромысловщину. Нужны ей были из-за больного сердца чистый воздух и покой.
Васька, разнося молоко по селу, больше всего любила заходить к Шиховым. Там Елена Ипатовна обязательно угостит ватрушкой или посадит пить чай с печеньем и книжку новую покажет, Василий Васильевич назовёт тёзкой.
Книги у них помещались на стеллажах, занимая в большой комнате целых три стены.
– Почти полная подписка Достоевского, Толстого, Тургенева, Горького, Диккенса, Цвейга, Гюго, Шиллера у нас есть. Даже библиотека Всемирной литературы, – оглаживая тома, перечисляла Елена Ипатовна. – Вот почитай.
Васька брала аккуратно завёрнутую в газету очередную книгу. Не прочитать было нельзя, потому что Елена Ипатовна спрашивала, кто из героев ей понравился и почему?
Шиховы выписывали так много газет и журналов, что почтарка Августа Михайловна только головой крутила:
– Такую прорву читать, с ума сойти.
– Для меня родина – это русский язык. Я просто наслаждаюсь, когда слышу, как говорят здешние старушки, – откровенничала Елена Ипатовна с Васькой.
– Эдак, эдак, матушка, – подделывалась Васька под старушечий говор, и они обе заливались смехом.
– Ну-ка, ну-ка, повтори, – просила Елена Ипатовна, и Васька повторяла.
– Ты Анну Герман певицу знаешь? – спрашивала Елена Ипатовна. – Небесный божественный голос, – умилялась она.
Васька научилась распознавать голос Анны Герман по радио, и ей тоже стали нравиться её песни. Она даже выучила мелодии на полубаяне.
Пока она смотрела книги, Елена Ипатовна успевала вымыть банку из-под молока и всегда отдавала её хрустально сверкающей. Не в пример клубарке или Инне Феликсовне, которые вечно не успевали обмыть посуду. А надевая сандалии или осенью сапоги, замечала Васька, что они обтёрты заботливыми руками Елены Ипатовны. И теперь, заходя к Шиховым, она обтирала обувь о траву или мыла в колоде.
Елена Ипатовна в откровенные минуты сетовала, что она для мужа обуза:
– Не могу толком ходить, а раньше ведь как бегала и пела. Он хоть бы слово упрёка. Чудный он у меня человек.
Васька замечала, что у Елены Ипатовны все были «чудные» да хорошие, и о ней она говорила: удивительная девочка. А чего удивительного-то? Девчонка как девчонка.
Василий Васильевич любил за всем наблюдать со стороны. Обычно сидел на правлении или в участковой конторе на разнарядке, прислушиваясь к тому, о чём ведут разговор механизаторы или специалисты и бригадир с начальником участка, а потом вдруг своим низким басовитым голосом спокойно замечал:
– Я, конечно, не Ленин, но считаю, что надо с людьми-то почаще разговаривать. А то приказ, указ, а что это даст? Понять должны, что плохой весны или плохого лета не бывает. Если не предусмотрел, будет недобор. Сами виноваты, а валим на погоду да на природу.
Когда разговор шёл на военную тему, то авторитетную фамилию вставлял Василий Васильевич другую:
– Я, конечно, не Георгий Жуков, но скажу: это теперь легко рассуждать, куда, какие войска надо было ввести, а там, под Москвой, когда немцы в тридцати двух километрах от Кремля находились, всё было брошено, чтоб брешь заткнуть. Не до жиру, быть бы живу. Как Шота Руставели-то писал в «Тигровой шкуре»: каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Вольготно теперь рассуждать.
Когда дело касалось агрономии, тут уже привлекался Климент Аркадьевич Тимирязев или Вильямс, а то и Прянишников, Вавилов. Чувствовалось, что был Василий Васильевич человек начитанный, недаром с неодобрением говорил личный шофёр Григория Фомича Капитон Каплин, что книг привёз целую машину, из мебели ничего толкового нет, одни книги.
Склонен был Василий Васильевич к философствованию.
– Отец мой, между прочим, простой крестьянин, три класса образования, а всё понимал. Говорил он, что если бы воскресли погибшие в Великую Отечественную солдаты, то удивились бы непременно:
– Братцы, сыночки, что же это вы такое наделали: пока мы лежали в братских могилах, здесь другая, что ли прошла война? Нет деревень и людей.
– Ну, вот опять, – останавливала Елена Ипатовна мужа. – Ты уж Васеньке-то головку не мути.
– Нет, я понимаю, – говорила Васька. – У меня дедушка Родион здесь не кладбище похоронен. Он воевал.
Из книг извлекал Василий Васильевич множество удивительных сведений, о которых в Коромысловщине никто не знал. А он вдруг открыл Ваське неслыханное:
– Я, конечно, не историк Ключевский, но скажу: зря американцы-то зазнаются, что везде они первые и единственные. Статуя-то Свободы чем у них покрыта, не знаешь?
– Жестью, наверное, – говорила Васька.
– Нашей медью, нижнетагильским медным листом. Так вот.
Васька с удивлением смотрела на Василия Васильевича.
– А ты знаешь пословицу: чтобы человека узнать, надо пуд соли съесть?
– Знаю.
– Ну а сколько это по времени?
– Не знаю.
– Я, конечно, не биолог Сеченов, но ведь известно, что человек за год съедает 8 кг соли. Значит, чтобы с ним толком познакомиться, потребуется целый год. Тогда и съедят на двоих пуд соли.
Случилось в Зачернушке в тот год неслыханное и нежданное. Видно, права пословица: любимые бранятся – только тешатся. Решила Дарья Кочерыга выйти замуж за Серёгу Огурца. Говорят, сама заявилась к нему домой и напрямую выложила:
– Чо-то ты, Серёг, неприкаянно живёшь. И я одна, эдакая жо. Как две головёшки обгорелые мы с тобой. Давай сойдёмся. Ты – головёшка, я – головёшка, двум головёшкам легче гореть.
Серёга Огурец опешил от неожиданного предложения, помолчал, выкурил папиросину и сказал:
– — Дак я не против. Давай сойдёмся. Токо тихо чтоб.
Но Дарья тихо сходиться не захотела. Ей надо было, чтобы свадьбу сыграли с музыкой и песнями. А кто музыку обеспечит, как не Васька Чудинова? Снарядили бабушку Лушу, чтобы внучку уговорила и привела. А Ваську что уговаривать? Зачернушкинским бабкам она всегда готова угодить. Прикатила на велосипеде с полубаяном за спиной.
Как положено, «молодые» оделись по-свадебному. Дарья была в каком-то модном прозрачном пеньюаре, отданном снохой, поскольку немножко обгорел и свернулся рукав. Но если не приглядываться, так и не видно этот изъян. Правда, кто-то из городских сказал, что пеньюар-то для постельного обихода. Но Дарья считала, что такую красоту надо всем напоказ выставлять, а не прятать, где попало.