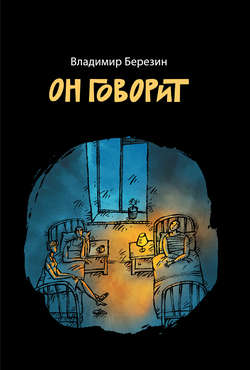Читать книгу Он говорит - Владимир Березин - Страница 2
ОглавлениеЖизнь в больнице – особая жизнь. Не хуже любой другой, кстати.
А жил я тогда именно особой жизнью: по дому ходил с одним костылём, на улице – с двумя, мочился по утрам два раза – один в банку, а второй в раковину и дёргал свой хрен сам, без чужой помощи.
Нет, сначала лежал я в больнице. Лежал долго, привык, потому что возвращался потом туда ещё и ещё.
А там смотрел на разных людей, которых меняли, как блюда на званом обеде.
Рядом лежал олигофрен. Говорил он:
– Виталька, блин, завтра домой едет… Витальке, блин, костыли принесли…
Лопотал он громко и матерно, а иногда плакал. Плакал горько – выл в подушечку. Перед операцией мы ему рассказали, что нескольких больных режут одновременно, и он написал на своей ноге: «Виталькина левая нога», чтобы не пришили по ошибке чужую – какого-нибудь негра, например.
Была у него девушка – маленькая и круглая, головкой похожая на маленькую луковку.
Брат приходил к нему, немногословный и более вменяемый.
Все они были нерасторжимы в своей похожести, тягостно было слушать их горловую речь, будто была передо мной пародия на нормальную семью, нормальную любовь, нормальные отношения. А пародия эта была яркой, с цветом, запахом, и струился мимо моей койки утробный матерный строй.
Был в этой палате бывший таксист, проработавший в такси шестнадцать лет, а потом просидевший двадцать семь месяцев в Бутырках по совершенно пустяковому делу – за какие-то приписки и прочие махинации начальства. Как-то весной он шёл по улице и нёс авоську с тремя десятками яиц. Бывший таксист поскользнулся, но не разбил ни одного яйца. Правда, при этом сломал руку.
Другой сосед, ухоженный старичок, был удивительно похож в профиль на французского президента Миттерана.
Соседи менялись, а я между тем говорил с теми и с этими.
– Ты вот как влетел? – учил я олигофрена жизни. – Двинул за водкой, перебегал в неположенном месте… Материшься всё время. Вот погляди, то ли дело я – трезвый, неторопливый, сбили на пешеходном переходе.
Заведующего отделением звали «оленеводом», видимо намекая на северо-восточное имя и отчество.
На одном из обходов он представлял больных профессору.
– Поляков, олигофрен – произнёс оленевод.
– Что-о-о!? – возмутился олигофрен Поляков.
– Демьянков, военнослужащий, – не меняя тона, исправил положение оленевод.
Чем-то моё существование напоминало день рождения, потому что постоянно, хотя и в разное время приходили друзья и несли – кто закусь, а кто запивку.
Пришёл армянский человек Геворг и спросил, не играем ли мы в карты.
– Да, – мрачно ухмыльнулся я. – По переписке.
Можно, конечно, делать из карт самолётики, но нет вероятности, что они прилетели бы в нужное место. Самолётики были сочтены излишеством.
Под вечер приходила правильная медсестра, оснащённая таблетками, шприцем и чувством юмора.
– Дам всё, кроме любви и водки, – говорила медсестра, перебирая таблетки.
А вот другая история – и всё про то же. Ее мне рассказал друг, покачиваясь, как и другие, на краешке койки.
В Симферополе тогда началась новая война. Киевское правительство начало выяснять, кто здесь главный, и объявило войну преступности. С Западянщины прислали нового начальника милиции с замечательной фамилией Москаль. Как он там раньше существовал – непонятно.
Началась борьба с преступностью, заморозили приватизацию Южного берега. Четыре десятка депутатов Верховного Совета Крыма оказались в розыске. Один, самый главный мафиозный человек, был даже арестован – не ожидал от милиции такой наглости.
Всего этого наш приятель, лежащий в больнице после аварии, не знал. У него была амнезия, и вот он лежал, чистенький и умытый, со всякими грузиками на ногах и руках, абсолютно ничего не помнящий.
В эту больницу положили одного недостреленного бандита. Те, кто его недострелил, решили завершить начатое и просто кинули гранату в ту палату, где он лежал.
Недостреленный в этот момент куда-то вышел, и вместо него погибли врач и медсестра. После этого недостреленного положили прямо в палату к нашему приятелю.
И вот, завидев такое дело, приятель наш от ужаса пришёл в себя. Амнезия его прошла, и он, стуча по асфальту гипсом и гремя грузиками, уполз домой.
Вот так я и жил.
Текст этот похож на жидкость в колбе – от переписывания, как от переливания он частично испаряется, а частично насыщается воздухом, примесными газами, крохотной козявкой, упавшей на дно лабораторной посуды.
В больнице время текло справа налево, от двери к окну. Из двери появлялся обход, возникали из её проёма градусники и шприцы, таблетки и передвижная установка УВЧ с деревянными щупальцами, увитыми проводами.
Время становилось изотропным не сразу, постепенно вымывая старые привычки. Вот я и забыл, что можно спать на боку. Движение времени создавало ветер, уносящий планы на будущее. Всё покрывалось медленным слоем жидкого времени, его влажной патиной.
Я спал, и моё время стояло на месте.
Жизнь ночной больницы была особой. В тот час, когда уходили врачи, она еще не начиналась. И тогда, когда последние посетители торопились взять в гардеробе свои пальто, она только зачиналась. Вот проходили сестры, тыкая шприцами в тощие и толстые задницы, и это был ещё только первый звоночек перед ночными разговорами. Звоночек включал инстинкты, но, не имея реального продолжения, инстинкты давали движение ночным разговорам. Жизнь начиналась тогда, когда дежурные сестры и врачи прятались по своим норам. Тогда-то и шли неспешные разговоры, и длилось, длилось пересказывание собственных и чужих жизней.
Одни действительно вели разговор, а другие, со светлыми от боли глазами, старались отдалить момент, когда они поодиночке схватятся с бессонницей.
Молчать тут было трудно, потому как, когда говоришь, боль отступает.
«Не молчи, – говорит тебе всё, – Твои слова, вот что от тебя только и останется».
Вот они все и говорили.
Он говорит: «Я всегда завидовал людям, что умели брать взятки. Нет, разумеется, я завидовал не вымогателям, не упырям, что сосут последнюю, ржавую от испуга кровь обывателя. Я завидовал людям, что умеют поставить свою жизнь так, что на них сыплются земные и прочие блага за проделанную работу. И сам я делал подарки здешнему хирургу, собравшему меня по частям, благодаря которому я сохранил количество ног, обычное для человеческих особей.
Несколько раз я ожидал материальной благодарности такого рода, но оказывался в странном положении, о котором я сейчас расскажу.
Итак, всё было криво, гадко, причём в несостоявшемся меня подозревали с гораздо большим усердием, чем в настоящих грехах.
Однако случилось странное – мне обещали каких-то денег, я отработал их и стал ждать немедленного и безусловного обогащения. Но дата выплаты отдалялась, срока отсрачивались, встречи откладывались. Наконец, я увидел своего заказчика.
Мы мило поговорили, обменялись новостями и анекдотами, и вот он начал грузиться в машину. Я остался на тротуаре один, и ко мне вернулась забытая было цитата.
Однажды, когда был ещё жив литературовед Лебедев, он спросил студентов, откуда взят приведённый им текст. Студенты были образованные и сразу закричали слова “коляска” и “Гоголь”.
Вот она: “Чертокуцкий очень помнил, что выиграл много, но руками не взял ничего и, вставши из-за стола, долго стоял в положении человека, у которого в кармане нет носового платка”».
Поворачиваясь на койке ко мне, он говорит: «А мне тогда повезло – всех, кто со мной служил, прямо из тёплых немецких квартир вывезли в Тверскую область, да и в палатки. Жёны плачут, дети в соплях. А меня послали переучиваться, да на что переучиваться, так и не придумали. Хорошо хоть довольствия не лишили. А тут германский канцлер дал нам немало кредиту для того, чтобы офицеров на предпринимателей переучивать. Затея эта, по мне, была странная – хороший офицер предпринимателем быть не может.
Исполнительным начальником – да, а вот предприниматель только из неважного офицера выйдет. Но мне всё равно делать было нечего, не мёрзнуть же посреди взлётного поля в ожидании перемен, так что и поехал я туда. Собралась нас целая группа, причём большей частью какие-то полковники синего цвета. Такой небесный цвет они имели оттого, что умело распорядились вверенным им имуществом, да так распорядились, что несколько лет протрезветь не могли. Я среди них – дурак дураком, трезвый, да ещё без денег. Опять же, за водкой меня всё время норовят послать, потому как я наблатыкался в чужом наречии и ещё кое-чего кроме «хенде хох» и «вафен хинлеген» знал.
Началась у нас особая жизнь – возят нас по разным предприятиям, а полковники мои головами кивают, как китайские болванчики. Как голова вниз пойдёт, так губы на фляжку попадают, а как вверх пойдёт, так кадык дёрнется. Что им все эти сахароделательные заводы и маслобойни с мельницами? Но я-то так не хочу, мне ещё жить хочется, оттого я учу чужие слова, да стараюсь так, чтобы «хенде хох» невзначай не выскочило. А то историческая память – сложная штука, с ней не пошутишь. И тут привезли нас на завод Вюрца – даже не завод, а склад. Да не склад а город, ангар в десять вёрст да с Исаакия высотой, стоят там огромные шкафы со всякими гайками и болтами, а вокруг них снуют механические блохи и с разными верояциями из каждого ящичка, что нужно, забирают, в коробочки складывают и на продажу волокут. Зрелище, доложу вам, космическое.
Но тут меня кто-то за рукав дёргает и от этого зрелища отрывает. Это один из моих полковников, трясётся аж весь и на свой бейджик показывает.
– Вова, – говорит, – у меня чужой документ. Мне на чужую фамилию выписали – гляжу, а у него действительно написано Besuher – посетитель, значит. Я выражаю удивление этакой его скорбью и говорю: ну и что с того, фляги ваши, что ль, от этого опустеют? Мир иначе завертится? Ан нет, трясётся тот и шепчет: “Не выпустят”. Видно, немецкая водка ударила ему в край исторической памяти, и эта память наружу полезла. Смекнул я, что надо делать, и побежал к немцам. Говорю: тут у нас один господин хочет себе эту пластиковую штуку на память оставить, можно ль такое дело? Очень даже можно, отвечают немцы, мы, более того, это завсегда пропагандируем, потому что тут наши гербы и изображения, и оттого слава о нас распространяется. Пусть даже и в чужих сервантах.
Потом говорю полковому начальнику: так и так, отмазал я вас. Всё будет хорошо, пойдёте последним, а проходя, обязательно им улыбнётесь, дескать, я тот самый. Только уж потом вы меня не обидьте.
– Само собой, – говорит, – разумеется.
Ну, уезжаем, потянулся служивый народ к автобусу, а вот мой подопечный проходит местную караулку, и тут понимает, что забыл что-то сделать. И вспоминает: ах, да, матушки, улыбнуться надо! И лучше б он и вправду забыл, потому как от той улыбки охрана со своих стульев попадала, а те, кто остался стоять, принялись к стенам жаться. Что-то упало, покатилось, турникеты упали безвольно, а полковник мой, довольный, на выход пошёл.
Вот какие в старину полковники были, таких уж нынче не делают».
Он говорит: «Нам-то с вами это не актуально, но я всё же расскажу про сандалии. Оставим в стороне разницу между сандалиями и сандалетами, чёрт с ними, не в этом дело.
Я с молодости не мог понять, отчего сандалии нельзя было носить с носками. В детстве-то я видел, что все носят, и – ничего. То есть, нет, в моём детстве все только так и носили. Я не то, что с носками, на колготки эти сандалии надевал (вот тоже битва при этих глаголах, как при Марафоне – скоро учёные люди эту разницу отменят, но я бы вот не стал – о чём говорить тогда, на что вскинуться образованному человеку, как суслику в степи, встать столбиком, засвистеть протяжно?.. Но я о носках – попробовал бы кто из нас, малолетних кандальников, эти сандалики на босу ногу надеть.
Но вот вопрос, который меня всегда мучил, – когда началась эта война модников против носков?
Что это за шибболет метросексуальный, выискивать людей в носках и сандалиях?
Где корни этой охоты на ведьм?
Где истоки?
Зачем?
Почто?
Вот как-то спросили одного знатного чиновника по делам молодёжи, прямо в телевизоре и спросили: откуда взялся этот спор про носки с сандалиями?
Спросили оттого, что он запретил молодым людям их носить совместно и норовил отчислить из-за этого всякого из своего молодёжного лагеря.
Отвечал на это руководитель так:
– Есть вещи, которые человек должен чувствовать. Вот не нужно майку внутрь тренировочных штанов одевать или там надевать, если ты не Чак Норрис. Вот Чак Норрис может себе позволить себе рубашку надеть под ремень в джинсы. Но если твоя фамилия какая-то другая, то не надо этого делать. Я вообще на эту тему долго думал. Вот мужчине в трусах вообще не надо ходить. Ну, не надо, если он не на приеме у врача, может быть, на пляже. А у нас люди сидят на лекциях в трусах. На лекциях! Это означает, что у них нет мозга. Такие вещи люди просто должны чувствовать. И вот эта – одна из них. Я это давно почувствовал, и в свое время, еще на первом Селигере, когда я наблюдал этот ужас – вот такие сандалии, черные отвратительные сандалии (они на пляже обычно продаются – турецкие, разваливающиеся), вот такой же черный отвратительный носок… Если один такой человек пройдёт по форуму, форум можно закрывать. Любой профессор Стендфорда, любой уважающий себя человек, увидев такое в носках и сандалиях, может сразу развернуться и уехать. Значит, здесь что-то не так…
Вот как говорил чиновник, да правда, сразу после этой речи куда-то сгинул.
Победили его носки. Или сандалии победили – не знаю.
Я не диссидент, а циник. Если стало чуть прохладнее, но не настолько, чтобы надеть туфли – отчего нет? Мне в моём цинизме сложно поддаться общественному давлению.
Однако, одни мне говорили, что метросексуалы в этой войне показывают свою мужественность: дескать, не натрут нам сандалии ноги, как каким-нибудь неженкам. Другие же товарищи рядом увязывали проблему с необходимостью предъявить педикюр. Впрочем, достаточно толстый слой лака на ступнях может снять необходимость использования как носков, так и самих сандалий.
Спрашивают так же: “Апостолы носили сандалии. Носили ли апостолы носки?” – на это мы отвечаем: “Наверняка! Холодны ночи в Галилее. И если бы Пётр носил, как все они, носки, не пришлось бы ему выходить к костру и отрекаться”.
Современные израильтяне уверяли, что по этому шибболету отличали неадаптировавшихся русских эмигрантов, стоящих в самом конце пищевой цепочки. Но потом вышло, что по этому принципу можно опознать любую нацию.
Очевидно, что первым марафон пробежал человек в сандалиях.
Скажу иначе – бегать в сандалиях с перевязанными веревочками, сандалиях третьего срока, действительно не сахар. А вот новенькие сандалии отлично приспособлены для бега.
Вон, Меркурий, он же Гермес – толк понимал. По хозяйственной части служил. Так он в сандалиях не то что бегал – летал. Неизвестно, носил ли он носки, но мы знаем наверняка только то, что он не носил носки из синтетики. И это, я скажу, совершенно правильный выбор.
Маршал Жуков и вовсе носил портянки.
А воевал не хуже марафонцев.
Оказалось, что большинство европейских наций считает сандалоносочников неудачниками и растяпами, и отличает именно по этой примете своих – немцев, французов, русских. Впрочем, говорит, и лоха-американца легко отличить именно по этому сочетанию.
Мне подсказывают, что Валентин Катаев в беллетризованных мемуарах «Трава забвения» описывал Бунина весьма примечательно: “Бунин был дачник столичный, изысканно-интеллигентный, в дорогих летних сандалиях, заграничных носках…” В аристократизме Бунина сомневаться как-то не принято, как и в интеллигентности его собеседников, которым было всё равно: “…на стуле и заложив ногу за ногу, он весьма светски беседовал с папой, одетым почти так же, как Бунин, с той лишь разницей, что холщовая вышитая рубаха отца была более просторна, застирана и подпоясана крученым шелковым поясом с махрами, а сандалии были рыночные, дешёвые и надеты на босу ногу”.
Сдаётся мне, что сандалоносочное безумие в современной России было связано вот с чем – отцы моего поколения вполне себе никого не стесняясь, носили носки с сандалиями (если не работали в горячем цеху). А для человека в НИИ это было спасением от целого букета ножных болезней.
Потом пришла Перестройка и состарившиеся отцы из НИИ, со своими кульманами и ватманами, с учёными степенями и званиями стали синонимами лузеров.
Причём и в моём Отечестве, и в странах, куда многие работники рейсфедеров и рейсшин перебрались. Привычки они свои, конечно, не меняли. Именно поэтому нынешние сорокалетние с таким ужасом глядели на это сочетание. Пятнадцатилетним на всё наплевать – они знают, что можно носить всё со всем и видели в телевизоре не только молодёжного начальника, но и показы Живанши и Прада, где по подиуму рассекают модели в золочёных сандалиях и чёрных носках с искрой.
Я, кстати, с пониманием отношусь к людям, подозревающим носки с сандалиями в общественной опасности для обоняния. Я видал случаи, когда фраза “Наденьте же ботинки, и так дышать нечем!” была вполне уместной. Однако ж, с другой стороны, всяк может ощутить, как ужасна немытость голых ног в открытой обуви!
Меня тут стали уверять, что и мокасины нужно носить на босу ногу. Ну так про мокасины мне ничего неизвестно. Мокасины для меня что-то из джекалондона. Их надо с трудом стянуть с натруженных ног, предварительно срезав обледеневшие завязки. Я только знаю, что в тяжёлый час, в трудную годину, их нужно сварить и съесть, или просто съесть, как съел героический сержант Зиганшин – сапоги. Сначала гармонь, а потом – сапоги. Одним словом: “Когда я услыхал, как Калтус Джордж орет на перевале на своих собак, эти чёртовы сиваши уже слопали мои мокасины, и рукавицы, и все ремни, и футляр от моего ножа, а кое-кто уже стал и на меня посматривать этакими голодными глазищами… понимаете, я ведь потолще их”.
Я как раз думал об обстоятельствах вкуса. И в связи с этим вспомнил какого-то малолетнего певца, эстрадную знаменитость, подростка, что принципиально вышел на сцену во фраке и белых кроссовках. Я рассуждал о нём вполне академически (певца этого я за человека не считал совершенно по иным причинам), и вот канва размышлений была такая: есть некий костюм, который, по сути, неразрывен, просто носится в несколько частей. Разрывать его нельзя, вроде как нельзя носить неверную, неуставную форму. И общественное раздражение как раз возникает, когда форма нарушена. Но сейчас в разные части и подразделения приказы спускаются несвоевременно. Одни по-прежнему ходят в грачёвских аэродромах, другие уже нацепили каракулевые береты от Юдашкина. Где-то и вовсе ополоумевшего инспектора встречает часовой в будёновке. Интуитивно наблюдателя пугает генерал в полной форме и чешках, точно так же, как и концертный костюм с кроссовками. Такой генерал подобен бегущему по улице человеку его же звания – он сеет панику.
Но когда выясняется, что войны нет, то включается нормальная ксенофобия по признаку: “Нет, я ничего против не имею, у меня даже один друг носил носки с сандалиями, но всё-таки, лучше их всех, вместе со всей их обувью – в Дахау”.
Но придёт директива из Prada, что нужно носки под сандалии носить, пройдёт пара-тройка лет, и все будут говорить, как в тридцатые и сороковые у них, и как в пятидесятые-шестидесятые у нас: “Без носков? Фу…”
Люди стадны и мычат.
Уже пишут: “Носки с сандалиями, туфлями встречаются в свежих коллекциях Prada, Mark Jacobs, Ferragamo, Dior, Galliano, Dolce&Gabbana и других”, и я сразу верю. Всеми фибрами.
Пару лет назад даже журнал “Сноб” разрешил нам носить одновременно и то и другое.
А уж он-то о-го-го.
Не забыть, ещё, кстати, купить сандалии. Носки у меня уже есть».
Он говорит: «А я расскажу о бытовом ужасе. В те времена я ещё, как говорят, употреблял. Тогда алкоголь продавали в любое время суток, но я и вовсе пользовался услугами одной компании, что везла мне еду к порогу. Как-то они снова приехали менять еду на деньги. В одной из коробок обнаружилась реклама говорящей водки.
“В Пробку записано пятнадцать разнообразных тостов, которые звучат после каждого открытия бутылки. Причём это не просто тосты, а целое представление с музыкой, шутками, смехом. Говорящая Пробка даже Пьянеет’ – тосты становятся ещё веселее».
Вот, думаю, ёрш твою двадцать, гадость какая!
Гадость!
Гадость!
Пробка, видите ли, говорящая! С электронным писклявым, наверное, голосом, будто гонконгская расписная открытка.
Оказалось, что ответственные люди слышали одну такую – она не разговаривала. В ней что-то перемкнуло.
Поэтому она кричала, свистела и ухала. Причем такими загробными голосами, что пьяница сразу представлял себя Пушкиным в кибитке… Метель… Михайловское… Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают…
Нет страшнее картины хмурого одинокого пьяницы, что чокается с бутылкой, крутит туда-сюда пробку, выкрикивает пробка тосты, за окнами ночь, и нет спасения от этого электронного ада».
Он говорит: «Я научу тебя Родину любить.
Вот ты – интеллигент, то со слезой народ жалеешь, то боишься его, опять же, со слезой.
Из левого глаза у тебя ползёт слеза сострадания, а из правого – слеза испуга.
Так ты и живёшь, с мокрыми глазами.
Я тебе расскажу, что нужно для того, чтобы приникнуть к народу – меня об этом иногда спрашивают, и ответ у меня теперь наготове.
Настоящему русскому интеллигенту нужно для утверждения в этом качестве прийти в магазин и, заняв очередь, выйти на волю, в октябрьский промозглый воздух. Закурить “Беломор” с дембельской гармошкой. Гармошку на папиросах я научу тебя делать, не боись.
– Эй, братан, – окликнут тебя. И ты поймёшь, что пока не сделал ошибок.
К тебе подойдёт сперва один, тщательно тебя осмотрев. Он спросит, нужен ли тебе стакан. Вместо ответа ты вынешь стакан из кармана и сдуешь с него прилипший мусор. Тогда подойдёт и второй – спросит денег. Надо, не считая, на глаз, отсыпать мелочь.
И вот тебе нальют пойла, оно упадёт в живот сразу, как сбитый самолёт.
– Брат, – скажет тебе первый, – сразу?
А ты ответишь, что занял очередь.
– Не ссы, – ответит второй и свистнет. Из магазина выйдет малолетка, ты дашь ему денег (уже по счёту) и он вынесет тебе полкило колбасы, черняшку, три консервные банки неизвестной рыбы и главное – то, что в стекле.
Торопиться будет уже некуда. Вы разольёте по второй и снова закурите.
Ветер будет гнать рваные серые облака, будто сварливые жёны – мужей. И в этот момент надо понять, что ничего больше не будет – ни Россий, ни Латвий, а будет только то, что есть – запах хлеба из магазина, гудрона из бочки и дешёвого курева. И ты будешь счастлив.
В этот момент проковыляет мимо старушка и скажет:
– Ну, подлецы.
И ты улыбнёшься ей.
Если соискатель сумеет в этот момент улыбнуться старухе, улыбнуться такой расслабленной улыбкой, после которой старушке даже расхочется плюнуть ему в залитые бесстыжие глаза – то, значит, он прошёл экзамен. Всё остальное: национальность, политические взгляды, ордена и пенсия – не важно, важна лишь эта улыбка русской небритой Кабирии, воспетой Венедиктом Ерофеевым.
А уж дальше плачь вдосталь – хоть правым глазом, хоть левым.
Потому как ты пьяный, и спросу с тебя никакого нет».
Он говорит: «Я люблю смотреть телевизор.
Дело-то стариковское, мне можно в этом признаваться. Это молодые сейчас нос воротят и не признаются.
А сами смотрят.
Сейчас им в свои компьютеры смотреть эстетичнее. А те, что с подвывертом хвастаются тем, что смотрят в окно.
Телевизор становится в глазах наших детей уделом плебса, нашим уделом то есть. Но ругать телевидение вообще – занятие зряшное, вроде как ругать молодежь.
Я и не ругаю.
Но вот меня что там удручает, в телевизоре-то, так это людоеды.
Потому как я был свидетелем прихода людоедов к нам.
Тогда, уже довольно давно, появились телевизионные шоу с выбыванием – они проходили и в замкнутых пространствах, и на фоне тропических морей с пальмами по краям.
Зрелища эти были людоедские.
В них, на пути к призу, персонажи постоянно кого-то едят. Причем этот кто-то – их товарищ. Вот они, персонажи шоу, собрались в круг под софиты, выбежала перед ними тетенька с металлическим голосом – и ну они друг друга жрать. С той же серьёзностью, что и пара зэков, прихвативших в побег собрата. Зэки, задурив голову молодому недоумку, жуют корм, который так и зовется – “корова”.
Зэки хотят жить, их ведёт по тайге угрюмый волчий закон.
А телевизионных героев зовет не “зелёный прокурор”, то есть – побег, а буржуазная морковка. Я верно это чую, член КПСС с восемьдесят пятого, с того времени, когда надежды были и крепка страна. Говорят, нам это всё американцы занесли, да только про настоящих американцев я ещё расскажу.
Может, какие и американцы, конечно, но – неправильные.
И вот я, старик, видел, как под разными софитами, за стеклом и в тех местах, где стёкол вовсе нет, участники едят друг друга. И это не радостное соревнование, а волчий лагерный закон – “умри ты сегодня, а я завтра”.
Неважно, что болтается перед участниками – миллион, ключи от квартиры, выгодный контракт, они добровольно жрут.
Жрут, жрут своих же.
И никому из этих людей внутренний голос не нашептывает ничего тревожного. Потому что игроки загодя отвечают на это: “меня – завтра, зато сегодня – я”.
Глянешь на какой-нибудь обитаемый остров – красота. А присмотришься – сидит там людоедское племя и жуёт кого-то под бананом.
Мне будут говорить, что людоедство – непреложное свойство популярности. Мне дети говорили, что это необходимый камень в фундаменте строительства светлого капиталистического завтра.
Ну, так я их понял, по крайней мере.
На это я отвечу, что очень популярный писатель, отнюдь не коммунист, живший в совершенно капиталистической стране, написал книгу о людях, что тоже живут на свежем воздухе и тоже неравнодушны к богатству.
Американцы они, по Аляске шуруют.
Как-то они переправляются по горной реке, обливаясь потом от страха, а потом переправляют своего случайного знакомого.
Тот, кому помогли, хочет вручить им за это пятьдесят долларов.
Но ему отвечают, что приехали в эти места, чтобы выколачивать деньгу из земли, а не из своих же товарищей.
Золото они там хотели искать.
Так я что скажу: вот это были правильные американцы. Эти американцы – настоящие коммунисты были, будь я помоложе вписался бы куда к ним, чтобы всех этих людоедов к ногтю привести.
Да не успею, конечно.
Только телевизор смотрю. Щёлк-щёлк, только там чавкают всё время».
Он говорит: «Есть знаменитая фраза. Её приписывают Хемингуэю – она есть у него в одном из романов. Но вряд ли Хемингуэй её придумал – отцов у хорошей фразы всегда много, а глупость – сирота.
Они стоят у окон роддома и вопят в окна: Шкловский и Ильф, Шолом-Алейхем и Жаботинский. Ну и этот американец, конечно.
Ну, понятно: вам стучат в дверь, вы открываете и видите пришедшего. Гость стряхивает шубу от снега, снимает огромную шапку, разматывает шарф и стягивает свитер. Наконец, он освобождается от сапог и распрямляется.
И вы видите – он дурак.
А вот с летним дураком всё иначе. Вам стучат в дверь. Вы открываете и видите – дурак пришёл!
Мне казалось в юности, что раз опознав дурака, сразу переводишь его в разряд демисезонных.
Трудно как-то поверить, что он улучшится с выпадением снега.
Но чем дольше я живу, тем больше мне кажется, что всё в мире постоянно – и мы обречены совершать одни и те же ошибки.
Раз за разом повторяя при этом: “Никогда больше!”
И дураки сидят у нас за столом, не раздеваясь.
Несмотря на летний день, они в зипунах и шапках.
Под ними лужи талой воды.
Вот так».
Он говорит: «А у меня с социализмом отношения свои. Давным-давно, когда я был мальчиком, то посетил Кунгурскую пещеру. Урал, туда-сюда, к бабушке приехал. Эта пещера была очень странная. Говорят, что с тех пор в ней сделали ремонт и следят, чтобы она не очень уж пещерилась. Но тогда она, вместе с очередью у входа натолкнула меня на одно, уместное тогда, сравнение.
Эта пещера была действующей моделью социализма. Там было холодно и сыро, довольно темно и грязно. Я был тогда очень маленький, и всё смотрел под ноги. Боялся, что если я упаду в какую-нибудь лужу, то утону в ней, и меня навсегда оставят в темноте.
Но когда мы выползли с другой стороны, все измазанные в подземной грязи, то увидели ещё несколько десятков развивающихся стран, идущих по нашему пути.
И серп с молотом, конечно.
Меня серпимолот завораживал. В серпе и молоте есть что-то улыбающееся, смешливое.
Это странный смайлик, причудливая рожица, на самом деле, позднее дело – в восемнадцатом году, когда придумали нагрудный знак красноармейца, роль серпа исполнял плуг.
Так это и называлось – “марсова звезда с плугом и молотом” Пентаграмма, звезда, звёздочка, прикатилась к нам колёсиком-шестерёнкой давным-давно – ещё при Николае она явилась из Франции, запоздалой контрибуцией наполеоновских войн, ибо так французы отмечали командиров. Марсова звезда укоренилась на обшлагах и околышах округлыми лучами. Она была похожа на красную лилию-мартогон, из которой вылез маленький Марс. Лилия смотрела рогом вниз, точь-в-точь, как греческая пентаграмма – поэтому убиваемые видели сверху два рога дьявола – вплоть до ордена «Красного знамени», на котором она семьдесят лет сохраняла это положение.
Но вот пришёл серпимолот.
Кто придумал его – неизвестно, история хранит нестройный хор многочисленных, но придушенных художников. Был ли это мирискуссник Чехонин, Камзолкин или Пуни – непонятно.
Плуг – орудие земное, растущее из земли, как корешок, всё же исчезло через четыре года. Меч из герба, как известно по воспоминаниям Бонч-Бруевича, выкусил Ленин. Трио превратилось в дуэт. Но серпимолот, попавший на красное полотнище флага двумя годами раньше, чем на новые кокарды, пошёл бродить по всем поверхностям нового мира. Серпимолот сохранил единственное число – и стал склоняться не как словосочетание, а как сиамская пара близнецов, склеенных посередине.
Серп, хоть и свистел подальше от земли, чем плуг, но остался всё тем же Пнем – пассивным и женским, он шмыгнул в руку колхозницы. Ян молота остался фрейдистским хреном в руках рабочего.
Но рабочий и колхозница держат в руках масонскую пару – молоток с мастерком.
Хлопотливые и наивные, ставшие персонажами анекдотов, масоны принесли в геральдику целый ящик инструментов – зубило духовного стремления, лом сокрушающей воли, циркуль разума, угольник точных параметров, мастерскую звезду опыта и знания, черпак братства и ватерпас судейского розлива.
Среди прочего там был молоток закона и структурный мастерок.
Молоток исполнял роль заседателя, стук его был колокольным звоном собрания, мастерок, будто Троица, регулировал пространство и общество.
Вдвоём они склеивали всё той же сиамской парой пространство и время.
Серп уже становился буржуазно змеёй, обвитой вокруг молотка-жезла Меркурия.
Вскоре мастерок изогнулся и заострил свой край, Ян мёртво встал в пазы Иня, и руки рабочего и колхозницы синхронно взлетели вверх.
И пошли писать губернии, префектуры и вилайеты, писать-рисовать серпимолот, легко наносимый и трудно смываемый – вот он, гляди, улыбается за углом, на почтовом ящике, на стенке брандмауэра.
И на стене Кунгурской пещеры – вот он, похожий на удава, тянет меня к себе.
И я улыбаюсь ему в ответ».
Он говорит: «А ты никогда в психушках не был? Нет? Я был один раз – пришёл навещать приятеля, который от армии косил. Ночь, зима, холодно ужасно. Почему ночью, я уже не помню, то ли мы ему шмаль несли, то ли ещё что, давно это было. Так вот, меня страх стал пробирать, как только я к воротам подошёл. Не знаю, как сейчас, но тогда – дашь малую денюжку, и тебя пустят. И вот всё равно страшно, страх сгущается, какие-то фигуры за мутными окнами… И чувство этого липкого страха, неотвратимой беды я запомнил навсегда. А ведь по сути, я так ни одного настоящего сумасшедшего и не видел там, друг наш не в счёт, сейчас в Бостоне живёт, не тужит.
Видал я сумасшедшего человека в другом совсем месте.
Однажды нас погнали снимать фильм про Чернобыльскую зону. Ну, как – погнали? Как-как… Деньги нас туда погнали, вот как. Денюжка уже немалая, не те три рубля, что мы тогда санитарам совали.
Я в этой Зоне видал много народу из тех, что вернулись обратно в леса. Живут безо всякой власти, в земле копошатся. Странный, понимаешь, призрачный мир.
И вот там я встретил одну старуху – она всю жизнь прожила в крохотном белорусском селе, где двери, вестимо, не запирались. Все друг друга знают. А после аварии, немного спустя, пришли к ним лихие люди грабить – да что там грабить, цветмет, медные провода, и всё такое по мелочи. Ну и потом, подожгли деревню. Погорельцы разбрелись куда-то, а старушка осталась.
Дом этой старушки не сгорел, но она помутилась рассудком. То, что люди, не немцы какие-то, а наши, могут поджечь деревню, так ей в голову стукнуло, что она стала жить в одном том пожарном дне.
Никакой памяти у неё не было. Она вставала, занималась своими делами, смотрела в мутное окно, дальше был пожар – и жизнь обнулялась. И на следующий день было мутное окно, белорусский лес за ним, потом пожар, и всё. Лет тридцать она жила в одном этом дне – по сравнению с этим истории про американских сурков смешны и нелепы.
Утро, ведро воды из колодца, две картошки в кастрюльке, засиженное мухами окно, а потом – пожар.
Тридцать лет, понимаешь.
Тридцать лет».
Он говорит: «Вот мы тут давно уже лежим, ждём процедур, а пока я расскажу вам о разных ценностях.
Однажды я видел живого министра. Правда министр был бывший, но это дела не меняет. Министр читал лекцию про Вебера и протестантскую этику. Говорил он и про либеральные ценности.
Министр был из той породы людей, что были выпестованы в особое время, людей успешных, но отчего-то с жаром пересказывающих вчерашние новости и вчера прочитанные книги, забывая, что кто-то мог прочитать эти книги много лет тому как.
Министр блеснул юношеской любовью к Дос Пассосу, но отказался говорить о литературе нынешней. Такие как он, в шестьдесят прочитали то, что большинство студентов теперь читают на втором курсе, а более продвинутые их шестидесятилетние сверстники прочитали давным-давно, когда выучили иностранные языки.
И вот запоздалое открытие так удивило эту особую породу людей, что все они превратились в старинно-рекламных продавцов колбасных отделов, которые, прежде чем что-то взвесить, долго трут бляху отличника торговли. Но то, что они норовят взвесить, давно описано в истории про коньяк, что выпила преподавательница французского языка, всю жизнь воздерживавшаяся от алкоголя.
Эту историю, кстати, рассказывает Остап Бендер.
Я был готов простить правым и, кстати, этому министру, криво воплощённые программы, но вот криво написанные, плохо рассказанные – нет. Дело в том, что идея либерализма в России скомпрометирована. А успех любых радикалов не в их идеологической или эстетической красоте, а в том, что нормальный обыватель разочарован в либералах, ну, то есть, людях, что так себя называли, которым дали поруководить страной. После нашей встречи я нашёл официальную статью, которая написана примерно таким языком: “Это дополнение выводит нас за пределы смыслового поля идеального типа, но оно существенно для прояснения некоторых особенностей сознания именно российских граждан…”
Итак, министр говорил сам, говорили и другие люди, причём все говорили об этих виртуальных ценностях, хоть мой приятель и заметил тут же, что у нас часто исторические привычки называются духовными ценностями.
Тогда-то я поднял руку и спросил о том, нельзя ли мне узнать список этих либеральных ценностей. Отчего-то министр начал гнуться и ломаться как пряник. Вернее, он начал на меня глядеть как партизан на допросе, но, путая след, говорил и говорил, что сейчас их перечислять не следует, но у него есть статья – о либеральных ценностях, и о ценностях демократических.
– Да я вам вышлю, – сказал он, наконец. – Вышлю, не сомневайтесь.
Я, встав, и пройдя сквозь ряды столов, положил ему на кафедру свою визитную карточку.
И, ясное дело, хоть прошло немало времени, по-прежнему живу без либеральных ценностей.
И без демократических – тоже».
Он говорит: «Да это что? – я про предыдущую историю с либеральными ценностями.
Я другую расскажу.
Однажды я сидел на каком-то докладе в секции хлопобудов и будохлопов. Доклад, впрочем, делал городской сумасшедший. Есть такое правило – если человек выглядит как городской сумасшедший, ведёт себя как городской сумасшедший, говорит как городской сумасшедший, то он городской сумасшедший и есть.
Так вышло и здесь.
Я, впрочем, часто манкирую правилом определения городских сумасшедших, за что меня жизнь наказывает. С другой стороны, они часто становятся предвозвестниками удивительных и сакральных истин.
Итак, я сидел во втором ряду конференц-зала и слушал доклад про Россию и Европу. За свою жизнь я прослушал не менее сотни докладов на эту тему, оттого я знаю, что вся эта тема сводится к тому, что на слово “Россия” в русском языке нет неприличной рифмы, а на слово “Европа” – есть.
Докладчик тут же сказал, что “Европа на протяжении последнего тысячелетия была централизованным государством” Он продолжал говорить, а я терпел. Докладчик, собственно развивал мысль, что оттого, что Россия и Европа имеют христианские ценности, они (Россия и Европа) должны объединиться.
Наконец, он сказал, что «христианские ценности сформулированы в двенадцати заповедях». Это меня очень взволновало, потому что я как-то уже потерпел поражение с либеральными и демократическими ценностями. Теперь, подумал я, можно отыграться на христианских, что идут прямо ко мне в руки. Поэтому и я решил уточнить short list. Я честно спросил докладчика – каковы эти ценности.
Докладчик посмотрел на меня, как на лоха. Он посмотрел на меня, как на последнего лоха.
– Христианские ценности сформулированы в двенадцати заповедях Моисея, – сказал он.
Вот это было круто. Я понял, что для лохов у Моисея было десять заповедей, а ещё две – для правильных пацанов. Вместе с барабаном, да.
Тут я набрался мужества и попросил перечислить.
Докладчик перечислил.
Я понял, что не узнал в этом изложении ни одной. Это всё были другие заповеди.
Они были вообще другие, и я не мог запомнить ни одной. Не про меня была эта честь, я был помечен как шельма.
Оставалось стать в переходе со скрипочкой».
Он говорит: «Время идёт, а я не стал тем, и не стал этим. Миноносец под моим командованием не войдёт в нейтральные воды – из своих не выйдет. Помнишь, кто сказал? Нет? А я вот много помню всего ненужного. К примеру, дождь в горах зимой. И ещё помню, как был Гулливером. Но обо всём по порядку.
Дожди в горах совсем не то, что дожди в городе. Ты ближе к небу, и иногда видишь облака внизу.
Дождь не капает, капли не успевают разогнаться, покидая тучу. Этот горный дождь окружает тебя – справа и слева, он заходит снизу, всё мешается – пот и вода.
Однажды дождь шёл весь день, и весь день нужно было идти по скользким камням. Вода смыла снег, проникла всюду, а, главное, быстро намочила спину И это было очень хорошо, потому что самое главное – перестать чувствовать отдельные капли.
Но к вечеру, вернее, к сумеркам похолодало. Огня не разведёшь, и каждая веточка была в аккуратном чехольчике изо льда. Угрюмо было и сыро, будто внутри кадра из старой хроники, где мёрзнут американские солдаты в Арденнском лесу.
Мы, мальчики, устраивались в сырых норах, и на всё это падал, кружась, горный снег. Небо было неотличимо от склона, а чёрная нитка от белой.
Я по привычке выпростал руки наружу и заснул. Проснулся я оттого, что не мог повернуться. Легонько повёл руками, и почувствовал, что стал похож на Гулливера, попавшегося в плен к лилипутам. Это сравнение пришло позже, через несколько лет, а тогда я был просто маленьким животным, спящим в горах. Мыслей не было, не было сравнений, не было ничего. Накативший страх был тоже животным. Я дёрнулся ещё раз как пойманный зверёк, суетно, совсем непохоже на Гулливера, и понял, наконец, в чём дело.
Ночь холодна перед рассветом.
Дождь, обволакивавший меня, превратился в лёд. Рукава бушлата примёрзли к земле.
И я ещё раз резко дёрнулся, освобождаясь от этих лилипутских верёвок. Не было ничего – кроме дождя, который снова начинался – как предчувствие восхода.
Осталось ещё, сухим-несухим остатком, желание быть настоящим Гулливером».
Он говорит: «Раз уж все стали вспоминать о прошлом, я расскажу вам о прививке.
У меня была прививка от стриптиза.
Непонятно отчего, но стриптиз мне скушен, ничего я в нём не нахожу.
Может, это от того, что было время, когда я три раза в неделю приходил в ночной клуб – по делам. И примерно час сидел там в зале, ожидая одного человека.
В отдельной части этого клуба, куда не долетал грохот катящихся пластмассовых яиц с тремя дырками и треск яиц мелких, бильярдных, шло стриптиз-шоу. Барышни, будто медведи в зоопарке, слонялись по очереди в загончике ниже столиков. По очереди забирались на шест и висели там, словно обезьяны.
Одна из них была длинной-длинной.
Как жираф из того же зоопарка.
Она опровергала собой утверждение, что красивых ног не бывает много.
Когда я её увидел в первый раз, то случайно упал в стоящее рядом массажное кресло, которое сразу затряслось, задёргалось и начало само меня массировать. Кресло думало, что я его выбрал по любви, и старалось вовсю вилять хвостом, как ничейная собака в приюте.
Она заметила это и, проходя мимо меня, бросила:
– Красивых ног не бывает много, не правда ли?
Ноги были такие длинные-длинные, практически длиной в две комнаты. Будто жена художника Микеланджело. Но никакой радости это во мне не вызывало, а только очень странное сравнение – похожа она была на какую-то членистую и суставную машину из «Звёздных войн», малоподвижную, с крохотной головой-башенкой наверху.
Внутри кресла, под моей спиной что-то каталось и постукивало меня по хребтине. Это напоминало землетрясение, были утеряно доверие к свойствам поверхности.
А вокруг стоял шум, гам, девушка с длинными ногами уходила на перерыв, и её ноги струились по выставочным залам, как два мультипликационных удава.
Я закрыл глаза, хотел было заткнуть уши, но руки оказались прижаты специальными ремнями этого самого кресла. Ноги мои подёргивались и, наверное, удлинялись. Всё это напоминало приключенческие фильмы, где любовника-агента с правом на убийство то и дело забывают в центрифуге.
Но это было в первый раз, а потом я бывал там часто – и кресло сидело в углу, обиженное и покинутое.
Зрителей не было, кроме меня и двух-трёх скучающих женщин. Для них стриптизёрши немного полизали друг друга, а потом подсели за их столик.
На меня там давно перестали обращать внимание.
Они знали, что я ничего не буду совать этим барышням в трусы.
Но потом, как раз за несколько минут до того, когда ко мне выходил человек с пакетом, началось самое интересное – конец смены.
Стриптизёрши шли домой – уже в свитерах, джинсах и кроссовках.
И я понимал, что скучные у них пляски, а так вот ничего.
Прививка, да.
Но, по-моему, дело не в прививке, мне бы и так не понравилось».
Он говорит: «Вот Липецк.
Знатный город, кстати.
Областной. Он, Липецк – областной, а не Елец.
Я приехал туда на Комбинат и спрашиваю одного – а что не Елец столица?
А он мне говорит:
– Видишь ли, – там, в Ельце эсеры всякие с кадетами сидели, а тут больше коммунисты.
Ну и когда спустя сорок лет области стали наново нарезать, одни старики припомнили другим прежние обиды.
Я ему поверил, да не очень. Всё-таки – Комбинат там. А потом понял, что в Липецке полно разных неожиданностей.
К примеру, там жена партийного секретаря хотела зоопарк.
А было такое правило в прежние времена, что зоопарк не всем городам положен, а только главным. Как и метро – вот если город-миллионик, или там столица союзной республики, то можно метро, а так – нет. Ну и все города пытались как-то это правило обойти.
А жена секретаря зоопарк хотела – пилила-пилила мужа, да и выпилила себе зоопарк.
А работать там, конечно, некому. Специалистов нет, симпатичных тигрят по домам разбирали. Крокодил и вовсе сдох.
Сразу-то это не поняли, мало в Липецке специалистов по крокодилам.
Дети говорят:
– Что это у вас крокодил лежит и ничего не делает?
А им отвечают:
– Он устал и спит.
Ну потом, конечно, разобрались.
Зато там тамбовский волк в зоопарке был. И всё оттого, что это рядом Тамбовщина.
Опасные места.
Да и сам Липецк, кстати, довольно опасный город.
Я-то там был недолго, но и каждый день в жару пил воду из бювета – который у них там в центре, рядом с зоопарком.
Шёл мимо и пил – каждый день.
А как вернулся в Москву, то обнаружил странные рези в сокровенных-то моих местах.
Начал томиться, потому как перед женой неудобно, и надо, вроде признаваться.
Липецкие девушки весьма знойны, подозреваю, в отличие от крокодила, и в нынешние времена.
Ан нет, это липецкая вода.
Вышли у меня камни из почек, а я о них и не подозревал.
Непростой город, да».
Он говорит: «А я, дорогие мои скорбные товарищи, больше всего люблю язык уставов и инструкций. Больше всяких художественных книг, я имею в виду.
Более всего я люблю справочники и словари. Если они врут, то прямо глядя в глаза, не прячась за эмоциями художественной литературы и лживыми ссылками документальных повествований.
Так же хороши боевые наставления.
Все они пишутся кровь, понятное дело, но дело не только в способе письма, а в том, что это всё писано для того, чтобы спастись, а не для того, чтобы развлечься, как эти ваши романы. А коли надо кого-то спасти, то уж нечего рассусоливать, место нужно экономить, не говоря уж о времени.
Вот в пору моей службы я прилежно читал чудесную книгу “Памятка лётному экипажу по действиям после вынужденного приземления в безлюдной местности или приводнения”.
Её чеканные формулировки и советы, что годятся эпиграфом к любому роману, в моей душе укоренены навечно.
Хоть прошло много лет, половину этих текстов я помню наизусть. И не могу не поделиться хотя бы некоторыми из них. Вот вам, тем, кому не выпало счастье такого чтения: «Оказавшись в безлюдной местности, прежде, чем принять какое-либо решение, сначала успокойтесь, соберитесь с мыслями и оцените создавшееся положение. Вспомните всё, что вы знаете о выживании в подобных условиях. Действуйте в соответствии с конкретной обстановкой, временем года, характером местности, удалением от населённых пунктов, состоянием здоровья членов экипажа.
Ваша воля, мужество, активность и находчивость обеспечат успех в самой сложной обстановке автономного существования».[1]
И с тех пор я знал, что буду после приземления на парашюте следовать по курсу самолёта, так как командир покидает борт последним, я клялся себе, что буду высматривать в воде ушастую медузу как признак близкого берега, на который постараюсь выйти вместе с волной. Я клялся себе, что искусственное дыхание я буду производить до появления самостоятельного дыхания у моего товарища или явных признаков его смерти, коими считаются окоченение и трупные пятна. И поразит меня презрение и гнев членов моего экипажа, если в районе радиоактивного заражения я не стану тщательно освежёвывать пойманных животных и удалять прочь их внутренности. Если я не буду варить и жарить мясо этого зверья, избегая при этом пользовать в пищу сердце, печень, селезёнку и мясо, прилежащее к костям.
Я верен этой книге, как той присяге несуществующему государству, которую никогда не нарушал.
Просыпаясь утром, подняв голову с подушки, я сразу вспоминаю шестьдесят третью страницу Памятки “Решение остаться на месте приземления или покинуть его – один из самых ответственных элементов вашего выживания”».
Он говорит: «Знаешь, старичок, а у меня есть тоже история про инструкции. Вернее, про классификации. Среди всяко разных классификаций – самая известная классификация принадлежит Борхесу. Та самая, тут люди читающие собрались, кое-что слышали, то, значит его перечисление живых тварей – с животными, нарисованными тончайшей кистью, невидимыми для глаза и животными на вазе императора. И ещё чёрт знает, какими прочими зверюшками.
Но классификация эта избита, цитируется на каждом углу, и может служить только основой для пародий.
Когда я рассказал это одному своему приятелю (у нас Борхеса еще не всякий читал), то он внимательно посмотрел на меня, видимо взвешивая, достоин я ли лишнего сакрального знания, и рассказал свою историю. История эта была давняя и посвящена она была тому, как приятель мой стоял, недвижим, полчаса в одном почтовом отделении, что было затеряно в бескрайних просторах страны на четыре буквы.
Там, в этом почтовом отделении, среди прочих надписей, правил и указующих сведений висела жестяная эмалированная табличка, на которой белыми буквами по синей эмали было написано:
“Грузы делятся на:
– грузы делимые,
– грузы неделимые,
– и живых пчёл”
Вот это круче, чем чистая латиноамериканская мудрость, это – тропические дожди, перелитые на русскую землю и тропки, расходящиеся среди совхозной пашни. Всё маразм, кроме пчёл.
Кроме пчёл и, конечно, наших неделимых и делимых грузов».
Он говорит: «Однажды, давным-давно, когда вода была мокрее, а сахар был слаще, некоторых студентов возили на археологическую практику.
И я был промеж ними.
Студенты ковырялись в сухой и жаркой земле Тавриды, пили бессмысленное розовое вино и гуляли по набережной.
Ещё по набережной фланировала публика. Эту картину, доложу я вам, точно описал хороший писатель Коваль: «Прогулка по набережной, без всякого сомнения, – всегда любопытна. Вот курортные молодцы шастают взад-вперёд, глазами излавливая девиц. Да немного ныне на свете девиц – так, не поймёшь чего шандалит по набережной – и недоростки, и переростки, и откровенно поблёкшие бляди». К этому, правда, Коваль пририсовал ещё рисунок с автографом: “Вот и девки, ждущие женихов. Такие, однако, толстопопые”.
Публика на набережной время от времени фотографировалась, давая пропитание целой мафии нищих фотографов. Один из них был примечателен своими фотографическими аксессуарами – вместо обезьяны у него была ручная белка. Также рядом с ним в кадке стояла помесь пальмы и ёлки. Этот фотограф всем пришедшим за фотографиями говорил, что, дескать, зайдите через неделю. Учитывая, что люди часто фотографируются в последний день перед отъездом, чтобы показать на далёком Севере увиденных толстопопых и не очень девиц, имея под рукой свидетельство побед, фотограф всё же входил в положение курортников. За небольшие деньги он обещал выслать им фото по почте.
Дело было в том, что фотограф даже не вставлял плёнку в аппарат. Отдыхающие легко забывали об отданных деньгах – они казались мздой не фотографу, а белке.
Но вот студенты-археологи, напившись бессмысленного розового вина, приходили к нему снова и снова – с квитанциями, что оставляли им уехавшие товарищами. Сезон раскопок начинался в апреле, и к сентябрю те из них, кто продолжал ковыряться в земле, приходили к владельцу белки со всё более и более толстой пачкой квитанций.
Оправдываться фотографу было всё труднее и труднее.
И вот, в середине бархатного сезона студенты обнаружили, что с набережной исчезли пальма в кадке, белка и, разумеется, фотограф.
Он покинул курортный город, славящийся лечебными грязями, и ушёл по широкой дороге, идущей через степь.
Я так представляю себе эту картину – плоское пространство до горизонта пусто и безжизненно Оно освещено закатным солнцем. По дороге бредёт человек с пальмой на спине, а рядом с ним бежит, быстро перебирая лапками, позванивая цепочкой, унылая белка.
Мне печально и горестно. Мне хочется отдать отсутствующие у меня деньги фотографу.
Ну, и белке, конечно.
Но история эта растворилась в прошлом. Её черты смыты рекой Летою, иначе называемой Салгир. Белки ушли в ту страну, где не вырублена винная лоза и молоко продаётся в пирамидальных археологических пакетах за шестнадцать копеек».
Он говорит: «Всякий посещал свадьбы – дело-то житейское, хотя наша традиционная свадьба всё равно, что традиционное кладбище с пластмассовыми цветами. Ну а свадьбы-то кое-кто посещал и свои – да по несколько раз. Я был на этих мероприятиях нечастым гостем, и первый раз – как первая любовь.
Однажды меня пригласили на одно такое мероприятие – по ошибке. Статус мой был – “лицо, состоящее при свидетеле”.
Меня везли, пока я не очутился в какой-то квартире. Там, натурально, суета, похожая на похоронную – продолжаю тему. Видал я такое на похоронах, когда все мнутся, а блины с водкой маячат в отдаленной перспективе. Приглашённые толпами жались к стенам, медленно разворачиваясь лицом к проходу, пропуская кого-то по коридорам.
Наконец, молодые проследовали в казённый дом, выйдя вместе, но потом сев в разные машины. Тогда в казённых домах они назывались “врачующимися”. На свидетелях же были надеты через плечо ленты. На лентах горела надпись: “Почётный свидетель”. Так что свидетели они не настоящие, а как чукча-академик: почётные.
К врачующимся постоянно подбегал человек и, между прочим, спрашивал:
– Фотографа не заказывали? Ваше де-е-ело.
На конце там не восклицательный знак или вопросительный, а оскорбительно-недоумённый. Что, дескать, жметесь?!
Врачующихся вызывал металлический вокзальный голос, а внутренность помещения больше всего напоминала не вокзал, а крематорий. Чаще всего я слушал Мендельсона, но кто-то заказал “Yellow submarine”. Тогда стало модно снимать выход видеокамерой – от этих услуг отказаться было невозможно. Результат тут же предъявлялся – с хрипами, шумами и бегущей у края кадра милицейской цифирью.
Мы приехали на Ленинские горы, где сновали “Чайки”, стояли пузатые туристические автобусы, толклись иностранцы, а смотровая площадка была заляпана липким шампанским.
Я когда-то учился рядом. Мокрый и грязный, пыхтя, бегал вдоль Москвы-реки по скользкому склону, уворачиваясь от хрустальных бокалов. Называлось это – физкультура.
Снова сели в машины и поехали. За окошками кончился город, пошли перелески и поля. Наконец, нас ввели в ресторан.
Тут я захотел сесть, но понял, что места-то для меня и нет.
То сяду с какой-то рахитичной девицей – придёт муж и ласково тронет меня за плечо. Примощусь рядом со старичком, похожим на иностранного пианиста Горовица – подползёт его жена, смахивающая на черепаху, и сгонит меня со стула. Все уже сели, а я болтаюсь вне строя.
Все уже накололи на вилки первый грибочек, налили большие и маленькие рюмки, звякнули тарелками. Капнули на соседкины платья, опрокинули что-то, наконец, а я всё бегаю – ищу себе места.
Уф, сел. В самом дальнем углу.
Слева сидела величественная дама, похожая на воблу в костюме, дальше – её сестрица, а справа жевал какую-то траву краснолицый человек с фотоаппаратом.
Чего бы ухватить? Вот маринованный огурчик… Ох, унесли!
Нацелюсь-ка я на колбаску. Куда, куда!
Ну да без колбаски проживем, всё равно до выпивки мне не дотянуться, а минеральная вода вокруг меня уже была выпита родственниками.
Они же неодобрительно посматривали на меня: кто, дескать, такой, и не просто ли он пришёл поесть на дармовщинку?
А мне и есть-то нечего, хрустел я единственно зелёными химическими огурцами.
– Что это вы ничего не пьёте, – спросил меня краснолицый человек.
– Служба не позволяет, – ответил я злобно.
– А где это вы… Ик!.. работаете?
– Да в одной не очень популярной теперь организации, – отвечал я.
– А-аа… – понимающе закивал головой краснолицый и, на всякий случай, отсел подальше, кого-то ещё спрашивает:
– Как зовут жениха, а?
– Денис Михайлович!
– А отца жениха?
– Сергей Львович!
– Э-ээ, – запутался краснолицый в непостижимой логической задаче и поник головой.
Но тут запели – по очереди, а потом все вместе.
– О чём дева плачи-и-ит, о чём дева плачи-и-ит… – заголосила пожилая родственница невесты. Голос её вибрировал, и в такт ему звенели бокалы на столе.
Одно крыло стола стало подпевать ей, другое затянуло ещё что-то – кажется, про степь и ямщика. В этот момент неизвестный ублюдочный человек с кривыми зубами просунул в дверь свою рожу, ухмыльнулся и исчез.
Сразу же заухал, задребезжал магнитофон, и побежали в пляс старухи, высоко задирая сухие ноги.
Больше я ничего не помню до того самого момента, пока не понесли невесту, стуча ей о стены.
Пока я не пал в какие-то кусты, вскоре заблудившись в тёмных просёлочных дорогах, что никак не выводили меня к шоссе».
Он говорит: «Сейчас все про кошек говорят, что они, кошечки, самое умилительное. Внучка вот бормочет “мимими”, и ещё говорят “няша”, и ещё как-то бормочет, не помню.
Дело в том, что кошечки доступнее всего.
А было такое время у нас, когда лемуров повезли.
Повезли к нам лемуров.
Я никак не мог в толк взять, что за звери, которые что в энциклопедиях именуются полуобезьянами. Может, они и есть загадочное промежуточное звено. У многих моих друзей лемуры были, то есть они у них живут, тут я сам запутался – кто у кого именно.
То есть, я, чуть что, в словарь гляжу, а там какие-то существа, что Парацельс называл элементалами воздуха; элементариями умерших; «стучащими и опрокидывающими духами». И не тех существ, что производят физические манифестации.
Потом стал смотреть дальше, а там писатель Борхес в “Книге вымышленных существ” писал, что это неприкаянные души людей, что «блуждают по земле, смущая покой её обитателей. Добрых духов называли Lares familiares, злые носили название Larvae или Lemures. Они устраивали людей добродетельных и неустанно терзали порочных и нечестивых; у римлян был обычай справлять в месяце мае в их честь празднества, называвшиеся “лемурии” или “лемуралии”… Существовал обычай бросать на могилы усопших чёрные бобы или сжигать их, так как считалось, что лемуры не выносят этого дыма. Произносились также магические слова, и люди били по котлам и барабанам, веря, что духи удалятся и больше не вернутся тревожить своих родственников на земле».
Но к чёрту эти бобы и барабаны, речь не о мистике.
Речь о других обезьянах наполовину – лемуры были в тех домах, куда я ходил. Не дрэзи, и не индри, короткохвостых, и не лемуры вари, галаго или даже руконожку мадагаскарскую. Тогда, среди безумств первоначально накопленного капитала, держали лори, которого не следует путать с попугаями похожего имени – разница между Lorisidae и Loriidae есть, хоть и только в одну букву.
Один лемур непростой судьбы жил в доме просвещённых и жалостных людей. Он однажды объелся, и начался у этого лемура понос. Тогда лемур забрался на унитаз и сидел на краю этого унитаза сутки, а потом ещё одни. Никто не мог его согнать с этого унитаза – хозяева и гости открывали дверь и сразу видели маленькое пушистое существо с огромными глазами.
В Макдональдс ходили.
Всё тот же лемур по ночам протоптал себе в ковре тропинки и деловито ходил по ним. Это и были действительно ночные дороги лемура.
Но однажды летом люди поставили посреди комнаты огромный напольный вентилятор.
Той же ночью хозяева услышали обычное топанье, окончившееся резким звоном. Лемур ещё немного постоял в темноте некоторое время, вращая глазами и разводя ручками. А потом вернулся к себе и не показывался наружу целую неделю.
Этот лемур больше всего любил мучных червей и внезапно обнаружил ведро с этими червяками в ванной. Он залез туда и понял, что попал в свой лемурий рай. Он стоял по колено в счастье и разводил лапками. Есть ничего не надо было, можно было просто стоять – и это было счастье.
Но вдруг пришли люди и вынули его из ведра.
В ответ маленькое пушистое существо показало, чем оно отличается от Адама. Оно прогнулось на руках, тщательно прицелилось и укусило руку, изгонявшую его из рая.
Я и сам ночевал в этом доме.
Нравы были просты, и хозяева не обзавелись ещё домом с гостевыми спальнями.
Оттого спал я на полу – в старом спальнике. Не было тогда предпринимателя без спальников, а вот без лемуров – были. Тогда всё было начерно – алкоголь лёгок, женщины – боевые подруги, а элементарии умерших ещё не выглядывали из-за всех углов, а стучащие и опрокидывающие духи ещё не поселились навсегда в наших шкафах.
Мы с хозяевами проговорили полночи, всё о душещипательных вещах.
Жестокие люди, а мы были по-юношески жестоки, всегда сентиментальны. Теперь лемуры покинули нас, не прижились. Оттого поводов для сантиментов больше.
Всё затихло, дождавшийся, наконец, тишины лемур вылез и пошёл своей ночной дорогой. Он добрался и до меня, лежащего на пути. Я увидел два огромных глаза над собой.
Помедлив, лемур протянул свою лапку и погладил меня по голове.
А потом тихо ушёл.
И я прорыдал до утра».
Он говорит: «Когда дело к закату идёт, то спишь беспокойно, а, проснувшись в ночи, уже не думаешь, как прирастить благосостояние Родины какой-нибудь внутренней Сибирью.
Лежишь тихо и тупо смотришь в потолок.
Вспоминаешь былое – ну, что-нибудь дурацкое. То, к примеру, как мы всю жизнь боялись подписей и печатей. Печати-то только вот отменили, а я слыхал, что есть страны, где и подписей вовсе нет.
– Вот представим, что приходит ко мне Чёрный Человек и предлагает подписать какую-нибудь бумагу. Перечисляет какие-то непонятные фамилии тех, кто это уже сделал, придвигает ко мне флакон.
Я сразу начинаю суетиться, спрашивать:
– Это кровь?
– Чернила, – отвечает он.
И, главное, бумага должна быть какая-нибудь дурацкая. Даже не “Волга впадает в Каспийское море”, а “Десять часов пятнадцать минут”. Или, положим, цифра “восемь” посреди листа.
– Подписывай, – говорит чёрный человек, – смотри, сколько народищу уже подписало.
– Хули? – начинаю напрягаться я. Я ведь и в ведомости за зарплату с некоторым испугом расписываюсь. И понятно, что начинается морок общественного безумия, потому что одним цифра “восемь” кажется светочем правопорядка, а другим – убийцей демократии. Все действия для тех и других наполнены особыми договорными смыслами, цепочками ассоциаций. А меня и те, и другие, и третьи – сразу насторожили.
– Так ты против цифры “восемь”? Да? Или нет? – угрюмо спрашивает Чёрный Человек. И я понимаю, что не против, она круглая такая, соблазнительная, с двумя кругами – только хрен знает, что это всё значит. А вокруг уже страсти бушуют, все взад-вперёд с плакатами ходят – только одни на плакатах прямо цифру восемь носят, а другие – кверху ногами. И скажешь, что тебе цифра “восемь” нравится, одни руки не подадут, а скажешь, что испытываешь к ней сильное отвращение – душой покривишь, да и, обратно, другие говном закидают.
– Знаете, – говорю я Чёрному Человеку, – я вообще-то в коллективных акциях не участвую, разве что при посадке деревьев и в застолье. Да и то, маленькими компаниями. Может, нахер? Нахер, а?
– Серёжа?! Как так? Нахер нельзя! – с возмущением говорит Чёрный Человек. – Серге-е-ей Александрови-и-ич!..
– Какой я тебе Серёжа? – отвечаю я. – Охренел совсем? Я Владимир Сергеевич.
– Так вы не Есенин? – удивляется он. – Фигасе! Столько времени с каким-то уродом потерял.
И уходит.
Ну, а я – засыпаю. Воображение штука утомительная, а сон, хоть и рваный, всё равно сон.
А там и утро, сестра с процедурами, завтрак, обход, а там и снова сон после обеда».
Он говорит: «А я служил военным представителем – но не в военной приёмке, а по зарубежным контрактам.
В Индии служил, например.
Россия всё время дружила с Индией. Замечено, что удобнее дружить с теми странами, с которыми не имеешь общей границы.
Русиш – хинди бхай-бхай, индийское кино и мода на йогу, визит Хрущёва, как следствие этого – расплодившиеся будильники со слоном, называвшиеся “Дружба” в пику китайским одеялам. Кстати, в тот момент, когда дружба с Китаем, благодаря общей границе в районе острова Даманский уменьшилась, китайца на плакатах, где в свальном братском объятии были изображены разноцветные пляшущие человечки, жёлтого китайца на них заместил коричневатый бесполый индус с пятнышком промеж бровей.
С Индией мы давно дружили, и дружба крепилась ракетами-носителями, дизельными подводными лодками, истребителями МиГ-21-Копьё и прочие полезными вещами.
Однажды целый самолёт разных начальников полетел продавать очередные полезные вещи в Индию. Самолёт этот принадлежал одной знаменитой компании по продаже полезных вещей. На борту были все свои – и пить, конечно, начали прямо на взлёте.
Путь был неблизкий, и не скоро они достигли пункта назначения.
Но вот уже аэропорт, переминается с ноги на ногу почётный караул, самолёт рулит к ковровой дорожке. Тут произошла минутная заминка, поскольку аэродромные люди с пятнышком между бровей не успели подать трап.
Вдруг открывается дверь, и прямо на взлётно-посадочную полосу вываливается человек с портфелем. Шлёп! Он отряхивается, подбирает портфель, и, игнорируя почётный караул, трусит к аэропорту. Пауза. Вслед за ним из дырки в борту выпадает второй человек. Шлёп! Он подбирает разлетевшиеся бумаги, и, прихрамывая, тоже бредёт к зданию аэропорта мимо ковровой дорожки.
Люди с пятнышками между бровей подписали контракт тем же вечером.
Такая вот у меня история была».
Он говорит: «Однажды наша компания отправилась в Крым. Это давно было – он тогда ещё не то, что украинский, советский он был. А мы были молоды. Деньги экономились, как экономилось всё тогда, включая удобства. Поэтому мои конфиденты тряслись в плацкартном вагоне. Много было там чего интересного, всякие интересные вещи были и вокруг. Например, цистерны с блестящими в темноте подтёками на боках. Интересными были и только что появившиеся повсюду пограничники – разномастные, но удивительно нахальные.
Поезд останавливался часто, и тогда становилось слышно сонное ночное дыхание. Стучали обходчики по буксам, и звук этот, вначале резкий, висел в воздухе, длился, сходился и расходился по составу.
Но интереснее всего был наш проводник. Он в раздражении разглядывал вагон и говорил время от времени:
– И ведь никто не прибирается!..
Среди прочих путешественников был и мой давний друг. Вьетнамист, промышляющий ныне продажей оружия, законник и человек весьма рациональной жизни. Он сразу завернулся в простыню и уснул.
Время длилось, и на звон стекла пришёл проводник. Проводник оказался обласкан нашими не спящими девушками и, опробовав жидкое, захотел обратиться к мягкому. Видимо, он решил, что если девушка ему добровольно наливает, то должна сделать и ещё что-то. Но, wer das Kleine nicht ehrt, ist des Grossen nicht wert.
Девушки возмутились, а проводник обиделся. Он начал кричать, что у одного из нас билет в другом вагоне (это была правда), и отчего-то пинать нижнюю полку, на которой спал наш товарищ (а спал он, кстати, как раз на своём месте).
Мы говорили проводнику: “Не буди его. Не буди его, брат наш проводник, повелитель простыней и король чайных стаканов, не делай этого – хуже будет”.
Но проводник не слушал нас, он кричал: “Вставай, кабан!”
Напрасно он это делал.
Мы его предупреждали.
А он нас не слушал.
Лодочник действительно встал и молча пошёл в другой вагон, но прошёл его насквозь, прошёл и следующий, и нашёл бригадира поезда. И рассказал тому о невесть откуда взявшемся пьяном сумасшедшем скандалисте.
Бригадир пришёл и начал колотить своего подчинённого на глазах у всего проснувшегося вагона. Ситуация осложнялась тем, что оба железнодорожника были грузинами и громко кричали на своём гортанном наречии. Проснулся весь вагон, побежали бессмысленные и никчемные чужие дети, упал старичок со второй полки, и вот, в начавшемся тогда бедламе я живу до сих пор».
Он говорит: «Суеты не люблю, но пуще не люблю кампаний. Дело было давнее, когда не отзвенел ещё горбачёвский указ. У нас ведь что? Страшнее, чем под трамвай – под кампанию попасть. А уж тогда, под указ, нажить неприятностей по пьяни было легче лёгкого.
В ту бездну столько народу упало, что мама не горюй.
Один товарищ наш тогда учился в институте, среди тех евреев, что опасались в разные знаменитые вузы поступать, и паслись всё в каких-то странных институтах, но на математических кафедрах. Напрасно, меж тем, говорят, что евреи не пьют – очень даже пьют, хоть и не все.
И вот товарищ наш напился как-то страшно, и хоть предлагали ему переждать до утра на матрасике, не внял он молитвам. Может, там какие иные у него резоны были, но, так или иначе, поплёлся он домой.
Метро закрыто, в такси не содют, в общем, печаль, как сообщал нам один поэт.
Однако кое-какие люди всё-таки обратили на нашего товарища внимание. Только были эти люди в погонах, и передвигались по улицам в экипаже, в просторечии называвшемся тогда “бобик”.
Останавливают они свой бобик рядом и заводят неспешный разговор.
И тут бы нашему товарищу этот разговор поддержать, отвечая кратко и односложно, но он не поддержал и не отвечал, а побежал, дурак, куда-то в сторону, но только не убежал далеко, зацепился за что-то и вовсе упал.
Тут-то его и приняли.
Протокол стали составлять прямо на капоте.
Ну, студенческий билет из него извлекли, однако для полноты картины спросили про год рождения.
Ему-то вовсе не хочется ни под трамвай, ни под компанию, опять же, институт, военная кафедра, а кому хочется делать двухгодичный перерыв в функциях Лагранжа, или что он там изучал. Он засуетился и решил милицейских людей удивить, чтобы они его за блаженного приняли, а потом и отпустили Христа ради.
Поэтому он про год рождения и отвечает:
– 11110101110.
Это он заранее в двоичную систему перевёл.
И видит: подействовало. Милицейские люди, впрочем, попросили его ещё раз назвать, сверились с записанным, и видят – стоит на своём.
Погрузили его всё-таки в машину, называемую “бобик”, да и повезли куда-то.
Выгрузили у какого-то здания в ночи, да проводят в приёмный покой. Тут-то наш математик душою воспрял.
А милицейские люди пока с врачами собеседуют.
– Вот вам, – говорят, – математика привезли.
И всё рассказывают, как есть.
Люди в белых халатах задумались, да цап нашего товарища, и повели его по тёмным коридорам. Больше он своих милиционеров и не видел.
Выждал товарищ наш ещё часок, да и говорит медбрату, что по-прежнему держит его ласково, но цепко:
– Всё это глупости, напился я, от ментов бежал, нельзя мне попадаться, институт, экзамены, сессия…
Ну и тому подобное дальше.
Смотрит, а медбрат, скучая, в сторону смотрит, да и говорит:
– Это нам без надобности знать, это всё начальство решит.
А начальство пришло и вовсе говорит, что математики-то люди сплошь сомнительные, а он так в особенности, и приняли они его по описи, с личными вещами, и без обследования уж не выпустят. Мало ли, что такой двоичный человек натворить может.
Тут, натурально, он уже и испугался.
Потому как любой у нас за сумасшедшего сойдёт, а уж математик в особенности. То, что он среди сомнительных людей учится, он и так знал. Да только всё же ему хочется продолжить там меж них учиться, особенно на военной кафедре, что позволяет ему два года в сапогах не бегать.
Но наутро его повели по разным врачам – сперва, конечно, заставив пописать в баночку.
Только в обед он как-то извернулся и позвонил домой. Но тут уж, ясное дело, в больничных коридорах появились мамаша с папашей, бренча чем-то запретным в сумках, и шурша иным в карманах… Ну, наконец, выпустили нашего товарища из его узилища.
Погрузили его родители в трамвай, да и повезли прочь, приговаривая:
– Помни, сынок, что как беда пришла, суетиться не нужно. Нассать успеешь – в баночку или мимо».
Он говорит: «А я расскажу о главном позоре. Главный позор – это совсем не то, когда ты обгадился прилюдно или заснул в ожидании барышни. Это не тот случай, когда тебя застали читающим чужой дневник или ковыряющимся в письменном столе начальника. И когда сокамерники отходят от тебя, застёгивая брюки, не это я для красоты сейчас ввернул, но всё равно, всё это – не случай главного позора.
Это всё неприятно, конечно, но некоторый стиль в этом есть.
Несомненный позор – это сходить на концерт “Аншлага” или какого-нибудь гипотетического Петросяна. Не знаю, как это там нынче называется, но вы меня поняли. Говорят, что там сидят реальные люди, и комик Петросян на самом деле существует, а не компьютерный персонаж наподобие какого-нибудь Хрюна Моржова. Теперь-то надо объяснять, кто такой был этот Хрюн Моржов, и что там было смешного. А раньше-то полстраны в телевизоры глядело и хрюкало от смеха.
Итак, ты пошёл на этот концерт. Неважно, что привело тебя туда – ну, может, девушка позвала. Главное, что похотливое чувство с надеждой на провожание и продолжение приклеит тебя к креслу. И будешь ты сидеть в концертном зале, как в очереди к зубному врачу.
Но это ещё не главный позор.
Ведь ты улыбнёшься, хоть раз улыбнёшься – хотя бы из вежливости – среди этой толпы ржущих людей.
Главный позор начнётся тогда, когда подсматривающая телекамера выхватит твоё идиотическое лицо и покажет на всю страну.
Только представив это, я хватаюсь за сердце».
Он говорит: «Давным-давно, когда вода была мокрее, а сахар – слаще, в разных институтах существовала категория людей, имевших статус “национальных кадров”. В нашем это были люди, приехавшие с какими-то загадочными работами в качестве конкурсных-вступительных, с ними потом и получившие диплом. Потом они уезжали заведовать культурой каких-нибудь гордых горных республик и автономных областей. В пятилетием промежутке они сидели на подоконнике в коридоре общежития. Там они пребывали, сводя социальные отношения к вопросу проходящим барышням, особенно блондинкам:
– Слушай, пойдём ко мне, да? А? А!? Ну подумай, я пока здесь посижу…
Нет, наверняка, среди национальных кадров были гении и столпы мудрости – но мне достались не они, а эти.
И вот один такой человек попал на экзамен по истории западноевропейской литературы к одной знаменитой старухе. (Тут начинается легенда, а в легенде не важна точность, не нужна лишняя шелуха имён и дат, и каждый рассказывает легенду по-своему, я же расскажу её, чтобы подвести к красоте короткого иностранного слова). Эта женщина, надо сказать, написала свою первую научную работу по французской прозе во времена ОПОЯЗа. Именно на экзамене, что она принимала, Человеку, слезшему с Подоконника, выпал билет, где первый вопрос был записан как одно короткое слово – “фаблио”. Если бы там было написано “Фаблио как жанр”, это ещё куда ни шло, Человек с Подоконника, может быть, и сориентировался бы. (Если кто не знает, фаблио относится к рассказу типа как эогиппус к лошади).
Но всего этого, конечно, Человек, Сидевший на Подоконнике, не знал, и начал свой рассказ гениально и просто:
– Фаблио родился в семье бедного сапожника…
Старуха рыдала и выла, запрокинув голову.
Экзамен кончился».
Он говорит: «Ну, прошло много лет, и сам я стал преподавать. Учёное слово гендер многозначно, оно загадочно – как слово «фаблио», как Инь и Ян, грызущие друг другу хвосты. Оно похоже на интеллектуальное заклинание так же, как слово «фаллос». В «Записях и выписках» Гаспаров, кстати, писал о каком-то опросе про семью и брак (несомненно, этот опрос был гендерным исследованием). В этом опросе оказывалось, что студентки «в муже ценят, во-первых, способность к заработку, во-вторых, взаимопонимание, в третьих, сексуальную гармонию. Однако на вопрос, что такое фаллос, 57 % ответили – крымская резиденция Горбачёва, 18 % – спутник Марса, 13 % – греческий народный танец, 9 % бурые водоросли, из которых добывается йод, 3 % ответили правильно»[2].
С социальным полом происходит примерно тоже – понятие гендера широко, а попыток его сузить мало. Даже разговоры о границе гендерных проблем идеально предваряются фразой «Интуитивно понятно, что…».
Однажды я придумал простой вопрос о гендере в экзаменационных билетах. У меня не хватало тем, чтобы их заполнить, и во второй строчке одного из билетов я поставил просто слово «гендер».
Этот билет вытянул один неплохой молодой человек.
Он прочитал вслух в меру короткое слово, набрал воздуху в лёгкие, и начал:
– Гендер был видным немецким учёным восемнадцатого века, занимавшимся связью между природой и культурным развитием рода человеческого…
– Ну, – ответил я, – Мир велик и удивителен – тем, что он постоянен.
И рассказал присутствовавшим историю про фаблио».
Он говорит: «У меня была такая история (не помню, рассказывал ли вам). Она была про то, как я пришёл как-то к профессору Понижевскому, а у него сидели казаки. Казаков этих я не любил, потому что они были ряженые, а у одного висела на груди самопальная медаль про Линц. В австрийском городе Линце тех казаков, что воевали на стороне немцев, передали Красной Армии.
Ну, казаков это изрядно огорчило. А нынешние, в память об этом огорчении, наделали крестов.
Да только мои-то старики воевали на другой стороне.
Поэтому у меня к ним было ещё классовое чутьё.
Но только у нас была в знакомых красивая женщина, что с казаками этими якшалась.
А когда жизнь на закат поворачивает, то уж разбрасываться такими знакомствами не след.
И вот казаки приходили в гости – иногда вовсе без женщин.
Ну и в какой-то момент запели. Профессор наш любил петь, и одна красивая женщина говорила, что ад представляется в виде тысяч поющих профессоров. Запел он дурно – про то, как ехали на бричке, пострелять проклятых москалей. Всё это было ужасно, и происходило в каком-то гробовом молчании.
Понижевский пел это вдохновенно, жестикулируя и не попадая ни в одну из нот.
Казаки помолчали, а потом запели.
Были они как-то худосочны, пели несильными надтреснутыми голосами, да только всё про то, как степь нагрета солнцем, про то, что отец ушёл воевать турок, и не вернётся более.
Профессор замычал, да стих. А я чуть не заплакал, и казаков тех едва не простил – за фальшивые кресты и чужие мундиры. Даже за атамана Краснова с фон Панвицем.
Песня – это ведь молитва.
А уж если человек молится по-настоящему, то что нам за дело до их жестяных сабель, что им со смехом гнули менты при задержании».
Он говорит: «А я собак люблю. Ну, это вы помните, такая расхожая фраза, что чем больше узнаёшь людей, тем больше любишь собак.
Нет, это только фраза.
Но вопрос в том, кто заменим, а кто нет.
У многих людей есть иллюзия, что собаки заменимы.
Помер пёс, и хрен с ним.
А вот в старости всё не так – в старости ты понимаешь, что нормального пса ты уже не успеешь вырастить.
Старушку какую найдёшь, а вот пса подходящего – нет.
Когда тебе за семьдесят, ты это очень хорошо понимаешь, а вы вот не поймёте. Пока не поймёте.
В общем, с людьми масса проблем.
Я вот смотрел один фильм про ядерный апокалипсис. Земля безлюдна и пуста. Так один красивый мужчина путешествовал там с говорящим псом. Ну и, натурально, провалился в какой-то подземный город с выживальщиками.
Целый город этих сурвейверов был под поверхностью земли – и там они бродили, в своих футуристических блестящих костюмах.
Там была, среди прочих выживальщиков, упругая блондинка.
Ну, совместными усилиями, то есть, герои с ней вместе, весь фильм выбирались из негостеприимного города на поверхность.
Выбрались.
Еды нет, надо что-то делать.
И вдруг сразу показывают, как красавец идёт на закат, с псом разговаривает.
И тут зритель понимает, что упромыслили блондинку-то. Да и то – блондинки-то, поди, там ещё есть, а вот говорящего пса пойди ещё найди».
Он говорит: «Вот теперь стало очень много тестов всяких. Ну, там в журналах. Раньше-то было много кроссвордов, а тестов совсем не было. Ну, или они прятались куда-то. Кроссвордов было больше, были и такие кроссворды для особо умных, “кроссворды с фрагментами”. А были и для простых людей, так себе кроссворды. Интеллигентные люди карандашиком слова вписывали, а прочие – ручкой. Были и такие, что весь кроссворд в уме разгадывали. Так и говорили “решить кроссворд” и даже “разгадать кроссворд”.
Специальные люди их сочиняли, целая индустрия была.
А теперь что-то я их мало вижу.
Больше тестов и всяких списков.
Ну там “Шесть свойств хорошего брака”, “Семь поводов для развода”, “Восемь обидных фраз”, “Девять слов, которые она ждёт от тебя”…
Всё построено на списках.
Тоже индустрия, чего уж там.
Я помню, сидел в Главке на совещаниях. Доставал из папки листик, чистый лист – клал перед собой, и в тот момент, когда начальник начинал речь, делал первое движение ручкой. Рисовал циферку “1”, а после неё сразу ставил точку. Начинался отчёт. Потом шла какая-то загогулина, потом слова “усилить контроль”.
Потом цифра “2”.
У меня сотни таких бумажек оставалось, пока я их на даче не спалил в печке.
Пропали все мои списки.
А сейчас мне кажется, что мир постарел вместе со мной. Распались какие-то связи.
У мира вокруг меня – маразм, он ходит под себя. Слова давно не складываются в узор, не пересекаются, а лежат грудами.
Прямо как трубы и крепёж, которыми я занимался.
Лежат и ржавеют – да и Главка нашего след простыл.
Мир изменился. Но у него, этого мира, время от времени случаются просветления, и мироздание что-то вспоминает. Слабеющий ум мироздания цепляется за надписи на стене, сделанные им же – в момент угасания сознания. Эти записи пронумерованы.
1. – усилить контроль.
2. – неразборчиво.
3. Три причины, которые губят всякое начинание.
Четыре способа похудеть.
Вот и всё».
Он говорит: «Вы вот вспоминали о кроссвордах, так я скажу, что в кроссвордах вся наша жизнь.
У меня есть один родственник. Дальний, не кровный родственник, кисель и вода были перемешаны в нашем родстве.
Как-то он позвонил мне.
Пожилой человек, лицо которого я почти забыл, долго тяжело дышал в трубку и, наконец, произнёс:
– Есть такой писатель… По фамилии… Фамилии… Полевой.
– Он умер, – печально сказал я. И приготовился что-то сказать о безногом лётчике, переноске семнадцати килограммов золота по немецким тылам и тонком литературном журнале для молодёжи.
– Он написал одну пьесу… – уточнил мой родственник. – Она может кончаться на “о”.
Дело было в том, что мой родственник был заядлым кроссвордистом. Не знаю как сейчас, но тогда общество кроссвордистов было похоже на литературоведа Виктора Шкловского, что уверял, что он и рыба, и ихтиолог в одном лице. Кроссвордисты составляли кроссворды, сами разгадывали, а неразгаданные отсылали в газеты. Это был целый бизнес.
– Он, по-моему, не писал пьес, – неуверенно ответил я.
– Нет, писал. Точно. Оканчивается на «о».
Тут я понял, что имеется в виду не автор замечательной книги о замечательном человеке.
Здесь имелся в виду человек, которого сожрало либеральное общественное мнение, потому как оно не менее стозевно и лаяй, чем самодержавие. Причём Полевого жрали с двух концов – за нелюбовь к “Ревизору” и поношение Кукольника. И никто не читал его теперь, кроме сумасшедших литературоведов. И я, хрен с горы, конечно, не читал этой пьесы, а помнил только об одноимённой статье Белинского. Не “б”, а “н”, нужно было телефонной трубке, а, вернее, нужно было только то, что кончалось на “о”.
Заглянув в библиографию, я, придерживая трубку телефона плечом, нетвёрдо сказал:
– “Уголино”?..
– “Уголино”? – повторил он.
– Да. Там вот про что…
Но ему не нужно было содержания. Он поблагодарил и повесил трубку. Я уже не существовал, как не существовали уже ни Борис, ни Николай Полевые.
Неистовый огонь кроссвордного творчества горел в моём родственнике. Этот огонь пожирал смыслы, он объедал слова, оставляя только их остовы – количество букв, гласные и согласные пересечений.
Я был восхищён этим огнём. Не было сюжетов и авторов, не было мук и страданий, отчаяния и радости, успехов и неудач прошлого. Было только – третье “о” и последнее “о”.
Семь букв.
Точка».
Он говорит: «Мы поплыли в Стокгольм. Хрен его знает, зачем нам это было надо, но внезапно мы оказались на пароме, двигающемся посреди хмурого Балтийского моря.
Маленький, похожий на колобок, Оператор телевизионной камеры, его телевизионный начальник и еще несколько странных персонажей – вот, собственно, кто это “мы”. Оператор телевизионной камеры очень хотел стащить пепельницу с этого парома. У него начался приступ клептомании, а пепельницы в таком случае – лучшее лекарство.
Впрочем, лекарств у него, как у больного диабетом, была полная сумка.
Но пепельницы оказались крепко привинчены, и Оператор телевизионной камеры сломал об них швейцарский ножик.
Тогда он достал из сумки бутылку какой-то настойки из тех, что берут токсичностью, а не алкоголем, вытащил пробку и отхлебнул треть. Телевизионный начальник отхлебнул ещё треть, и тогда Оператор телевизионной камеры спрятал бутылку, объявив, что это – неприкосновенный запас. Чтобы другим было не обидно, он достал из сумки свой инсулиновый набор, вынул из него бутылочку со спиртом и разлил жаждущим.
Начальник сказал, что теперь самое время приставать к обслуживающему персоналу, но когда персонал явился, оказалось, что это двухметровый швед. Оператор телевизионной камеры ужаснулся и пошёл на палубу. Присутствующие, понимая, что человек впервые пересекает государственную границу, поддерживали его под руки. Однако Оператор телевизионной камеры не проявлял никакой радости, вырывался и кричал, дескать, куда вы меня привезли, что это за гадость, и тыкал пальцем в надвигающийся город Стокгольм.
Встреча с прекрасным не получилась, и он решил украсть рулон туалетной бумаги.
Оказалось, что туалетная бумага при клептомании помогает не хуже пепельниц, и от радости он уничтожил половину неприкосновенного запаса.
Надо было пройти шведскую таможню.
Оператора телевизионной камеры поставили впереди, потому что так его можно было удерживать за лямки комбинезона.
Человек, который должен был встречать путешественников, куда-то запропастился.
Между тем, Оператора телевизионной камеры, который к этому моменту говорил на всех языках мира, но очень плохо, проинструктировали, что нужно говорить – что он работает в телекомпании “Совершенно секретно”, и упирать на то, что всех сейчас встретят.
И вот на первый же вопрос очаровательной таможенницы он, посмотрев мутным глазом, выпалил: “Top Secret”.
Совершенно компьютеризированная девушка, у которой был телефон в ухе, еще один – на поясе, два компьютера на столе и масса техники, перемигивающейся разноцветными лампочками в окрестностях стола, повторила вопрос.
Оператор телевизионной камеры невозмутимо повторил ответ. Таможенница изменила форму вопроса, потом спросила, откуда Оператор телевизионной камеры едет, наконец, поинтересовалась гражданством, и на все получила тот же лаконичный ответ – “Тор Secret”
Тогда барышня в форме подвинула к себе операторскую сумку и расстегнула молнию. Первым делом на свет явился рулон туалетной бумаги. Она повертела его в руках и отложила в сторону.
Затем из сумки появилась бутылка с пятьюдесятью граммами неизвестной настойки, заткнутая газетой. Таможенники повертели этот коктейль Молотова в руках и поставили рядом с рулоном.
Она потеряла остатки невозмутимости, когда извлекла из сумки огромный пакет с одноразовыми шприцами. Девушка надавила на невидимую кнопку, и из-под земли выросли два таких же двухметровых, как стюард, шведа-пограничника.
Оператора телевизионной камеры унесли куда-то в боковые комнаты. Ноги его болтались в воздухе, а сам он медленно, как даун, крутил головой.
Телевизионный начальник решил заступиться за несчастного оператора и начал объяснять про его болезнь таможеннице, но та, ничего не слушая, взялась уже за его багаж. Когда оттуда извлекли какой-то пакет, телевизионный начальник похолодел. Он помнил, что это посылка каким-то знакомым, но вот что в ней – не помнил абсолютно. Пакет развернули, обнаружив там килограмм сушеного зверобоя. Шведский ароматизированный сквозняк тихо шевелил сухую русскую траву. Телевизионный начальник, впрочем, пошел в боковые комнаты без посторонней помощи. Там уже стоял совершенно голый, разительно похожий на огромного пупса, Оператор телевизионной камеры и говорил в пространство:
– Дураки вы все, дураки… Нет, дураки… Ну все-таки, какие вы все – ду-ра-ки…
Самое интересное, что прямо за нами в очереди на досмотр стоял человек, провозивший винтовку с оптическим прицелом. У него не спросили даже паспорта».
Он говорит: «Я по большей части лежу, и видимо, от этого во мне много воспоминаний. У тех людей, что бегают и вообще быстро движутся, на воспоминания нет времени.
Вот что сейчас вспомнил – как-то, попав на день рождения своего однокурсника, я обнаружил, что отвык от больших масс народа. Тогда я уже болел, передвигался лишь по коридору до туалета, и то – на костылях. Гости ко мне в то время приходили по трое, по четверо, а тут, приехав на чужую дачу, обнаружил я такое количество людей, прогуливающихся и разговаривающих друг с другом, что даже испугался. Надежда Америки, так сказать, её научное будущее – вот кто были все эти люди.
А те, кто не уехал туда, как-то довольно лихо прирастили своё богатство Сибирью. Ну и акцизами, а то и авизо.
Через какое-то время стал и я тоже говорить без умолку, но вдруг понял, как это тяжело. К слову, сказать, поразило ещё меня на этой даче огромное количество мелких детей. Но больше шума, чем сами дети, производили их родители, наблюдавшие за правильным детским поведением. Может, дело было в природной моей мизантропии или же в том, что дети отняли у меня костыли, избили ими друг друга, а потом вернули костыли обратно, потеряв предварительно некоторые их части. Молодое поколение было наглядной иллюстрацией той истины, что даже самую унылую комнату оживят обычные дети, красиво расставленные по углам.
Устав от всего этого, я присел рядом с интересной женщиной, которая начала рассказывать мне об имениннике. Надо было сознаться, что он мой друг, но я не сознался. Дело в том, что на всяком празднике есть такая женщина, которая как бы не участвует в общем веселье, но знает о присутствующих всё.
Если выпить с такой женщиной, то она совершенно бескорыстно, и в беспощадных, залипающих навсегда в память формулировках, расскажет все тайны мироздания.
Мы разговорились, и она отчего-то вспомнила, что туризм – настоящий туризм, с рюкзаками и ледорубами, консервирует людей. А именинник и другой наш однокурсник в тот год держали компанию, занимающуюся путешествиями. Да и сами они, выйдя уже из студенческого возраста, ездили туда-сюда с рюкзаками и лодками. И вот, по словам этой женщины, встретившей их после нескольких лет разлуки, они практически не изменились. Она была права – ведь и я с посетителями дачи не виделся лет десять. И те туристы, что были среди них, действительно не изменились.
Мы выпили стакана по три вина, прежде чем моя собеседница продолжила свою мысль:
– А вот те, кто в бизнесе, напротив, меняются сильно. Глаза светлеют.
Затем она сказала:
– А знаешь, как банкиры в нашей компании в девяностые покупали друзей? Тогда, в голодный год, банкиры покупали друзей в несколько приёмов. Сначала они покупали пару больших бумажных пакетов с углём для мангала. Это тогда было роскошью – ишь, уголь готовый… Потом грузили в машину эти пакеты, сам мангал и несколько сумок с шашлыком. Если хорошо расположить покупки в салонах двух-трёх машин (машины тогда всё ещё были редкостью), то там могло ещё уместиться несколько будущих друзей.
На месте банкиры позволяли будущим друзьям разжечь огонь и открыть бутылки.
И, наконец, когда все друзья основательно выпьют (вот они уже и стали друзьями), то они начинали кричать банкиру:
– Какой ты милый! Ты устроил нам праздник!
А довольный покупкой банкир честно отвечал:
– Не, это я себе праздник устроил…
Но теперь, да, рынок друзей изменился.
Немного.
Чуть-чуть».
Он говорит: «Мне сегодня приснился сюжет, который, наверное, мне кто-то рассказал.
Или он как-то сам во мне сложился. Это история о том, как престарелая супружеская пара сидит за столом, звенят чайные ложечки, передай, пожалуйста сахар, дорогой, может ещё кусочек пирога… И тут выясняется, что он уже тридцать пять лет принимал её за её же собственную сестру. Тут можно много что добавить – и повествование встанет на развилке – то ли из этого получается добротная мелодрама или что-то вроде такого рассказа “Между рейсами” американского писателя Фицджеральда.
Мне жизнь подсовывает этот сюжет с утомляющей частотой.
Как-то покойная бабушка рассказывала, что всю жизнь делала своему мужу яичницу-глазунью.
Из года в год.
Но как-то заболела, и он сделал эту яичницу сам. Оказалось, что он ненавидит глазунью, и много лет нахваливал её из любви к жене.
При этом положение усугубляло то, что был он человеком чрезвычайно известным, приближённым к первым лицам государства, можно сказать, был одним из этих самых лиц, включая понятный и представимый быт, домработница-пайки-готовый-стол, поэтому яичница была как бы актом любви, её специальным знаком.
Готовилась самостоятельно и любовно.
Любовь вообще причудлива. Я знал женщину, что ужасно храпела во сне. Она знала эту горькую тайну, и жизнь её стала печальна.
Наконец, у неё появился друг. Роман длился, они медленно привыкали друг к другу, как привыкают люди, возраст которых клонится от сорока. И как-то она увидела, что он трамбует пальцем в ухе беруши.
– Видишь ли, – ответил он на немой вопрос. – Ты ночью немного… сопишь.
Тогда она поняла, что это – любовь».
Он говорит: «Я часто бываю в отчаянии. Ну, надо в этом признаться, ну отчаяние, да. Куда деваться? Скрывать-то мне уже поздно. Отчаяние, так отчаяние.
Я поэтому сейчас расскажу трагическую историю.
Страшных вещей на самом деле не так много в жизни. Даже смерть чаще всего бывает не страшной, а скучной и унылой.
Страшного я видел не так много, но то, про что я сейчас расскажу, впечатлило меня изрядно. Это не была сцена смерти или бабьего воя по покойнику.
Я сидел в популярном тогда заведении “Пироги на Дмитровке”.
Это было модное заведение среди тех, кто не знал ещё слово “хипстер”.
Не знаю уж, что там сейчас, но тогда за час сидения за столиком свитер так пропитывался табачным дымом, что вонял даже стиранный.
Там я и сидел: что пил, кого ждал – неважно.
А за соседним столиком нетрезвый человек средних лет пытался понравиться девушке.
И вот, заплетаясь, он совал ей в окольцованный нос главное событие своей жизни. Этот человек два дня и две ночи стоял в оцеплении вокруг Совета Министров РСФСР. Был у него в активе август девяносто первого, дождь и ворох надежд. Вот про это он рассказывал девушке за столиком, а та, видно, ждала кого-то.
Нос у девушки звенел пирсингом, но мой сверстник не замечал этого.
Будь ему лет на сорок больше, рассказы были бы понятнее. В фильмах Хуциева или в ужасных пьесах Визбора всегда появляется такой ветеран. В ранние шестидесятые это ветеранство было последним прибежищем положительного персонажа.
А этот посетитель, слышно даже для меня, рассказывал, что ему дали медаль как защитнику Свободной России, а девушка, меж тем, смотрела на него без видимого раздражения, с удивлением, как на говорящего таракана. Какой Белый дом? Что за медаль…
Текло сигаретным дымом под стол унижение, и не было мне мочи слушать этого искреннего приставалу.
Он был искренен, я полагаю.
Но жизнь его протухла, заездили его, как клячу. Надорвался.
Он был такой же, как я.
Свитер, по крайней мере, очень похож».
Он говорит: «Я вот к пьянству отношусь положительно. Одного декабриста спросили, отчего он так много пьёт, так он отвечал, что из-за трезвого отношения к жизни.
Это, правда, его спрашивали до всякого декабря.
Я зато пьяных не люблю.
А пить-то можно.
Дед мой выпить любил, и в этот момент у него просыпалась странная любовь к географии. Он любил повторять странную считалочку для запоминания названий японских островов – что-то вроде “Ты моя Хоккайда, я тебя Хонсю. За твою Сикоку я тебя Кюсю”.
Понятно, что никакого места в этой геополитической грамматике Шикотану и Итурупу не было. Как достойно напомнить о географии и политике, Халхин-Голе, рейде через Гоби и Хинган, а так же о ржавых корпусах японских танков, что ты, парень, ещё успеешь увидеть среди высокой травы Кунашира?
Про это есть история.
Я давным-давно, будучи ещё молодым офицером, полетел в командировку на Дальний Восток. На одном из Курильских островов задержался я надолго – непогода не позволяла лететь обратно и я, со своими новоприобретёнными товарищами занялся обычным военным занятием. То есть, известным занятием, которым занимается всякий офицер при плохой погоде – попросту, пьянством.
Пили в ту пору спирто-водяную смесь, в просторечии называвшуюся «Массандра». Один учебно-боевой вылет самолёта МиГ-25 давал на сторону чуть ли не ведро, а то и два этой смеси, где в пропорции три к семи плескались вода и спирт. Говорили, правда, что в радаре она течёт через какие-то медные трубочки и пить её не стоит, но это к рассказываемой истории отношения не имеет.
На третий день фронтального пьянства товарищи мои заметили, что есть им совершенно нечего. Один из них исчез и появился вновь с двумя консервными банками – высокими и узкими.
Трапеза продолжилась, но на следующий день они задались вопросом – чем же они закусывали.
На банках ничего обозначено не было. И память не хранила даже то, была ли та закуска мясом или рыбой. Они пошли на поиски истины все вместе и, оказалось, что несколько дней назад в каком-то подземном капонире обнаружили японский неприкосновенный запас. Но ни коробки, ни петлички, ни лычки не отыскали мы и с тревогой стали ожидать последствий.
Но всё обошлось, и молодой офицер улетел в западном направлении, унося внутри себя часть Северных территорий.
Много лет спустя я пришёл в гости к своему другу, человеку добродушному и спокойному.
Тот только что женился на японке. Молодая жена сидела во главе стола и хлопала глазами.
Японка была диковиной, странным предметом – чем-то вроде хорошего телевизора или вечной электрической бритвы. Но от телевизора она отличалась тем, что хранила молчание.
Ей, казалось, были безразличны нетрезвые русские и их причудливые биографии.
Наконец, молодой муж, исчерпав описание достоинств жены, заключил:
– А ещё мы учим русский язык. Мы очень продвинулись, знали бы вы, как мы быстро продвигаемся! Сладкая, скажи что-нибудь ребятам.
Японка захлопала глазами с удвоенной силой, открыла рот, снова закрыла, и выпалила:
– Верните наши Северные территории!
И правда, в этот момент территории, до тех пор столько лет спокойно жившие внутри нас, повели себя странно. Они, восстав после многолетней спячки, запросились на волю».
Он говорит: «Я вам расскажу, почему спать нужно дома.
Давным-давно, когда вода была мокрее, а сахар был слаще, меня позвали на вручение Государственной премии. Оттого, что её вручали не одному человеку, а целой Организации, Организация эта сняла ресторан на границе маленького ботанического сада. Нетрезвые гости, зажав в руках стаканы, как гранаты, тут же разбрелись, зашуршали по кустам.
Замелькали средь стволов фрачники, зашелестели в сгущающихся сумерках вечерние платья. Тут я и подумал – а что, если кто из этих гостей заснёт, а, очнувшись, увидит над собой листву, звёзды, и трава прорастёт ему за лацканы? Ведь они вышли из дому, ехали по большому городу, вели непринуждённую светскую жизнь и тут…
Неожиданное пробуждение в чужом месте всегда опасно – недаром, оно суть многих анекдотов. Например, того, в котором человек, увидев рядом с собой женщину и всмотревшись в неё, отгрызает себе руку, будто пойманный зверёк. Один мой приятель, проснувшись, вдруг обнаружил над собой, прямо перед лицом, угрюмые гробовые доски. Борясь с наваливающимся ужасом, он поковырялся в них и занозил палец.
Было пусто и тихо, могильная чернота окружала его, крик мятым платком застрял в горле…
Оказалось, что его бесчувственное тело хозяева положили на нижний этаж крохотной детской кровати. Кровать была самодельная, двухъярусная и стояла в маленькой комнате без окон.
Я вам расскажу о другом. В шальное время девяностых я часто ходил в гости на автомобильную стоянку рядом с домом.
Посреди Садового кольца, в охранной будке сидели мои приятели и круглосуточно охраняли чужое лакированное железо. Там, под фальшивый кофе и плохой чай велись довольно странные разговоры. Компания множилась, делилась, посылали гонцов за закономерным продолжением. Ночь длилась и была нежна, как настоящая летняя ночь в Москве, когда лучше уж не ложиться и наверняка не стоит спать. А если и рушиться в кровать, то уж у себя дома – в тот час, когда васистдас уже отворён и клерки давно потянулись на биржу.
Однажды я нарушил это правило и пошёл вслед за своим приятелем – странные квартиры открывали нам свои двери, женщины за чужими столами казались всё прекраснее и прекраснее.
Я проснулся от холода. Было промозгло и сыро, над ухом кричала ворона.
Открыв глаза, я увидел скорбную старуху. Она сурово смотрела на меня с фаянсового овала. Смирнова Елизавета Петровна явно была не расположена ко мне и, к тому же умерла год назад. Я повернул голову и увидел средних лет майора, также недавнего покойника. Как меня занесло на кладбище, было совершенно непонятно – я, будто малоизвестный французский писатель русского происхождения, ночевал в склепе. Но что-то было не так – обелиски теснились как камни на Пражском еврейском кладбище. Мотая головой и сопя, я полез между ними. И скоро уткнулся лбом в кровать, на которой храпел мой конфидент.
Он, не открывая глаз, сказал:
– А, ну привет, привет. Будешь уходить – не лезь в правую дверь. Там вчера Петровича обещались побить – прям алкоголики какие-то.
Петрович был его приятель, гравёр-надомник. Его ещё звали диагностиком за безошибочное определение причин смерти, так как он аккуратно выводил на граните и мраморе “От жены, от тёщи, от любящих детей”.
Я полз по огромным комнатам его квартиры-мастерской ещё полчаса, счастливо миновал злых соседей в подъезде, пока не вывалился в грохочущее городское утро».
Он говорит: «Это поучительная история случилась давным-давно, когда вода была мокрее, а сахар слаще. И произошла она за далёким Полярным кругом, где я служил.
Там, понятное дело, ночь длится полгода, а когда день полгода подряд, то и спать неловко. Да и внешних факторов, чтобы отличить время суток, кроме радио, нет.
Но в этом месте находились ответственные люди, что берегли покой и спокойный сон нашей Родины. Им шутить со временем не приходилось, поэтому они два раза в сутки получали по радио сигнал сверки – мигала лампочка, туда и сюда отправляли группу цифр.
Но как раз северные военнослужащие люди бодро отметили День всех советских военнослужащих людей, в результате чего что-то сместилось в их рассудке. Они устроили утреннюю поверку в девять вечера, погнали личный состав в наряды и двое суток жили во времени, отличающемся от обычного на двенадцать часов.
Впрочем, электронных часов тогда не было. А стрелочные командирские показывают одну и ту же истину: солдат спит, служба идёт.
На вторые сутки к ним пришёл кораблик с едой и всякими штуками. А его никто не встретил. Можно представить себе у Копполы такой сюжет – плывут апокалиптические американцы на лодочке, а никто не стреляет. Приплывают, а там никого нет.
Нигде никого нет.
И сумасшедшего полковника, и вьетконговцев.
И марихуаны нет.
Ничего-ничего.
И никого.
Одна северная советская ночь.
И спит только на причале блохастая собака. Впрочем, это уже фантастика, поскольку в Полярную ночь на причале может лежать только обледенелая собака с обледеневшими блохами.
Да. Но тут было немного иначе».
Он говорит: «Сейчас я несколько поистрепался, а вот раньше постоянно ходил на всякие светские мероприятия. Правда, сейчас-то и этих мероприятий стало меньше, люди получше деньги стали считать. Я пошёл на чужой светский праздник – без галстуков, но с тётками в декольте. Там были всё сплошь светские люди, что вели светскую жизнь. Светская жизнь, для тех, кто не знает, заключается в протискивании своих тел мимо тел других людей со стаканом или бокалом в руках. Главная фишка – не облить никого при этом томатным соком. Это опять же, я вам рассказываю, тем, кто пока не понимает фишек светской жизни, и тех, кому про это ещё не рассказала Рената Литвинова.
Итак, меня окружали светские люди, и я, увидев знакомого воротилу шоубизнеса Б., решил спрятаться за его могучим торсом. Он, судя по всему, чувствовал себя как рыба в воде.
А его спутница мне сказала, что окружающее – вовсе не светская жизнь. Светская жизнь начнётся ровно через час (она посмотрела на часы), и я сразу это пойму.
Тогда я начал то и дело глядеть на часы. Другие гости тоже то и дело посматривали на часы, и это несколько нервировало гостей-евреев.
И правда, как только прошёл час, началась светская жизнь. Прямо перед нами встали два человека, и один быстро и сурово спросил другого:
– Ну-с, а вы чем знамениты?
Тот замямлил сначала, но всё же как-то отбился.
И сразу же мой сосед справа обратился ко мне по-французски.
Но ведь русского писателя хуй собьёшь с панталыку. Потому что один писатель завсегда помогает другому, даже если и дохлый. Писатели вместе – страшная сила. Оттого я, не слушая вопроса, сразу произнёс с иронией и вальяжностью:
– Eh bien, mon prince. Non, je vous préviens, que si vous ne me dites pas, que nous avons la querre, si vous vous permettez encore de pallier toutes les infamies, toutes les atrocités de cet Antichrist (ma parole, j'у crois) – je ne vous connais plus, vous n'étes plus mon ami…
Некоторые подумают, что дело после этого было в шляпе. А вот и нет. Франкофон сразу стал приставать к очень красивой девушке и показывать ей какие-то ветеранские документы о том, что он герой, покалеченный в сражениях. Мне стало сразу безумно завидно. Ну-ка, думаю, сейчас спрошу у него, в каком полку, типа служили – и станет ясно, что не зря я провёл боевую молодость в кавказских войнах. И понятно, красавица, стоящая напротив, заинтересуется.
Ну, спросил, как дурак. А он начал частить названиями на глобусе, а под конец говорит:
– А вообще надо ещё за войну с Польшей документы получить…
И по всему выходило, что у него командир полка был по фамилии Пожарский, а замполитом – Минин К. И.
Нет, думаю, чужой я на этом празднике жизни.
И в этот момент одна интересная дама принесла мне анкету.
Она заглянула мне в глаза и сказала:
– Я сразу поняла, что это – вам.
Впрочем, воротиле шоу-бизнеса тоже перепал экземпляр.
Оказалось, что это анкета, посвящённая половой жизни.
Первая же строчка выглядела унизительно. Там надо было вписать возраст рост и вес. На всякий случай я убавил всего на десять, но настроение было испорчено.
Для начала меня спросили, сколько у меня было женщин. Я оглянулся воровато – воротила шоу-бизнеса в этот момент закатил глаза к небу, зашевелил губами, заморгал, и, скривившись, в отчаянии махнул рукой.
Что-то во всех идущих дальше вопросах было психотерапевтическое и напоминало утешение Тютчева собственной дочери: эх, девушка, видали мы много других вещей получше счастия.
Анкета спрашивала: “Сколько половых партнёров у вас будет завтра? А через два дня? А через месяц? А через год? А через десять? А двадцать? А пятьдесят? А?”
Сначала я с надеждой написал везде единички, потом, правда, оказалось, что это общий зачёт, и всё надо суммировать, я ошибся, потом начал вычитать и дошёл до отрицательных величин. В итоге анкета стала напоминать тетрадь двоечника, где творческая грязь прикрывает несделанное домашнее задание.
Скосив глаза, я посмотрел в анкету воротилы шоубизнеса, и обнаружил, что он во всех социалистических обязательствах писал трёхзначные цифры.
Наконец, я дошёл до конца.
Там был вопрос: “Считаете ли вы, что женщина после изнасилования выглядит менее привлекательно?”.. “А мужчина?”..
Я поднял глаза от листика анкеты и увидел, что все приглашённые светские люди тоже дошли до этого пункта, и напряжённо вглядываются друг в друга.
И это меня сразу насторожило».
Он говорит: «Все принялись ездить по заграницам. Ну, некоторые повышают качество жизни – хоть на время, другие тянутся к теплу, а кто-то тянется к романтики. Пожилые, вроде меня, раньше ведь мы были пожилые, тянутся к какому-то безумству.
Одного такого я знал – у него это ещё было помножено на культурные ценности.
Этот человек вдруг стал меня расспрашивать о венецианском карнавале. Очень его этот карнавал занимал, и вот он примеривался, как туда съездить.
Ну, я ему и говорю, что никакого карнавала в Венеции нет. Другое дело, несколько десятков самых знатных венецианских семей собираются на свой карнавал в каком-нибудь дворце. И если ты, дружок, не принадлежишь к одной из этих семей, то дорога туда тебе заказана. Ясное дело, что на допущенных фамильные маскарадные костюмы, стоимость каждого из которых больше “линкольна”, те костюмы, которые передаются из поколения в поколение. И эти люди там собираются уже тысячу лет. Приплывают на гондолах, поднимаются по лестнице (в этот-то момент ты их видишь издали), а потом за ними закрываются резные двери. И всё.
А в городе в это время идёт другой карнавал, туристический. Ты лапаешь тощую венецианку, а потом оказывается, что это трансвестит из Дании, пьёшь отвратительное итальянское вино литрами, говоришь по телефону с Норвегией, отбиваешься от зазывал, разглядываешь сводный батальон самураев с фотоаппаратами и видеокамерами, сплёвываешь с мостика на голову пьяным молодожёнам, находишь правильную венецианку, которая оказывается полькой и читаешь ей Бродского, потом пьёшь отличную граппу, выезжаешь из города в чисто поле, в котором нет снега, говоришь по телефону с немного удивлённым начальником в Москве, меняешься с кем-то адресами и пьёшь неизвестную алкогольную жидкость и, наконец, со слезами на глазах смотришь в рябь воды и поздний, мутный, серый как портянка, рассвет. Только никакого отношения к карнавалу это не имеет.
Так ответил я этому моему знакомцу, а, ответив, пошёл пить свой разбавленный кефирчик. Впрочем, после кефира я подумал, что и впрямь, наверное, стоит съездить в Венецию.
Хотя бы раз».
Он говорит: «А я с писателями дружил – теперь-то писатели сплошь народ мусорный, бомжеватый, а вот в перестройку они были в самом соку – и гладкие, и даже бомжеватые.
Я их тогда много видел.
А теперь один писатель по фамилии Смуров пришёл ко мне, и мы начали вспоминать прошлое. Вспоминали “Блок-хауз” – странное место, выселяемый и так и не выселенный дом с огромным количеством случайных и неслучайных постояльцев. Там можно было встретить очень странных людей.
Например, в седьмом часу утра на полу в коридоре обнаруживались два капитана, один флотский, другой армейский. Они спали, будто в строю, держа в левых руках фуражки – один чёрную, другой зелёную.
Среди загадочной творческой интеллигенции, которая потом понастроила себе домов по Рублёвскому шоссе, там жил и экскаваторщик, который ничего не умел в жизни, кроме как работать на экскаваторе и пить портвейн. Иногда он зашивался, но всё равно по инерции продолжал покупать портвейн, и в продолжение того месяца, пока экскаваторщик не пил, его комната уставлялась бутылками с портвейном. И когда уже не было места, куда его ставить, он начинал ходить по комнатам, говоря:
– Давай пойдём ко мне, выпьем, а если со мной что-нибудь случится, позвонишь в “Скорую помощь”?
Все, естественно, отказывались, но он находил кого-то, и всё начиналось снова.
Смуров прервал воспоминания о портвейне и начал рассказывать про своего знакомого, что после очередного диспута о Бахтине отправился восвояси из гостеприимного дома.
Этот молодой человек шёл, загребая ногами, похмельный звон бился у него в голове. Он повернул к бульвару и в этот момент увидел несказанной красоты девушку, что шла мимо него к троллейбусной остановке.
В этот момент он понял, что это девушка его мечты.
В этот момент он понял, что ему необходимо её догнать – как и зачем, он не знал.
Мимо, подъезжая к остановке, прокатила серая туша троллейбуса.
Бессмысленный молодой человек криво побежал вперёд и вбок. Ноги после трёхдневных разговоров о Бахтине не слушались, сердце рвалось наружу, но смуровский приятель не сдавался. Он в последний момент вскочил в троллейбус, и тягучие складчатые двери, закрывшись, вбросили его на заднюю площадку. Прямо перед красавицей.
И тут молодой человек понял, как он отвратителен. Отдуваясь как жаба, он стоял перед небесной мечтой в своём мятом костюме. Трёхдневная щетина и перегар дополняли образ обольстителя. Молодой человек понял также, что он должен подойти к прекрасной незнакомке и сказать, что любовь наполнила его сердце.
После этого ему хлестнут по небритой морде, но дело будет сделано. Долг перед судьбой будет выполнен, и тогда можно сойти на следующей остановке и побрести арбатскими переулками к обрыдлому жилью.
Он качнулся и ухватился за поручень. Сделал шаг вперёд и открыл рот.
Девушка посмотрела на него ласково и произнесла:
– Вы знаете, вы мне очень понравились. Вы та-а-ак бежали…
В тот день он проехал все мыслимые остановки.
Начался спорый московский роман. Дни шли за днями, встречи были часты и целомудренны. Молодой человек ходил с девушкой своей мечты по московскому асфальту, держа под мышкой томики Мандельштама и Цветаевой. Он тыкал пальцем и произносил приличествующие речи. Часовые любви тогда ещё не проверяли документы на каждом шагу, а просто пялились на эту пару. Девушка действительно была эффектна – хорошо, по тогдашним меркам одетая, она была выше своего спутника на полголовы.
Гуляния их, правда, были странны – она то и дело оставляла героя на лавочке и исчезала на час-другой, потом возвращалась, и они шли куда-то снова. Она никогда не давала номер своего телефона и не звала домой. Время от времени она исчезала на неделю и внезапно появлялась как ночной автомобиль на шоссе.
И вдруг она пропала совсем. Молодой человек ещё некоторое время кружил по Москве наподобие диплодока, голова которого уже откушена, но тело об этом ещё не знает.
Прошло несколько лет. Он остепенился и работал клерком в каком-то офисе. Как-то на корпоративной пьянке, слово за слово, он разговорился с начальником службы безопасности компании, бывшим следователем. Непонятным образом извилистый разговор привёл их к таинственной незнакомке. Молодой человек не подал виду, что догадался о ком идёт речь. А бывший следователь рассказывал ему о знаменитой проститутке, обслуживавшей какую-то из кавказских мафий.
– Теперь ему стала ясна и скрытность, и странные отлучки, – так, вздохнув, закончил Смуров свой рассказ.
И вот что я скажу: понял я всё, и, открыв потайной ящик в книжном шкафу, достал для него спрятанную бутылку водки».
Он говорит: «У каждого есть своя история про ируканские ковры. Вот я уже вижу на твоём лице недоумение – что за ковры? В моём поколении этого не спрашивали, все знали, отчего бы благородному дону не посмотреть на ируканские ковры.
Был в моём прошлом один странный человек. Он приходил ко мне без звонка, вернее, звонил прямо в дверь. И вот, когда мы с моей ничейной подругой кончили завтракать, звякнуло. Я открыл дверь, и прямо с порога, не здороваясь, он, покопавшись в мешке, протянул мне телефонный аппарат.
– Не работает, – просто сказал пришелец.
На случай, у меня в прихожей лежала отвёртка. Ни слова не говоря, я поддел заднюю крышку. В техникуме, а потом в институте разных приборов меня учили тому, что электричество – это наука о контактах. И учили меня неглупые люди. Я вставил на место отошедший проводок и сказал:
– Работает.
Он уже сидел у стола. Кофе ещё раз залил плиту, и моя подруга перестала с опаской смотреть на гостя. И действительно, после этого приветственного ритуала сумасшедших можно было подумать всякое. Гость, кстати, был весьма примечателен. Маленький, с большой головой и харизматически горящими глазами. В мешке его, кроме телефона, жили отдельной жизнью какие-то конспирологические инкунабулы.
Звеня ложечками, мы говорили с ним о мировой истории и тайных её течениях, но подруга моя засобиралась на службу. Выскользнул за ней и гость.
Скоро она позвонила.
– Знаешь, твой знакомый довольно странный. Когда я ловила машину, он предложил мне съездить к нему домой и посмотреть испанское покрывало. “Послушайте”, – сказала я – “Как вы думаете, какие у меня отношения с хозяином дома, если мы вместе завтракаем в десятом часу утра”? Он отвечал, что это неважно, ибо он – интересный человек, и может мне многое открыть в этой жизни. А покрывало, что лежит у него дома – уникально. Что ты мне посоветуешь?
Впрочем, на самом деле, моего совета не требовалось, и она отправилась в путешествие. Увы, покрывало оказалось ветхим и дёшевым, а его владелец хотел всё того же, чего обычно хотят владельцы покрывал. Подруга моя отделалась переводом какой-то английской статьи, который она диктовала с листа. И, на всякий случай, в прихожей. Одним словом, я принял эту версию событий.
Прошло какое-то время, многое переменилось в моей жизни. И вот, другая женщина позвонила мне и с тревогой спросила, знаю ли я N.?
– Да, – отвечал я, – знаю.
– Видишь ли, он очень странно и заговорщицки улыбаясь, предложил мне придти к нему в гости – смотреть испанское покрывало.
Я нервно рассмеялся, и мстительно пересказав прошлое, посоветовал не разочаровываться.
Прошло ещё несколько лет.
Совсем другая женщина вдруг сказала мне:
– Я нахожусь в недоумении… Сегодня один удивительный человек предложил заглянуть к нему домой. Он хочет мне показать…
– Покрывало!.. – выдохнул я.
– А?.. А ты откуда знаешь?! Он его только что купил, жутко дорогое, и вот… Почему ты давишься? Тебе нехорошо?»
Он говорит: «Вы, молодые люди, с какой-то неприличной бравадой говорите, как пили по дороге в Турцию и обратно. Я вот абсолютно убеждён, что алкоголь в воздухе недопустим. Однажды, давным-давно, когда вода была мокрее, а сахар – слаще, одна маленькая южная республика только становилась настоящей республикой. Поэтому она терпела ещё у себя Красную Армию, и вот жена местного командующего полетела домой забесплатно рейсом военно-транспортной авиации. Собственно, никакой другой военно-транспортной авиации, кроме той, что принадлежала Красной Армии, там, в маленькой южной республике, разумеется, не было.
И вот она полетела вместе с командировочными и прочими служебными людьми к своему мужу на юг.
А в южную республику воздушная дорога была долгая, дорога туда вела длинная, а жена командующего была женщина почти европейского, то есть среднерусского образования. Она начала пить свой дорогой припасённый коньяк. Однако ж, всё же не на Боинге она летела. Присутствовала и турбулентность, да и прочие атмосферные безобразия.
Женщину начало тошнить, да так, что она испортила платье. Борт заходил на посадку, и тут не входит, а как-то впадает в кабину лётчиков бортовой механик – и сказать ничего не может.
Оказывается, пассажирка сняла испачканное платье и теперь, накрывшись чем-то, спит. А на земле её, надо сказать, муж-генерал ждёт. Свита… Адъютант… Шофёр готовится чемоданы принимать…
Одно дело рассказывать анекдоты про стюардессу, а другое – когда в нижнем белье на полосу командующую жену выведут. Ну и лётчики как бы промахиваются мимо полосы, уходят на второй круг, а два старлея пытаются на даму платье натянуть… Сначала задом наперёд – путаясь в нестандартной молнии. Сели… Даму взяли под руки выводят, а молодой командировочный капитан из Москвы – следом. Ему-то было что, он был не лётчик. И вдруг, не дойдя до своего благоверного метров пятнадцать, жена командующего вдруг что-то вспоминает. Останавливается, ищет что-то глазами, оборачивается, и влепляет капитану звучный слюнявый поцелуй в щёку.
А потом, на заплетающихся ногах шагает к мужу.
Ну, думает капитан, – это – “…!”
И, правда, это был он.
По возвращении капитана вызвали к командованию, и он слово в слово повторил эту историю своему прямому и непосредственному начальнику.
Начальник выслушал его и отпустил с Богом.
Но когда капитан уже открыл дверь, прямой и непосредственный начальник одобрительно ухнул ему в спину:
– Молодец. Пусть знают, кто у них в воздухе главный».
Он говорит: «Я вам про женщин вот что расскажу. Когда небедные мои начальники покупали богатый комбинат “Норильский никель”, некоторые молодые люди, имевшие юридическое образование, как и я, сидели в этом городе месяцами. И через некоторое время молодая кровь, кипя, начинала мешать целеустремлённой работе.
Поэтому было принято звонить на некоторую “фирмочку”. Она, кстати, так и называлась – “фирмочка”.
Оттуда приезжали так называемые “танкистки”. То есть, по телефону сотрудники “фирмочки” обещали длинноногую блондинку, ростом не меньше ста восьмидесяти сантиметров. Но на поверку – служить бы им всем в танковых войсках.
Или на подводных лодках.
Итак, сначала в комнату входил охранник, осматривал поле будущей сексуальной битвы, а потом сама “танкистка”.
Прозвище, как я и объяснил, было дано за небольшой рост.
Впрочем, и внешний вид барышни был такой, будто она только что отвоевала в танковом сражении. Начала бои ещё под Прохоровкой. В сорок третьем.
– Будете брать? – спрашивал охранник.
Человек с молодой кровью чувствовал, как она, эта самая кровь, внезапно стынет в жилах. Потом он ошарашено мотал головой и снова на неделю погружался в работу, стараясь не вспоминать о женщинах вообще.
А потом я уволился – тоже из-за женщин.
Но это совсем другая история».
Он говорит: «Я не про женщин даже расскажу… Про архитектуру. Началось всё с того, что давным-давно я понял – наиболее эротогенными местами во всяких клубах являются площадки перед туалетами. Что происходит внутри на фоне фаянса и унылой кафельной плитки – всем понятно и неинтересно. Недаром там всегда висит злобный автомат по продаже сантехнической резины. Но главное закладывается, вопреки физиологии, именно вне, а не внутри.
Продолжая исследования, я выяснил, что наиболее эротогенными местами в частных квартирах стали ванные. Сразу после каких-то новогодних праздников все мои знакомые, с которыми я празднично созванивался, поделились на тех, у кого был секс в эту новогоднюю ночь, и тех, у кого его не было. Я только хотел вывести из этого moralite, как вдруг мне позвонила барышня, которая, как оказалось, принадлежит к третьей категории. Она не была уверена в том, случилось ли с ней это, или же нет. Причём, количество людей, совершенно потерявших уверенность в сексусе, лексусе и прочих жизненных вещах, начало стремительно множиться. С тревогой ожидал я следующих звонков, поскольку неуверенные превратились из маргиналов в правящую партию.
Ванная в этих историях превращалась в символ неуверенности. Эта неуверенность усугублялась тем, что ванная – одна из немногих комнат, в которых свет включается (и выключается) извне.
Мой приятель неуверенно вспомнил собственную роль Деда Мороза, окончившуюся поздравлением хозяйки, что цеплялась за занавеску и ванный шкафчик. Говорил он так: “Дело в том, что в наших домах туалет невелик и часто неважно пахнет. Ванная не в пример лучше. К тому же в ней, кроме дыры (эвфемизм) есть и кран, который”…
“К чёрту, к чёрту”, – подумал я и перестал его слушать.
Очередная моя собеседница оказалась членом партии уверенных. Она-то занималась в новогоднюю ночь натуральным сексусом, а не каким-то петтингом-митингом. Но именно в ванной, и начала хвастать этим. Что-то было космическое, говорила она, два тела и…
– Помнишь, – сказала она, ты рассказывал мне про Стамбул? Ну, про цистерну в Стамбуле. Я помнил, да. Есть там такая подземная цистерна для питьевой воды, иначе называемая Йребатан-сарай – подземный дворец.
Цистерна эта многократно описана. В действительности Йребатан-сарай был отчасти похож на берлинское метро после затопления или огромную ванную. Только в этой ванной, в чёрной воде под пешеходными мостками, жили какие-то жутковатые рыбы. Беззвучно шевеля плавниками, проплывали эти рыбы по своим сумрачным делам. Когда я был в Йребатан-сарае, там шла выставка каких-то модных стамбульских художников. Страшноватая электронная музыка сопровождения подчёркивала нереальность места – отъединённость от зноя наверху, от истории по сторонам. Была лишь причастность к жутковатым мультфильмам-хентай, герои которых двигались по стенам и напольной воде. Эти герои были какими-то психоделическими трупаками, мечтой некрореализма, подсвеченной жутковатым светом. Прямо в эти картины, что проецировали в пол хитроумные аппараты под потолком, капала с потолка вода.
Немногочисленные посетители, шарахаясь от изображений, шлёпали по мокрому настилу.
И вот, моя знакомая, выплёскивая вновь переживаемое удовольствие в телефонную трубку, заявила:
– Представляешь, всё было как в твоём рассказе. Темно, потому что кто-то, проходя по коридору, выключил свет, плеск воды и какие-то существа плавают под ногами.
Оказалось, что в ванной было замочено бельё.
Трусы и носки плыли куда-то по своим бельевым делам.
Разбегались при ритмических движениях.
И это придавало уверенность в правильности происходившего».
Он говорит: «У меня тоже есть история. Пусть это будет история про полено. Я жил тогда в древнем городе, на краю одного национального квартала, который обрывался утёсом в другой, иной национальности, где по месяцу шла нескончаемая восточная свадьба.
Приятель мой, что был хозяином дома, отлучался часто и помногу. Оттого я больше видел не его, а красавицу-жену.
Она и вправду была очень красива, но это мне только мешало.
Есть старая история про жену Потифара.
Её пересказывал мой друг, буровых дел мастер, примерно таким образом: “И приходит она к Иосифу, и говорит: ‘Что бы нам немного не поджениться! А он говорит, хрен, говорит, тебе в грызло, дура – в смысле не хочу – не буду Ну тут она, натурально, рвёт на себе платье и… ”. Впрочем, все знают эту историю.
Один британский писатель по этому поводу заметил, что для сюжета совершенно не важно, спал Иосиф Прекрасный с женой Потифара или не спал – всё равно исход бы был один. А умный человек не мучается этим выбором – он знает, что единственный выход из этой ситуации – собрать вещи, весом лёгкие, а ценой – дорогие, и бежать прочь из города.
Впрочем, другой, французский писатель сочинил рассказ про полено. Это был рассказ про то, как некий человек сидел перед камином с женой своего друга. И эта женщина сделала ему то предложение, которое обычно делают друг другу мужчины и женщины в рассказах этого французского писателя. Но герой не хотел рушить дружбу, он вовсе был не рад, хотя “Сделаться любовником этой маленькой, испорченной и хитрой распутницы, без сомнения страшно чувственной, которой уже недостаточно мужа? Беспрестанно изменять, всегда обманывать, играть в любовь единственно ради прелести запретного плода, ради бравирования опасностью, ради поругания дружбы! Нет, это мне совершенно не подходило. Но что делать? Уподобиться Иосифу? Глупейшая и вдобавок очень трудная роль, потому что эта женщина обезумела в своём вероломстве, горела отвагой, трепетала от страсти и неистовства. О, пусть тот, кто никогда не чувствовал на своих губах глубокого поцелуя женщины, готовой отдаться, бросит в меня первый камень… Словом, ещё минута… вы понимаете, не так ли… ещё минута, и… я бы… то есть, она бы… виноват, это случилось бы, или, вернее, должно было бы случиться, как вдруг”…
Как вдруг из камина вываливается полено, катится, роняя угли по ковру. Лёгкая паника, пожарные мероприятия, тут и муж отворяет дверь.
Но моё положение осложнялось тем, что жена моего приятеля была не только красивой, но и умной женщиной, и нравилась мне чрезвычайно.
Итак, однажды мы оказались рядом на огромном диване, похожем на мохнатого ископаемого зверя.
Между кофе и кальяном возникла пауза. Мы были одни, и время в часах застыло, переклинивая шестерёнки и пружины. Этот момент разряжается только одним – либо мужчина кладёт своей умолкнувшей собеседнице руку на колено, либо она клонит свою голову ему на плечо.
Мгновение длилось, и вдруг она разлепила губы, я видел, как легко начинает своё движение воздух, как это дуновение складывается в первые звуки.
– Да, знаете, я всё хотела вас спросить одну вещь…
Трагические последствия того, что произойдёт, мне были очевидны.
Однако камин в этих широтах заводили только сумасшедшие. Я уже прикидывал будущие сны о толстой и тощей домашней живности, обо всём том, что приведёт меня к взгляду на мир сквозь унылую сетку-рабицу, и с покорностью примерял на себя перемену участи.
– Так вот… Володя, а вы подпадаете под действие Закона о возвращении?»
Он говорит: «Знаешь, есть нелюбимые слова. Вот есть мной нелюбимое понятие “культового фильма”. Я очень не люблю это словосочетание, и меня прямо в бешенство приводит, что никуда от него не деться – оно действительно точно описывает явление. Ты ведь спорить не будешь, что «культовые фильмы» привязаны к поколениям. Поколение, для которого культовым фильмом был “Подвиг разведчика”, скоро исчезнет, те, кто знал наизусть все приключения Шурика – на подходе.
Когда-нибудь в общую яму, где давно лежит политый поливальщик, провалятся и Штрирлиц, и неунывающий красноармеец Сухов, хотя скорость разжалования у всех фильмов разная.
Только я тебе скажу: для меня есть в этом процессе удивительные феномены. Скажем, успех «Подвига разведчика» я себе могу, как и честный триумф «Белого солнца пустыни». А вот с некоторыми фильмами позднего СССР – сущая загадка. Так вышло, что меня на излёте коснулись «Приключения Электроника». Герой там был в шестом классе, когда я – в девятом, поэтому я отнёсся к нему с естественным равнодушием старшеклассника.
Единственным результатом этого было то, что мои нетрезвые друзья, открыв у меня окна, вопили в три гитары “Крылатые качели”, думая, что композитору Крылатову, живущему этажом выше, это доставит удовольствие.
Стать адептом Наташи Гусевой я опоздал на два-три года – сериал вышел, когда я уже давно сдавал в сессию матанализ вкупе с диффурами, и познакомился с ней только когда пал настолько, что принялся якшаться с фантастами.
С “Гостьей из будущего” как раз всё более или менее понятно. Там всё было нацелено в школьный пубертат и первые попытки подрочить. С другой стороны, там присутствовало редкое для советских фильмов сочетание – школа “здесь и теперь”: школьная форма, некоторое безумие учебного процесса, и, одновременно, – подвал с тайной, мегафон-мелофон… Мелофон, йопта! Поколение делились на тех, кто говорил “миелофон”, и это были знатоки. Остальным было плевать, и они произносили “милофон”. Мой приятель пошёл регистрировать фирму с этим названием, и узнал, что их там сотни – только какая-нибудь буква добавлена, типа “Мелофон-М”… Тайные подвалы действительно тогда присутствовали в центре Москвы во множестве. Только они были зассаные, и у нас, школьников, в виде фольклора присутствовали, а тут вдруг оказались в кино. Это тот ход, который сделал популярными истории про эти сотни чередующихся дозоров вампиров и антивампиров – чудеса на фоне скуки буден, ну ты понимаешь.
А вот с фильмом Кин-дза-дза всё сложнее.
Я никак не мог посмотреть этот фильм спокойно, всё меня не оставляло чувство какой-то неловкости. Будто приходишь на свадьбу, где разгадывают шарады и проводят конкурсы.
До поры, до времени мне удавалось скрывать своё недоумение.
Я не вздрагивал от того, что адепты Электроника вдруг вскрикивали “страшным” голосом: “Где у него кнопка?!” Я был на рыбалке с человеком, который носил в бумажнике фотографию Наташи Гусевой – между разрешением на сотовый телефон и разрешением на ствол. И ничего – я там сома поймал, между прочим.
Я пережил разное.
Но однажды всё же испугался – когда давние мои приятели-начальники, ловко скрывавшие от меня и мира свои пристрастия, вдруг встали друг напротив друга в коридоре нашего офиса и начали приседать.
– Ку! – говорил один.
– Ку! – отвечал другой.
– Ку-ку, – невпопад сказал я.
И я понял, что меня скоро уволят».
Он говорит: «Вот вы, соседи, только что говорили о девочках. Воля ваша, но это всё называется картина “Охотники на привале” Я тоже ведь вам что-то такое рассказывал – стареющие мужчины должны вспоминать о женщинах, как же без этого. И есть такой особый стиль, когда они, то есть, мы хвастаются молоденькими девочками. Мне, правда, всегда интересно было, ещё когда я в Афганистан попал, отчего исламскому воину так хороша была перспектива зажигать с девственницами в раю. Ну я там понимаю, как чистые салфетки, заразы нет ещё никакой. Но там-то и чума, и холера, они на невинности не отражаются. Отчего не возжелать себе утех в объятьях опытной, искусной женщины? Не понимаю.
Так мне никто не объяснил.
К тому же, через год моего лейтенантства в сапёрном взводе я как раз желтухой заболел, да больше за речку так и не вернулся.
Ну а девочки – дело такое. Сразу думаешь, что если рядом с тобой молодое тело, то и ты молод, эту иллюзию я понимаю. Понятно, что и запах у них лучше, и поутру они свежее, но тут механизм-то не такой простой. Во-первых, они – лёгкая добыча, при условии, что рядом нет более крутого стареющего мужчины. Тут сейчас, конечно, рядом с девушкой может оказаться какой-нибудь мажор… Сейчас “мажор” говорят? Да? У меня в юности говорили. Так вот выкатится какой эффективный менеджер на кредитной машине, а там уже до него что-то красное гоночное запарковано. Но это-то ладно, тут соревнование известно. Но и стареющим интеллигентам сейчас несладко. Начнёт он своим дурацким Ходасевичем хвастаться, а рядом с девкой её сверстник, который уже во Франции пожил, итальянцев в подлиннике читал, а не как мы – в журнале “Иностранная литература”. Тут, конечно, конфуз может выйти.
Во-вторых, двадцатилетние многого не знают, и беззащитны. Оттого стареющий мужчина может выдавать недостатки за достоинства. Ведь ключевой момент в том, что сверстники и старшие знают цену стареющему мужчине, а девушка – нет. Поэтому это чистый покер. Полупокер, не побоюсь этого слова.
В-третьих, стареющего мужчину греет то, что их бросать легче, у них впереди целая жизнь, и они ещё утешатся. Оттого совесть стареющих мужчин успокоена.
Наконец, стареющий мужчина может испытать чувство власти, а это особенно сладко, когда у него нет власти в конторе или в семье. Ему подчинённые нахамят, а тут – нет. Или там начальство накричит, а тут глаза жалобные. У кого нормальная власть есть, тому это не нужно. А власть, она как наркотик, она разок по вене пошла, так ты её забыть не сможешь. Власть у школьного учителя или там у университетского препода-задрота, она и не власть вовсе, а жухлая трава. И у редактора какого на телевидении, можно подумать, власть есть – нету у него никакой. Это не от должности зависит.
А власть… Была у меня власть – минут пятнадцать была, в восемьдесят первом, на горной дороге. Кинули нас на разминирование, там ещё мин-то не было нормальных, это потом “итальянки” пошли, жёлтые такие, ребристые. Они из пластика были, хрен их определишь миноискателем. А тогда самоделки были в основном, а они не то, что у нас, у них самих в руках рвались. Послал я одного сержанта вперёд и чувствую – ссыт. Ну кому помирать хочется? Никому, и мне тоже. Только он – сержант, а я лейтенант. У меня власть была, а у него нет.
А потом плюнул и пошёл за ним.
Потому что я всё-таки училище закончил, а он – с грехом пополам шесть месяцев учебки.
Дрянь эта власть, вот что. Никогда у меня потом её не было, а я и не жалею».
Он говорит: «Вот тут начали говорить про дохлых котят, так я расскажу своё. Дело это давнее, да забыть его нельзя. Я в молодости был крепкий, как говорят, имел силёнку, на автобазе работал. Ну там веселье кипело, хмельное рекой текло, да и веселились мы с друзьями немеряно. Но грянули новые времена, всё переменилось. А дружок у меня набольший – еврей. Им, евреям, эти новые времена, тревожны, и я их понимаю.
Не поймёшь ведь, чем кончится, станешь ли каким абрамовичем, а погромы завсегда будут.
Ну и решил он ехать.
Нормальное, я считаю, решение.
Но тут он приходит ко мне и говорит:
– Знаешь, среди моих друзей ты один такой. К тебе обращаюсь я, прям как Сталин к братьям и сёстрам. Беда у нас.
Выясняется, что муж его будущей жены, вестимо, тоже еврей, не даёт развода. То есть, не то, что не даёт, а ему наш гуманный советский суд даёт месяц за месяцем размышлений на то, чтобы хрупкую советскую семью обратно склеить, а у этих-то уже билеты куплены.
– И что я-то должен? – спрашиваю я хмуро.
– А мы с тобой его побьём!
– И как это ты себе видишь?
– А вот, – говорит, мы его встретим у подъезда, – ты дашь ему в морду, а тут уж я вступлю.
И такая тоска меня, знаете, взяла: ну, я-то знаю, человек хороший, что ж за такого не подраться, у нас на автобазе кого хошь и за меньшее монтировкой уделают.
Но как-то неловко в этаком погроме участвовать. Да и непонятно, есть ли толк в нём – в нормальном человеке от такого сговорчивости-то поубавится.
И, к тому же, как-то стало мне обидно от такого предложения: что это я один такой? Разве для такого я только годен? Но сомнения в себе подавил, а от него ни слуху, ни духу. Наконец, сам ему позвонил, а он радостный такой: оказалось, что его жена, мудрая женщина, тихо сходила к судье, разъяснила положение, и безо всякого мордобоя гуманный советский суд всё устроил.
Я это качество в еврейских жёнах давно заметил, и сам потом на такой женился.
Удивительно другое – в тот же день, что я их проводил, я познакомился с тем самым недобитым. И оказался ничего мужик! Мы даже подружились, и вместе в баню ходили.
Тот не горевал особо, а женился, прошло много лет, и вдруг он мне звонит:
– Знаешь, среди моих друзей ты один такой. К тебе обращаюсь я, прям как Сталин к братьям и сёстрам. Беда у меня.
И тут меня память в прошлое вернула, и аж дыханье перехватило, а ведь прошло лет без малого двадцать.
Оказывается, у него с женой драма. Та ненавидит старого кота, что к его матери прибился и долгую жизнь прожил, а вот теперь помирать собрался. Я этого кота сам видел, и то правда – не жилец. Шерсть клоками сходит, и лапы подгибаются.
Но молодая жена отчего-то решила, что она от того кота заразится страшными болезнями, и вовсе решила из дома уйти. Я, подозревал, однако, что дело тут не только в коте, но виду не подал.
– И вот, – заключает он – ты этого кота убьёшь.
– То есть, как убью? – опешил я.
– А вот так. Ты, – говорит, – его того-с, а маме мы скажем, что Васенька ушёл гулять и не вернулся.
И опять меня тоска взяла: ну, он-то человек хороший, да и кот, по всему видно, мучается, но обратно неловко в смертоубийстве участвовать.
И, опять же, как-то стало мне обидно от такого предложения: что это он меня из всех своих друзей для этого выбрал? Разве для такого я только годен? Нет ли тут чего национального? Стереотипов каких-нибудь? И обидно, конечно, и за кота этого несчастного – ему бы как намекнуть, что нужно из дома бежать и тихо отойти где-нибудь у рыбных отходов ресторана “Якорь”, ан нет, он животное бессловесное – не выйдет.
Прошла неделя, а товарищ мой пропал.
Позвонил ему, а он мне и говорит: помер кот. Своей смертью и прилюдно. Никаких, мол, ни к кому претензий, извини за беспокойство.
Вот я и говорю: трудно среди евреев русскому человеку жить.
Но интересно, конечно».
Он говорит: «Знаете, давным-давно, когда милиция была полицией, мне рассказали про одного милиционера, что работал в московском метрополитене и делился со всем миром историями со своей службы. Ну, благодаря международной сети Интернет делился.
Однажды он поведал о чуде – так прямо и писал он в международной сети: “На одной из соседних станций произошло чудо. Так сказать, задержанный ответил за все свои угрозы, то есть, почувствовал их на себе”.
Там какие-то другие милиционер со своими товарищами задержал молодого хулигана, что хватал женщин за попы и ругался. А как его свели в кутузку стал грозится папой-генералом. Ну ему дали позвонить папе. Папа приехал, прочитал протокол, а потом как выхватит у милицейских резиновую палку и ну сына охаживать. Сына своего генерал забрал, а к милицейским прислал адъютанта с бутылками.
Я в эту историю верил, да не очень. Нет, понятно, что там всё начиналось с предупреждения: произошло, дескать, чудо. Ну, что чудо, конечно, это важно. Но ещё и то – что на одной из соседних станций. То есть тебе эту историю рассказывает не очевидец, а человек, к которому она пришла через долгие разговоры в милицейских курилках. Что не отменяет того, что похожий случай мог быть, и то, что милиционер на самом деле – красивая девушка с филологическим образованием.
Я вам так скажу: эта история была посвящена тому неизбывному чаянию, что люди внутри класса неодинаковы. Это бродячий сюжет – все боятся барина, а он никого не выпорол, дал по целковому и в город уехал. Идут люди из бани, а милиционер спрашивает их:
– В каком году вышли “Чётки” Ахматовой?
И те, ответив про 1914 год и издательство “Гиперборей” шествуют в смятении дальше.
– А чего нас бояться? – говорят прохожему на кладбище и провожают до выхода.
Дедушка Ленин всех чаем напоил, а мог бы бритовкой полоснуть…
Всё это вечный рассказ о том, что произошедшее лучше предполагаемого. Рассказ из того времени, когда в метро пускали за пятачок.
Где найдёшь нынче человека, что греет в кулачке пятачок? Это что-то вроде римского воина с гладиусом или свинопаса с волшебным горшком. Разве что – напьётся кто как свинья, и нос-пятачок куда засунет.
Это что-то вроде милиционера, интересующегося издательством “Гиперборей”».
Он говорит: «Один мой друг, ныне покойный, говорил: “Я вот всё мучаюсь, когда с девушкой знакомлюсь, то рассказываю ей про науку, Брамса играю, а сам всё думаю, как бы ввернуть, что у меня хер большой”. И правда – большой был.
Мы с ним вместе учились радиоэлектронике – он гений был, да только умер. А я – жив, только стал инженером по звуку. А мог бы учёным быть.
Ну, вы мне скажете про эти дела: “Хер большой, а сам как маленький”.
Так я вам вот что отвечу: нам действительно тогда было лет по двадцать, но и во всякие времена есть такой формат отношений – беззаботное перепихивание. Он был всегда, а тогда-то уж точно. Тогда у нас случилась сексуальная революция, Макдональдс, и оказалось, что молодость наша, и этот его большой хер, совпали с тем, что можно стало снимать квартиры и в гостиницах перестали спрашивать штамп в паспорте при заселении.
Да-да, я застал, когда спрашивали, и если ты с чужой женой был или с незамужней подругой, то в паспорт вкладывали красненькую десяточку, а то и лиловую двадцатипятирублёвку.
Я сейчас вспоминаю это время с нежностью, но без восторга. Много мы наделали всякой дряни – на первом шаге воспоминания как-то тепло, а потом – стыдно. По разным причинам стыдно, чего уж – иногда просто от того, что помнишь свои глупые речи и напыщенность.
А уж про тех, кому мы сделали больно, и говорить не стоит.
Но как у мужиков похуже со здоровьем, так сразу начинаются воспоминания о былых амурах и прочей сексуальной революции. Не паяльники же вспоминать с запахом канифоли и старую элементную базу – это теперь стыднее прочего.
Так вот об отношениях. В том формате, про который я вам рассказываю, были свои требования – мы же не пристаём к футболисту с вопросами, читал ли он “Анну Каренину”. Мы предполагаем, что он доставит нам, не выходя из телевизора, иное наслаждение, а там и дело с концом.
Ну, и в Макдональдсе? Который тогда нам казался космической станцией, и сейчас смысл есть, не всё ж в “Пушкине” обедать.
Недаром эти два заведения стоят друг напротив друга в конце Тверского бульвара.
Тогда в отношениях много нового было.
То есть, не нового, а просто произнесённого вслух.
К примеру, был у меня друг, у которого был роман с одним профессором. Натуральный роман, не весёлое перепихивание. Драмы. Расставания и встречи.
Статью за это ещё тогда не отменили, и я с удивлением вдруг понял, что это и есть гомосексуализм. Слово длинное и неудобное.
Но времена поменялись, и даже паяльники стали использовать по-другому.
В коммерческих, так сказать, целях.
Я, кстати, всегда завидовал женщинам, что у них может быть опыт промеж собой, и это им люди прощают, и бисексуальность эстетична, а вот с мужчинами всё иначе.
Причём большинство моих подруг, которые уже бабушки, а одна, кажется, дедушка, этот опыт имели, а будь со мной такое, я, поди, не сознался б. Девочки с детства целуются встречаясь-прощаясь, а у наших мальчиков это не в чести. Даже такого повода к тактильным контактам нет…
Так вышло, что я всю жизнь звуковиком работал.
Аппаратура, провода, и, как правило, музыка рядом. А музыканты разные бывают. Бывало, обнаруживалось, что мужчина в меня влюблён – нечасто, но такие случаи были. Это, правда, как-то само собой рассосалось – на теоретическом уровне, когда я был уже не молод, кстати.
И, знай себе движки на пульте гоняю, вида не подаю.
Другое дело, я всё же могу представить себе всё, что будет, так что мне можно зачесть этот опыт. Тут есть хорошая история: “Один могущественный и благородный король, явившись на исповедь к монаху, сказал: ‘Как-то раз пошел я в покои одной придворной дамы, чтобы с ней согрешить, но дамы не было, постель ее была пуста, и, стало быть, греха я не совершил’ ‘Напротив, мессер, – ответил ему монах, – это все равно, как если бы дама была в постели’. ‘Но разница все же есть’, – сказал король”.
Тогда же другой мой приятель мечтал спознаться с негритянкой. Наконец, когда границы открылись, он поехал в Париж и снял там проститутку. Даже двух. И вот, в восторге рассказывал, как сбылась его мечта: “Ах, эти дочери Ганга…”
Его подвела география и произношение.
Но решительный был человек, да.
Я же не решительный, я – звуковик. Вот в старом кино Паратов был решительный – шубу в лужу положил перед бесприданницей.
Расточитель.
Я бы не положил.
Можно на руках девицу перетащить: в том-то и дело – это ведь такой случай женщину обхватить. Я бы нипочём не отказался. Тем более, что шубы-то у меня и нет.
1
Памятка лётному экипажу по действиям после вынужденного приземления в безлюдной местности или приводнения. Издательство министерства обороны. – М.:, 1975. Без указ, тиража. Бесплатно, с. 3.
2
Гаспаров М. Записи и выписки. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. с 299. Опрос студенток о браке и семье «Аргументы и факты» 1996, к 8 марта.