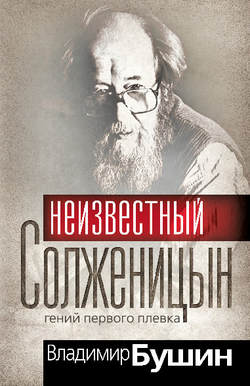Читать книгу Неизвестный Солженицын. Гений первого плевка - Владимир Бушин - Страница 9
Письмо из Рязани, отправленное в Москве
Лучшие сорта жизни
Оглавление19 мая, как уже сказано, была пятница, а по пятницам в редакцию журнала «Дружба народов», где тогда работал, мне дозволялось не ходить. Скорее всего в понедельник, 22 мая, ко мне зашел в мой редакционный кабинетик поэт Наум Коржавин, которого я знал с далеких литинститутских времен еще Эмкой Манделем, и предложил подписать коллективное письмо в адрес Президиума скорого съезда писателей. Я подписал. В письме предлагалось обсудить то самое послание Солженицына, которое я уже получил с помянутой сопроводиловкой.
Да, прискорбные факты в нашей многоликой литературной жизни, конечно, случались, горькие дела были, но в письме Солженицына плотным косяком шли главным образом лживые вымыслы о ней. Доводы против них, как говорится, не лежали на поверхности, а требовали поиска, наведения справок, сопоставления фактов, размышлений. Одни проделать такую аналитическую работу были неспособны, другие просто не хотели. Тем более что ведь и в голову не могло прийти усомниться в правдивости человека, который тут же, в этом письме, называл себя «всю войну провоевавшим командиром батареи», о котором авторитетные люди писали как о невинной жертве произвола.
И вот в какое возбужденное состояние привели именно эти слова молодого и темпераментного Георгия Владимова, который тоже получил письмо и теперь писал съезду: «Гнусная клевета на боевого офицера, провоевавшего всю войну… Это происходит на пятидесятом году РЕВОЛЮЦИИ… Я хочу спросить полномочный съезд – нация ли мы подонков, шептунов и стукачей или же мы великий народ, подаривший миру бесподобную плеяду гениев?» Мне лично не было необходимости обращаться к съезду для разрешения вопроса о моей нации, но – зная, где гении, я недостаточно был осведомлен о подонках, шептунах и стукачах. Именно поэтому-то отчасти и подписал я письмо, принесенное мне Коржавиным 22 мая 1967 года.
Однако, с другой стороны, в письме Солженицына встречались и утверждения, в правильности, справедливости которых не мог сомневаться даже самый недоверчивый человек. Так, умело играя на неповоротливости наших издателей, автор с большим пафосом возмущался прискорбным фактом длительного неиздания у нас Мандельштама, Пильняка, Волошина, Клюева, Ремизова, Гумилева и уверенно заявлял, что они «неотвратимо стоят в череду». Время показало, какой ловкий это был ход: в последующие годы действительно вышли сборники и Мандельштама (1975), и Пильняка (1976), и Волошина (1977), и Клюева (1977), и Ремизова (1978), и вот впервые после 1935 года издали «Петербург» Белого (1979), и скоро мы перестали платить по пятьсот рублей за парижские и вашингтонские издания Гумилева, который не выходил у нас с 1925 года.
Иные читатели солженицынского письма воспринимали его, вероятно, так: автор, бесспорно, прав в отношении Мандельштама, Гумилева и других, следовательно, столь храбрый и честный человек, он прав и во всем остальном. Эти люди не знали того, что, конечно же, прекрасно знал автор письма: лучшие сорта лжи фабрикуются из полуправды.
Я же считал, что обсудить письмо, как это предлагалось в том обращении к съезду, которое принес мне Коржавин, вовсе не значило принять все его идеи и требования. Главным у Солженицына было требование «добиться упразднения всякой цензуры». Ленинградский писатель Виктор Конецкий, которому автор тоже направил свое послание, писал в адрес Президиума съезда, возражая на помянутое категорическое требование: «Во всех государствах при всех режимах, во все века была и необходима еще будет и военная, и экономическая, и нравственная (порнография) цензура». Надо думать, среди делегатов съезда оказалось бы достаточно писателей, которые тоже нашли бы веские возражения как по этому, так и по другим пунктам письма. Словом, в ходе коллективного обсуждения обнаружились бы достопечальные свойства солженицынского демарша. Увы, у руководства Союза писателей и у таких его опекунов в ЦК, как А. Яковлев, не хватило ни смелости, ни сообразительности пойти на это.
Правда, тогда многое еще никак не могло обнаружиться даже при самом активном обсуждении. Так, на съезде не могло обнаружиться, что за словами «всю войну провоевавший командир батареи» стояли, как позже выяснилось, факты, несколько отличные от прямого смысла этих слов. И поэтому письмо Солженицына, разосланное им, как потом он сам признался, в 250 адресов, смутило дух и привело в крайнее возбуждение не одного лишь темпераментного Владимова. Его ровесник ленинградский поэт Владимир Соснора, будучи твердо уверен, что Солженицын – «пламенный борец с не-нашей идеологией», с еще большей уверенностью предрекал в своем огненном послании Союзу писателей: «Через две недели не будет ни одного (!) человека в России, и не только в России, который не прочитал бы это письмо». Виделось ему, что все человечество, отложив) самые срочные дела, остановив поезда и погасив домны, вот-вот засядет за чтение потрясающих страниц о том, как уничтожили Платонова и как Александр Исаевич с первого до последнего дня войны бесстрашно командовал своей смертоубийственной батареей.
Впрочем, не будем так строги к молодым тогда авторам, хотя один из них уже написал тогда двадцать четыре поэмы, каждая из которых равна «Медному всаднику» по объему. Не совсем трезво вели себя в те дни и некоторые литературные аксакалы. Вот Валентин Катаев. Ему было уже семьдесят. Мог бы, казалось, не буйствовать и понимать, что к чему. Но он наперегонки с тридцатилетними помчался на почту и отстукал в адрес съезда телеграмму, в которой оповещал: «С основными положениями письма я вполне согласен». С какими именно, не уточнял. Так и останется, увы, неизвестным, считал ли он «основным», допустим, «положение» письма о том, что у нас в стране «поносили» Достоевского, или о том, что Маяковский, которого Катаев хорошо знал лично, жил в советское время и разъезжал по советской стране с ярлыком «политический хулиган».
Еще более почтенный по возрасту Павел Антокольский, тоже сочинивший письмо, объявлял в нем Солженицына «наследником великих гуманистических традиций Гоголя, Л. Толстого, A.M. Горького» и призывал съезд покаяться перед этим вроде бы даже единственным «наследником»: «все мы в ответе перед ним». На колени, мол, братья писатели!
У иных аксакалов отрезвление не настало и по прошествии довольно длительного времени после съезда. Так, Твардовский даже и через восемь месяцев, в январе 1968 года, все еще уверял: «Я не помню даже попытки опровергнуть хотя бы один (!) из его (солженицынского письма. – В.Б.) пунктов, объявить их ложными… Почему? По той причине, что они в основе своей неопровержимы». Словом, маститый писатель вел себя почти так же, как тот ленинградский бурный талант, который за пятнадцать лет написал двадцать четыре «медных всадника». Прошло еще полгода, и в июле Лидия Чуковская все продолжала твердить: «Опровергнуть письмо нельзя ничем – и факты, и выводы неопровержимы». Ей шел в ту пору седьмой десяток… Это было поразительно! Ведь образованные же писатели…
В «Письме» много было намешано всего. Так, желая охарактеризовать духовную жизнь нашего общества, Солженицын утверждал, например, что «у нас одно время не печатали… делали недоступным для чтения» Достоевского[18]. Это сказано было, конечно, без должного уважения к истине. Как известно, Достоевский являлся сторонником самодержавия, иные его взгляды и произведения, так сказать, не соответствуют идеям социализма. При этих условиях наивно было бы надеяться, что сразу после свержения самодержавия и социалистической революции его стали бы печатать столь же охотно и широко, как, допустим, Горького или Маяковского, провозвестников этой революции. И тем не менее 23-томное Собрание сочинений Достоевского, начатое до революции петербургским издательством «Просвещение», после Октября не было ни прервано, ни заброшено, ни забыто, и последние тома беспрепятственно вышли уже в советское время. В 1921 году в Москве и Ленинграде (Петрограде) был отмечен 100-летний юбилей Достоевского. еще раньше на Цветном бульваре был поставлен памятник работы известного скульптора С.Д. Меркулова и открыт музей на Божедомке, к которому позже памятник был перенесен. Вскоре после этого началась подготовка к изданию первого советского собрания сочинений писателя на научной основе, и оно было осуществлено в 1926–1930 годах. А 30-томное академическое в 70—80-х годах?! Всего после революции, по данным на ноябрь 1981 года (160 лет со дня рождения писателя), вышло в нашей стране 34 миллиона 408 тысяч экземпляров его книг. Это получается в среднем около 540 тысяч ежегодно. Где ж тут «недоступный для чтения»? Надо ли упоминать еще и о целой научно-критической литературе о творчестве Достоевского, созданной в советское время?
Далее Солженицын писал, что великого писателя, гордость мировой литературы, у нас «поносили». Это обвинение, как и многие другие обвинения его письма, безадресно. Кто «поносил» – неизвестно. И что значит «поносил»? Достоевский художник сложный, трудный, противоречивый, страстный. Он и сам кое-кого «поносил». Так, Тургенева и Островского обвинял в шаблонности; о Толстом писал, что тот в сравнении с Пушкиным ничего нового не сказал; Салтыкова-Щедрина называл сатирическим старцем; о Константине Леонтьеве говорил, что вся его философия сводится к девизу «Живи в свое пузо» и т. п. Вполне естественно, что у такого художника и среди современников, и среди потомков были да, видимо, и всегда будут как горячие почитатели, так и яростные противники, которые тоже порой не слишком склонны к сдержанности в выражении своих чувств, – и разве им это запретишь? Его не любили такие большие художники, как Чайковский, Бунин. Но уж если речь вести о поношении Достоевского в прямом смысле, без кавычек, то в советское время его не было, а в прежние поры – сколько угодно. Именно тогда, в старое время на него писали злобные эпиграммы, главной чертой его таланта провозглашали жестокость, даже сравнивали с маркизом де Садом и т. д. И ведь это лежит на совести не кого-нибудь, а Некрасова, Тургенева, Михайловского. Уж не будем останавливаться здесь на критике Страхове, который просто оклеветал писателя.
В письме Солженицына содержались столь же неосновательные обвинения, связанные с именами некоторых советских писателей. Например, он гневно вопрошал: «Не был ли Маяковский «анархиствующим политическим хулиганом»?» Слова-ярлык взяты в кавычки, будто цитата откуда-то, но откуда – опять неведомо! Может, конечно, кто-то и называл так Маяковского до революции, когда в стихах и особенно в публичных выступлениях поэта было много дерзкого эпатажа, но назвать его после революции «политическим хулиганом», т. е., в сущности, врагом революции, которую он сразу принял всей душой и поставил свое перо, по собственному признанию, «в услужение» ей, – так назвать поэта мог бы лишь человек, который отличается, по слову Достоевского, «совершенно обратным способом мышления, чем остальная часть человечества». Нельзя, естественно, исключать возможности того, что люди именно с подобным способом мышления были среди родственников Солженицына или его знакомых, от которых он и услышал такую характеристику Маяковского. И запомнил ее, не сумев осмыслить. И не зная, как видно, при этом того, что до революции Маяковский сильно страдал от цензуры. Она не пощадила, допустим, его поэму «Облако в штанах». Полностью удалось опубликовать ее лишь после революции, в марте 1918 года.
Нагнетая мрачные краски в характеристике духовной жизни нашего общества, Солженицын далее уверял: «Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой девять лет назад (т. е. в 1957 году? – В.Б.) было объявлено «грубой политической ошибкой». Снова неизвестно, кем «было объявлено». С какого лобного места? Может, это приснилось? Похоже, что именно так, ибо с тем «объявлением» никто не посчитался, и вскоре издания произведений Цветаевой последовали одно за другим: 1961 год – «Избранное», 1965-й – «Избранные произведения» (большая серия «Библиотеки поэта»), 1967-й – «Мой Пушкин» (позже издан в более полном виде еще два раза)… А сколько этому сопутствовало журнальных публикаций: в «Москве», «Новом мире», «Звезде», «Просторе», в» Литературной Грузии», «Литературной Армении», в альманахах «День поэзии» и «Прометей»… В 1979 году вышли стихи и поэмы Цветаевой в малой серии «Библиотеки поэта» (576 страниц), 1980-й принес читателям ее двухтомник (том первый – стихотворные произведения, 575 с, том второй – проза, 543 с), 1983-й – «Стихотворения», изданные в Казани 100-тысячным тиражом… И эти издания, эти публикации вызывали большое количество статей, рецензий в тех же упомянутых популярных журналах.
Но автор «Письма» все продолжал класть мрачнейшие мазки: он, допустим, божился, что совсем недавно «имя Пастернака нельзя было и произнести вслух». Имелась в виду злополучная история передачи писателем за границу и опубликование там в 1957 году романа «Доктор Живаго», а также присуждения ему в 1958 году Нобелевской премии. Это вызвало тогда резкую критику в советской печати (например, статья Д. Заславского в «Правде» 26 октября 1958 года, в которой Пастернак был назван «литературным сорняком») и повлекло за собой исключение большого художника из Союза писателей. Увы, это было. Но дело, однако же, далеко не доходило до того, чтобы люди боялись произнести имя поэта вслух. Так, в том же 1958 году вышла книга «Стихи о Грузии. Грузинские поэты», и на ее обложке стояло имя не чье-нибудь, а исключенного из Союза писателей Пастернака. Позволю привести еще пример из собственной литературной работы. 13 сентября 1958 года я опубликовал в «Литературной газете» статью «И вечный бой!», посвященную роману Анатолия Калинина «Суровое поле», и там цитировал популярнейшие строки Пастернака. Да не в подбор, как ныне газеты цитируют даже Пушкина, а как полагается – стих под стихом. Было это, повторяю для в «Литгазете», где я тогда работал, на глазах у всех и в самый разгар критики опального поэта, однако – я остался жив! Да, у многих советских писателей жизненная и творческая судьба в годы так называемого «культа личности» оказалась трудной, а порой и трагической, но Солженицын, внося смуту в вопрос, в котором необходимы абсолютная достоверность и точность, в своем письме еще более все это драматизировал, усугублял, ухудшал, не останавливаясь перед прямым искажением фактов. К тому, что уже сказано, можно добавить, например, его утверждения (и, разумеется, чрезвычайно гневные!), будто для Николая Заболоцкого «преследование окончилось смертью», а Андрея Платонова «уничтожили». Заболоцкий, как об этом сказано в Краткой литературной энциклопедии, действительно «в 1938 году был незаконно репрессирован; работал строителем, чертежником на Д. Востоке, в Алтайском крае и Караганде», но в 1945 году его полностью реабилитировали, он вернулся в Москву и пишет в это время много прекрасных стихов, а в 1948 году выходит его книга «Стихотворения». Умер Николай Заболоцкий своей смертью в Москве 14 октября 1958 года пятидесяти пяти лет от роду. Что же касается Платонова, то он вообще никогда не был репрессирован. И никто его не «уничтожал», а умер он опять же своей смертью, в Москве, на пятьдесят втором году жизни. Как видим, уже тогда, в самом начале Солженицын врал напропалую…
Но все сказанное вовсе не означает, конечно, что у нас не находилось людей, порой и достаточно влиятельных, которые были чрезмерно осторожны, а то и враждебны по отношению к тем или иным из названных здесь писателей или к отдельным их произведениям. Так в 1935 году издательство «Academia» выпустило роман Достоевского «Бесы». Это вызвало чрезвычайно резкий протест уже упоминавшегося Д. Заславского, весьма известного и деятельного в ту пору журналиста. Он выступил со статьей, которая была озаглавлена никак иначе, а – «Литературная гниль». Факт более чем прискорбный, но он не остался без достойного ответа. И ответил не кто-нибудь, а сам Максим Горький, отношение которого к Достоевскому, при всем восхищении его изобразительной силой, во многих аспектах было весьма критическим. Он писал: «Мое отношение к Достоевскому сложилось давно, измениться – не может, но в данном случае я решительно высказываюсь за издание «Академией» романа «Бесы»…» И всего этого не знали Антокольский и Катаев, Твардовский и Лидия Чуковская?
После истории с письмом к съезду Солженицын развил бешеную деятельность по разным направлениям: требовал от Союза писателей публикации своих романов и повестей, добивался обсуждения «солженицынского вопроса» в секретариате Союза, тайно отправлял свои рукописи за границу (впрочем, это, возможно, сделано было и раньше), направо и налево раздавал западным журналистам весьма экстравагантные интервью… Следствием его титанической активности явились два знаменательных события: с одной стороны – в ноябре 1969 года исключение из Союза писателей, с другой – ровно через год присуждение Нобелевской премии. В те бурные дни ему, конечно, было не до переписки со мной. Я тоже не писал.
В феврале 1974 года Солженицына экспортировали в ФРГ и лишили гражданства, с весны 1975-го он обосновался в США, в штате Вермонт. Там с новой силой принялся за антисоветчину. Большое усердие не остается без внимания, благодарности и поддержки. Так, 10 мая 1983 года ему выдали еще и Темплтоновскую премию «За вклад в развитие религиозного сознания» (Англия), кажется, раза в два с половиной превышающую его Нобелевскую, за некие заслуги на религиозном поприще.
В свое время у нас о Солженицыне было напечатано много статей, рецензий, заметок, откликов. Были и серьезные, глубокие, но иные, к сожалению, оказались весьма поспешны и поверхностны. Появились у нас и книги о Солженицыне. Первая – «В споре со временем»[19], принадлежит перу Натальи Решетовской, бывшей жены писателя. В ней много конкретных и достоверных, документально обоснованных сведений о жизни А. Солженицына с детских лет до весны 1964 года, там приоткрывается завеса над самой личностью писателя. Вторая книга – «Спираль измены Солженицына»[20] – перевод с чешского, написана чехословацким литератором Томашом Ржезачем, лично знавшим своего героя в пору его пребывания в Швейцарии. Следует также упомянуть обширные публикации историка Н. Яковлева, посвященные в основном историческим и военным концепциям А. Солженицына, развитым в его романе «Август четырнадцатого». Эти публикации[21] содержат немало нового. Позже в переводе с французского вышла книга «Солженицын»[22] Жоржа Нива. А тут поспешил просветить подрастающее поколение своим «Солженицыным» и Виктор Чалмаев[23]… Наконец, в 2008 г. в ЖЗЛ вышел и «Солженицын» Людмилы Сараскиной, о котором в конце мы скажем особо.
Мой интерес к Солженицыну, первоначально проявившийся в статье о нем, а позже подкрепленный перепиской и личным знакомством, со временем не слишком ослабевал, хотя окраска его становилась несколько иной. Это побуждало меня при возможности читать и то, что он писал или говорил сам, и то, что о нем писали или говорили другие. Из прочитанного делались выписки, вырезки и т. д. Важное значение имели тут мои зарубежные поездки, в частности, поездка в ФРГ и посещение там Международной книжной ярмарки во Франкфурте-на-Майне в октябре 1979 года. На этой ярмарке и около нее тема Солженицына была представлена роскошнейшим образом. Да и не только на ярмарке. Первое, что мне подавали в книжных магазинах Франкфурта, Мюнхена, Майнца, Кельна, Бонна, Аугсбурга и Вупперталя, когда я спрашивал о русской литературе, был «Архипелаг ГУЛАГ», а уж потом следовали Толстой, Достоевский, Горький. В результате всех этих домашних и зарубежных штудий у меня скопился изрядный материал, который сам просился на бумагу.
А. Солженицын совершенно уверен, что все, написанное им, а в особенности, конечно, его Главная Книга – «Архипелаг ГУЛАГ», это абсолютно неуязвимая высочайшая правда. По его словам, Ассоциация американских издателей еще до появления «Архипелага» в США предложила тогда широко опубликовать в Соединенных Штатах любые опровергающие материалы. «Тщетное великодушие! – гордо восклицает Солженицын в брошюре «Сквозь чад». – Кроме бледной статьи Бондарева в «Нью-Йорк таймс» да захлебной ругани АПНовских комментаторов, ничего не родили тотчас». И дальше с чувством еще большего торжества: «Но вот отменно: они ничего не родили в опровержение и до сих пор, за пять лет. Пропагандистский аппарат оказался перед «Архипелагом» в полном параличе: ни в чем не мог его ни поправить, ни оспорить… Потому что ответить – нечего». И, наконец, уж вовсе упоенно: «За четырнадцать лет моих публикаций… не смогли ответить мне никакими аргументами или фактами, потому что ни мыслей, ни аргументов у них нет»[24].
Я не знаю, почему в свое время не приняли предложение Ассоциации американских издателей ответить на «Архипелаг», если оно в самом деле имело место. Может, действительно сразу-то, с налету не нашлось ни мыслей, ни аргументов. Известное дело, еще Бисмарк корил нас: «Русские медленно запрягают…» Но уж ныне-то грешно было бы утаивать от читателя появившиеся мысли и аргументы. Словом, пожалуй, настало время для более пристального рассмотрения фигуры Александра Исаевича Солженицына. И начнем с одной из первых книг о нем.
«Томашу Ржезачу, журналисту. Прага
Уважаемый Томаш! В своей книге об А. Солженицыне Вы неоднократно представляете его читателю страдальцем и мучеником, вынесшим невероятное. Вы пишете: «Хемингуэй высказал мысль, что каждый настоящий писатель должен пройти через какие-либо тяжелые жизненные испытания, такие, например, как война, заключение». Не знаю, точно ли пересказываете Вы Хемингуэя, но важно не это, а то, что Вы говорите дальше: «Солженицын проделал именно такой жизненный путь… Он прошел трудный путь… В жизни ему выпало испытать самое тяжелое».
Вы не одиноки, многие говорят о нем в этом же самом духе: «Человек, испытанный огненным крещением…» «переживший муки ада…» «вынесший 11 лет ужасного кошмара советских лагерей…» и т. п.
Такому представлению о жизненном пути Солженицына, надо думать, больше всего содействовали его собственные рассказы и заявления о себе. Вы пишете, что, «по его словам», он прошел «огонь и воду, медные трубы и чертовы зубы». Я не встречал у него именно этих слов, но нечто подобное он говорил и писал неоднократно. Особенно примечательно вот это высказывание в книге «Бодался теленок с дубом»: «Вся жизнь приучила меня гораздо больше к плохому, и в плохое я всегда верю легче, с готовностью». Обратите внимание, его приучили к плохому не годы заключения, а «вся жизнь», весь пройденный им путь. И, конечно же, надо не только видеть плохое и тяжелое со стороны, а испытать все на своей судьбе, на собственной шкуре, чтобы до такой степени «приучиться» к нему – верить в него не иногда, а всегда и не просто легко, но даже с готовностью!
Так давайте, товарищ Ржезач, и окинем взглядом «всю жизнь» Солженицына, посмотрим, действительно ли она была столь ужасна, так изобиловала неудачами, страданиями и тяготами, что не могла не приучить его к постоянной готовности верить в плохое. Солженицыну уже в самом начале жизни крупно повезло даже с местом рождения. Сколько русских писателей родились и провели жизнь в пыльной и шумной Москве, в пасмурном холодном Петербурге-Ленинграде, в сонных уездных городках, в глухих убогих деревеньках… А Солженицын родился на курорте! И это был не какой-нибудь зачуханный поселочек вроде Шафраново, куда ездил лечиться Толстой и где нет ничего, кроме кумыса и запаха конского навоза. Солженицын явился на свет в знаменитом на всю Россию, хорошо известном и Европе, в замечательном городе Кисловодске – первом курорте страны. Это – 900 метров над уровнем моря, хрустальной чистоты воздух, весь год – обильный солнцем, но нежаркое лето, теплая сухая осень, мягкая, ясная, безветренная зима. Это – среднегодовая температура воздуха 8,8 градуса тепла. Это, наконец, нарзан. Не знаю, дорогой Томаш, могут ли ваши Карловы Вары сравниться с нашим Кисловодском. Недаром же еще в первой половине XIX века русская аристократия отметила его своим прихотливым вниманием.
Будущий титан Шурик родился зимой. В эту пору его ровесников москвичей и петроградцев, пензяков и туляков кутали в теплые одеяла, укрывали овчинными шубами, его деревенские сверстники задыхались и прели в душных избах, а он вдыхал живительный горный воздух, млел в колясочке на мягком зимнем солнце, блаженно сучил еще кривоватенькими розовыми ножками и в неограниченных количествах мог потреблять нарзан. А какие виды, какие пейзажи несравненного Приэльбрусья открывались еще мутноватеньким Саниным глазкам! Последствия такого курортного существования с начальных дней оказались самыми благотворными. Отмечу хотя бы одно: видимо, именно вволю отведанный на заре жизни нарзан (в переводе с кабардинского «нарт-сане» это «богатырская вода») не только придал Шурику богатырскую силу, сообщил великую творческую энергию, но и внушил почти полное неприятие алкоголя, сгубившего немало русских талантов. Уже находясь на фронте, он писал жене о водке, которую там выдавали в зимнее время: «Представь себе, веселит, хотя и 100 грамм всего. Я их – кувырк!» Видимо, тут переданы ощущения человека, впервые отведавшего спиртного. А было ему тогда 25 годков…
Продолжал так: «А в общем – к чертовой матери! Каждый день пить не буду, это вредно. Буду менять на сахар». Каждый день не вредно, а даже полезно пить нарзан. И хорошо бы, конечно, допустим, каждый день по сто грамм водки выменивать на бутылку нарзана, да где ж его взять на фронте, и приходилось довольствоваться сахаром. Впрочем, и такой гешефт был боевому офицеру приятен: уж очень всю жизнь любил он сладкое во всех его возможных видах – от шоколадки до Нобелевской премии. К слову сказать, тогда еще не велись разговоры о том, что сахар – это «белая смерть». Иначе Солженицын выменивал бы свои сто грамм на что-то другое, допустим, на свиную тушенку, которая к его прибытию на фронт в середине 43-го года как раз начала поступать нам из Америки по ленд-лизу.
Однако я отвлекся. Вскоре маленький Шурик переезжает с матерью в Ростов-на-Дону. Случалось ли Вам, дорогой Томаш, бывать в этом городе? Мне выпало неоднократно. Конечно, в 20—30-е годы он выглядел иначе, но и тогда многие его достоинства не подлежали сомнению: город большой, зеленый, на знаменитой великой реке в сорока пяти верстах от моря, рукой подать до Кавказа, а сверх всего – и театры, и университет! Сейчас почти потеряло значение, почти исчезло понятие «университетский город»: ныне университетов много. А тогда университеты в стране были наперечет, и университетские города имели особое значение и вес, необычную притягательность и авторитет. К числу этих редких баловней истории принадлежал и Ростов. Большая жизненная удача, особенно для человека, помышляющего стать писателем, – оказаться жителем такого города. Именно эта удача и выпала на долю Сани Солженицына, когда он из Кисловодска переехал с матерью в Ростов.
Правда, было одно печальное обстоятельство: отец Солженицына умер (или погиб) еще до рождения сына. Но такая участь не считалась в ту пору редкостной, исключительной. Только что кончилась империалистическая война, шла война Гражданская, голод, эпидемии – все это унесло миллионы жизней. Безотцовщина, сиротство, беспризорщина никого тогда не удивляли. Все-таки на долю Солженицына выпало меньшее из этих зол, и оно, как видно, в огромной степени смягчалось заботой, вниманием и самоотверженностью матери.
Мать была стенографисткой-машинисткой. Видимо, ей удавалось неплохо зарабатывать, во всяком случае, она сумела сделать так, что сын не только окончил школу, а потом университет, не бросил их и не пошел работать, но и за все время учения не бегал по случайным заработкам, что было тогда так широко распространено среди учеников и особенно студентов. Разве такая мать – это не счастливый подарок судьбы?
Однажды Солженицын скажет: «Я детство провел в очередях – за хлебом, за молоком, за крупой». Да, время было трудное, и детям приходилось стоять в очередях. Но есть основание думать, что и это обошлось ему легче, что выпадало все-таки гораздо реже стоять, чем сверстникам, ибо в другой раз он скажет: «Детство я провел в многочисленных богослужениях». Видно, когда ровесники стояли в очередях, Шурик нередко имел возможность возносить к небесам аллилуйю. Возможность эту обеспечивала, конечно, мать, ее заботы.
Судьба не обделила Солженицына почти ничем из того, что необходимо для плодотворной умственной работы, – ни способностями, ни трудолюбием, ни усидчивостью, ни здоровьем, наконец. более чем щедро она наградила его и честолюбием, а оно один из главных двигателей творчества. Благодаря своим незаурядным природным данным Солженицын хорошо учился и в школе, и в университете. Но, дорогой Томаш, разве не случалось Вам встречать людей талантливых, деятельных, добивающихся отличных результатов в своей работе, но они, как говорится, не умеют себя подать и всегда остаются в тени, их жизнь проходит в безвестности? Не так было с Солженицыным. Он умел сделать так, что его способности и старания всегда сразу замечались, получали поддержку и поощрение. В школе он был назначен сначала бригадиром (было это тогда!), позже – старостой класса, а в университете его обласкали Сталинской стипендией, что по тем временам ценилось чрезвычайно высоко, да и цифровое ее выражение было весьма существенным, в несколько раз превосходившим обычную студенческую стипендию. Это ли не новая и крупная удача? Правда, для Сталинской стипендии нужны были не только отличные отметки, тут учитывалась и общественная работа, политическая активность. Ну, уж чего- чего, а этого-то у Сани было с избытком! Тут и художественная самодеятельность, и редактирование стенной газеты, и «вообще деятельное участие во всех комсомольских делах».
Летом 1939-го он поступил на заочное отделение Московского института истории, философии, литературы. Опять удача? еще какая! Это было бы большой удачей и не только для провинциального юноши, который еще не носил гордое звание Сталинского стипендиата, имевшее магическую силу. Ведь ИФЛИ был знаменит на всю страну!
Высокую персональную стипендию Солженицын стал получать с 1940 года, на полтора года позже. Это существенно отметить, ибо ясно же, что поступление в московский институт, длительные поездки в столицу по делам учебы требовали новых дополнительных средств, а повышенной стипендии еще не было, выходит, что мать Солженицына все-таки выискивала эти средства, очевидно, исключительно за счет того, что брала новую и новую работу. О том, как старалась мать сделать для своего Шурика все, что в ее силах, говорит и знаменательная покупка велосипеда в 1936 году, видимо, в связи с окончанием десятилетки. Знаете ли Вы, дорогой Томаш, что значил в нашей стране в середине 30-х годов личный велосипед? Пожалуй, почти то же самое, что сейчас в Чехословакии личная «Татра» или у нас – «Волга». И вот семнадцатилетний Солженицын получил от матери такую «Волгу».
Студент заочного отделения Московского института истории, философии и литературы Александр Солженицын. 1939 г.
«Что дороже всего в мире? Оказывается: сознавать, что ты не участвуешь в несправедливостях. Они сильней тебя, они были и будут, но пусть – не через тебя»
(Александр Солженицын)
Машина не стояла без дела. Летом 1937 года в первые студенческие каникулы они с приятелем Николаем Виткевичем покатили на юг, проехались по Военно-Грузинской дороге. В следующем году, после второго курса, крутили педали уже по дорогам Крыма и Украины. После третьего курса – махнули в Казань, купили там за 225 рублей лодку, прокатились вниз по матушке по Волге до Самары, недавно ставшей Куйбышевом, продали там лодку за 200 рублей и вернулись домой, а затем – в Москву, опять вместе поступать в ИФЛИ. Лето следующего года распределилось у Солженицына так: с середины июня до конца июля – в Москве, где сдает экзамены за первый курс ИФЛИ; с конца июля, видимо, до конца августа – в Тарусе, где они с Натальей Решетовской проводят свой медовый месяц. На этом следует остановиться. Женитьба Солженицына – это еще один, может быть, самый большой подарок ему фортуны. В самом деле, в таких девушек, как Наташа Решетовская, влюбляются многие. Это об одной из них Пушкин сказал:
Вы избалованы природой,
Она пристрастна к вам была.
И наша вечная хвала
Вам кажется докучной одой…
Н. Решетовская действительно была избалована природой: и хороша, и умна, и богато одарена талантами – впоследствии она стала хорошим ученым, преуспела по службе (доцент, завкафедрой), а как пианисткой ею восхищались музыканты и писатели с мировыми именами. Да, в таких влюбляются многие. Но многие ли добиваются успеха? А вот Солженицын влюбился – и она стала его женой. Молодые люди едва ли не пол- Ростова завидовали ему.
О медовом месяце в тихой поэтичной Тарусе Н. Решетовская вспоминает так: «Сняли отдельную хату у самого леса. Мы не столько бродили по этому лесу, сколько располагались в тени берез, и муж читал вслух или стихи Есенина, или «Войну и мир» Толстого, частенько находя сходство между двумя Наташами». Это происходило в 1940 г.
На будущий год, 22 июня, Солженицын снова приезжает в Москву – сдавать экзамены за второй курс, но это был уже 1941 год, и не знаю, довелось ли ему в этот раз сдавать экзамены.
Итак, каждое лето после окончания школы, пять студенческих каникул подряд, Солженицын или проводит в туристских вело-лодочных походах, или ездит в Москву. Из этого можно сделать по крайней мере два существенных вывода. Первый: молодой человек может позволить себе даже в каникулы не тратить золотые дни молодости на какие-то заработки, как многие его однокашники; он предпочитает в это время любоваться красотами Дарьяльского ущелья и Жигулями, бродить по горным тропам и подниматься на Ай-Петри, слушать рокот моря и шелест волжской волны, блаженствовать с возлюбленной в тени тарусских берез и размышлять о ее сходстве с героиней Толстого… Когда позже, через несколько лет, он станет чернить советскую власть и все ее порядки, называя их бесчеловечными, жестокими, рабскими, он не вспомнит, что все это – ростовский университет и первоклассный московский институт, высокую стипендию и вольготные каникулы, которые он проводил, как ему вздумается, – все это он имел, будучи сыном не высокопоставленного партийного руководители, не генерала, не наркома, не академика, а всего-навсего одинокой и больной стенографистки.
Второй вывод таков: Вы ошибаетесь, т. Ржезач, когда пишете о Солженицыне в детстве и юности: «одутловатый, не слишком расторопный», в его облике «какое-то почти мистическое одиночество», наделяете его стремлением к отчужденности и замкнутости. Словом, создаете портрет болезненного анахорета. Факты биографии противоречат этому. Чтобы совершать длительные многокилометровые путешествия на велосипеде по горным дорогам или на лодке по реке, надо иметь крепкое здоровье. Судьба не обделила Солженицына и в этом – он был здоровым человеком с юных лет. Правда, порой пошаливали нервишки, на почве уязвленного самолюбия с ним случались нервные припадки, – ну кто же может похвастаться абсолютной безупречностью здоровья?
Что же касается замкнутости и «мистического одиночества», то откуда бы им взяться у бригадира, у старосты класса, а затем – у активнейшего комсомольца, редактора стенгазеты, участника художественной самодеятельности? И разве Вам неизвестно, что в студенческие годы у них существовал крепкий дружеский кружок, в который помимо Солженицына и Решетовской входили Николай Виткевич, Лида Ежерец и Кирилл Симонян?
Нет, уж чего-чего, а физической крепости, расторопности и ловкости, общительности и энергичности Солженицыну было не занимать на протяжении почти всей его жизни. Последнее, о чем следует сказать, всматриваясь в детско-юношеский ростовский период жизни Солженицына, это вот что. По сведениям, которые Вы приводите в своей книге, и отец его, и мать происходили из очень богатых семей землевладельцев и скотоводов. Некоторые люди, имевшие таких родителей, в советское время так или иначе пострадали. Солженицын же ничуть! Он шел по жизни беспрепятственно. Его происхождение не помешало ему ни в школе, ни при вступлении в комсомол, ни когда принимали его в университет, а затем – в столичный институт, ни при назначении ему Сталинской стипендии, ни при поступлении в офицерское училище, ни при быстром продвижении по службе, ни при награждении орденами, ни при реабилитации, наконец. Он не вспомнит и об этом, когда в «Архипелаге ГУЛАГ» будет убеждать, что «лились потоки (арестованных) за сокрытие соц. происхождения», за «бывшее соц. положение». Это понималось широко. Брали дворян по сословному признаку. Брали дворянские семьи. Наконец, не очень разобравшись, брали и ЛИЧНЫХ ДВОРЯН, т. е. попросту – окончивших когда-то университет. А уж взят – пути назад нет, сделанного не воротишь».
«Не очень разобравшись»… Это пишет человек, который своей биографией не только противоречит сказанному им, но и, претендуя на роль знатока старой России, не знает о ней простейших вещей и говорит анекдотические несуразности: будто все, окончившие университет, получали дворянство – что за вздор!
Так что же, скажете Вы, в ростовскую пору одни только удачи, успехи да везение? Нет, был у нашего героя в эту пору один крупный срыв: он мечтал стать актером, пробовал после десятилетки поступать в студию Юрия Завадского, находившуюся тогда в Ростове, и – провалился, сказали, что слабы голосовые связки. Пришлось ограничиться амплуа первых любовников в университетской самодеятельности. Но и эта неудача была все-таки временной и относительной. Солженицын еще развернет свои актерские способности, он еще сыграет хорошо выученную роль на глазах всего мира… Но об этом – дальше».
18
Солженицын А. И. Письмо Четвертому Всесоюзному съезду писателей, с. 1. Архив автора. Далее – «Письмо». Оно опубликовано в уже цитированном 6-м томе собр. соч. Солженицына. Все цитаты в этом фрагменте взяты оттуда. – В. Б.
19
Решетовская Н. В споре со временем. АПН, 1975. Далее – Н. Решетовская.
20
Ржезач Т. Спираль измены Солженицына. Прогресс, 1978.
21
Яковлев Н.Н. Продавшийся и простак // Голос Родины, февраль, 1974; Яковлев Н.Н. Продавшийся. Литературная газета. 20.02.1974.
22
Нива Ж. Солженицын. Художественная литература, 1992.
23
Чалмаев В. Александр Солженицын. Жизнь и творчество. Просвещение, 1994.
24
Солженицын А. Сквозь чад. YMCA-PRESS, Paris, 1979, с. 3, 11. Далее – «Сквозь чад».