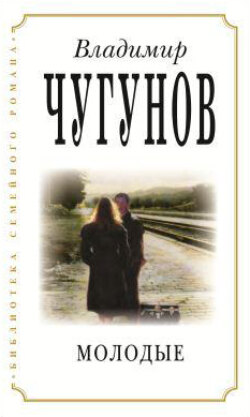Читать книгу Молодые - Владимир Чугунов - Страница 2
Часть первая
Оглавление1
Свернувшись калачиком на лавочке одной из прилегающих к Нижнеудинскому вокзалу тихой улочке, под утро от холода Петя Симонов почти не спал.
Солнце только что поднялось над крышами деревянных домов пристанционных улиц небольшого сибирского городка и, дробясь в кусте черёмухи, бисером блестело на зелени ещё не распустившегося цветника, который Петя время от времени созерцал через приоткрываемые веки за штакетником.
Этот похожий на большую деревню городок казался Пете преддверием сказки, хотя была у этой сказки своя, далеко не сказочная история. Пережив вместе со всей страной экспроприацию, коллективизацию, чистки, войну, с освоением начатых в середине девятнадцатого столетия золотых приисков, с открытием месторождения слюды, строительством фабрики, завода, кинотеатров, больниц, школ, с открытием отделения Иркутского университета культуры, медицинского и музыкального училищ, аэропорта, Нижнеудинск был втянут в эпоху великих строек (один БАМ чего только стоил!), а в целом являлся одним из тех городов, которыми прирастала Россия в период освоения Сибири и Дальнего Востока. И так год от года менялся лик земли, только люди в существе своём оставались неизменны: так же любили и ненавидели, ссорились и мирились, встречались и расставались. Осень сменяла лето, за зимой наступала весна, как и эта, пришедшая на нижнеудинскую землю чудесная, во всяком случае, для Пети Симонова, весна 1975 года.
Ещё совсем недавно в парадной военной форме, украшенной знаками отличия, погонами старшего сержанта, с «мослами» артиллериста, Петя уныло слонялся по безлюдной деревне, где даже не с кем было выпить за дембель. Ослепительно (словно улыбка невесты!) цвела вишня, купались в огненных лужах ершистые воробьи, на возвышении дальнего холма парил в сизой дымке синий купол деревянной церкви, где Петю в младенчестве крестили, а он не находил себе места в этой весенней радости.
Шла пасхальная неделя, и старушки с бабушкой, в их значительно поредевшем за последние годы числе, собрались в доме соседки петь Пасхальный канон.
– Христо-ос воскре-эсе-э и-из ме-эртвых, сме-эртию сме-эрть попра-ав, и су-ущим во гробе-еэх живо-от да-арова-ав! – с неизбывной надеждой тянули их немощные голоса, как и пять и десять лет назад, и, казалось, не было для них события важнее на свете.
Мать с утра уходила на центральную усадьбу колхоза, где работала ветеринаром. Недавно ей посулили квартиру со всеми удобствами, а это значит – прощай родные палестины, хотя бабушка вряд ли покинет насиженное гнёздышко. Отца Петя не помнил (три года ему было, когда родителя высушило раком), росли они с Лёней безотцовщиной, и если бы не бабушка, мамина мать, поднявшая без мужа троих (дед без вести пропал в сорок первом), они бы и десятилетку не окончили, а так всё, как у людей. И вот уже пятый сезон Лёня работал в старательской артели, а там и Петя, не задумываясь, последовал его примеру.
Ещё курился над землёй туман, ещё дышал ночной влагой воздух, когда из двери дома с тяжёлым рюкзаком за плечами вышла среднего роста, по-походному, в спортивный костюм и ветровку одетая девушка, в синем берете, из-под которого спускалась на грудь тёмно-русая коса. Провожала её интеллигентного вида пожилая женщина, про которую нельзя было сказать старушка – высокая, статная, по всему чувствовалось, волевая, в домашнем халате, в накинутом на плечи коричневом плаще, светлой косынке, завязанной сзади, как и Петина бабушка носила.
– Ну, и как ты такую тяжесть до аэродрома потащишь? – недовольно пробурчала она.
И в следующее мгновение Петино сердце впервые опахнуло тревожным весенним ветерком:
– Ладно, бабуль, как-нибудь.
– Как-нибудь… – пробурчала пожилая. – Ума у них, что ли, нет, ребёнка одного посылать?
– Да не переживай ты, баб! Слава Богу, не первый раз.
– Сначала долететь надо, а потом уже и «слава Богу» говорить.
Скрипнула калитка, заманчивая на Петю навалилась тишина. Разумеется, девушка сразу опешила, увидев его, лежащего на лавке, под которую он засунул свой разрисованный дембельский чемодан, тихонько кликнула:
– Ба-аб.
– Ну, чего там ещё?
Послышались торопливые, совсем не старческие шаги. Напряжённая водворилась тишина.
– Пьяный, поди, – выразила наконец своё мнение пожилая.
– А чемодан откуда?
– Украл, может! А что, знаешь, какие теперь людишки пошли?
Этого Петя вынести не мог и, водрузившись на лавке, демонстративно извлёк из грудного кармана изрядно помятого дорожного пиджака паспорт, хотя в чемодане лежал ни разу не надеванный костюм, купленный по приезде на армейские сбережения (там, где он служил, выдавали две зарплаты – одну наличными в марках, другую клали на книжку в рублях).
– Да не вор я, не вор! Во! Видите? И я, стало быть, гражданин… Приезжий, в общем. Ночью прибыл. И куда мне, по-вашему? На вокзале ночевать? А потом доказывать в КПЗ лояльность родной советской власти? Ну и решил – найду местечко потише да прикорну до утра.
– И откуда нелёгкая принесла?
– А-а… где «Волги» делают, знаете? – озорно прищурившись, вопросом на вопрос ответил Петя.
– Машины, что ли?
– Они родимые!
– Понятно. Сюда зачем прибыл?
– Странный вопрос. Работать. Имеется тут у вас старательская артель «Бирюса»?.. – И по тому, как они переглянулись, заключил: – Стало быть, имеется. Так я – туда, не знаю только куда.
– Проулок видишь? Через него, вдоль болота, прямиком на улицу Чернышевского попадёшь. Там ваша база.
– Ну, туда так туда. Аривидерчи!
– Чего?
– Чао, говорю! Покеда, значит!
– А ты, я смотрю, озорной!
– Не-э, я сми-ирный, – заверил Петя. – А ежели бы нет, меня уже на полпути ссадили. Или в Москве загребли. Я же через Москву ехал. Не был ни разу, ну и рванул скрозь. Дай, думаю, гляну…
А в Москве у Пети было «огроменной», как он выразился, важности дело: на Красной площади побывать, чтобы собственными глазами улицезреть не кого-нибудь, а самого Ленина! Так он его любил, так с самого детства мечтал о чудесной (а вдруг он сойдёт с экрана или Петя войдёт в него?) встрече с ним. Не было ни одного фильма о нём, самом-самом, который бы Петя пропустил. Мать, кстати, тоже его любила: ещё бы, бедных от богатых освободил! Что касается бабушки, она на эти темы не распространялась, пела себе и пела свои молитвы, и в Петином сознании Ленин был сам по себе, бабушкины молитвы сами по себе и, казалось, нисколько друг дружке не мешали.
Однако увидеть Ленина не удалось, и всё из-за Толика Копылова, однополчанина, к которому Петя заскочил прямо с поезда. Узнав, что «корешу не с кем было выпить за дембель», Толик тут же собрал «дембелей», и они вчетвером гудели в пустом железном гараже до Петиного отъезда.
– Да наглядишься ты ещё на своего Ленина! – кричал Толик всякий раз, когда Петя порывался покинуть застолье. – Ну, чучело и чучело, чего там смотреть? Давай лучше за нас, за дембелей! А когда назад поедешь, обязательно заезжай, мы тебе такого Ленина покажем, никакого другого не захочешь!
– Почему это?
– Потому… – хитро подмигивал, намекая на что-то щекотливое, Толик. – Тяни давай, не задерживай тару!
Но Пете всё равно хотелось увидеть Ленина.
– В таком виде? – резонили его. – Да тебя близко не подпустят! Ласты скрутят – и в КПЗ! Ты в КПЗ хочешь?
Потом у Пети Симонова, во хмелю самого щедрого человека на свете, появились друзья до гроба в поезде. Так что в Нижнеудинске, около двух ночи, он сходил с совершенно свободными от купюр и всякой ничтожной мелочи карманами, зато на всю жизнь приобрёл друзей. Адреса только забыл спросить, и куда ехали, не поинтересовался тоже, но встретятся же они когда-нибудь, это гора с горой, а человек-то с человеком… о-о, человек с человеком…
– А так, ну чё? – продолжал откровенничать Петя. – Жены не имеется. Отца не имеется. Умер. Да-авно-о… Мать с бабушкой имеются да Лёнька, брат, у вас тут, «там где речка, речка Бирюса», трудится… – И вдруг, с хитрым прищуром кивнув на девушку, поинтересовался: – Сестра ваша будет?
– Внучка! – опешила пожилая.
Петя в притворном изумлении вытаращил глаза.
– Да-а? Ни за что бы не догадался!
– А ты, я смотрю, весёлый.
– А чего плакать-то, ну? «Любите, пока любится…»
– И с кем ты тут любиться собрался?
– А ни с кем! Это я так, к слову, песня такая, а так я ещё ни разу не влюблялся! Успе-эю!
– Ну а теперь-то куда – на базу или прямо в тайгу?
– Я бы прямо в тайгу, да надо на базу. А что?
– Не донесёшь внучке чемодан до аэродрома? База ваша как раз рядом с аэродромом будет.
– Это я-то не донесу?! Обижаете!.. – И Петя хотел прибавить «бабуля», но не прибавилось почему-то. – Да я двадцать раз «подъём переворотом» делаю! А «выход силой» до тех пор, пока командир взвода не рявкнет: «Освободить снаряд!» Турник так называется. А вы подумали какой-нибудь настоящий снаряд, на котором барон Мюнхгаузен в тыл к врагам летал?
– Какой ещё там барон? – не расслышала пожилая.
– Мюнхгаузен. Который себя из болота за волосы вместе с конём вытащил.
– Да-а-а!..
– Ага-а!.. Мне и бабка моя, Лизавета Матвевна, всё грит: «Ну, грит, ты, Петька, и пустобрёх». А я ж для тонусу! Чтобы жить веселей! А что? Всюду жизнь привольна и широка – так? Карочи, старикам со старухам пенсии, а для нас, молодых, «всё пластинка поёт, и проститься с тобой всё никак не даёт». Кстати, у вас тут под пластинки ещё танцуют или уже, как у людей?
– Да ты вроде работать приехал.
– Ну это да-а… А после сезона, что, чай, не станцевать? Заранее приглашаю. Обеих. Есть тут у вас ресторан?
– И как ты с таким пойдёшь? – с сомнением глянула на внучку пожилая.
– Да вы что?! – до глубины души возмутился Петя. – Настаиваете, чтобы горсть земли съел?
– Это ещё зачем?
– Чтобы поверили.
– Поверили бы, кабы рот не разевал.
– А я не обидчивый! – тут же осклабился Петя. – По мне, хоть горшком назови, только в печку не ставь! А ну сымай, внучка, рюкзак, а то с рюкзаком унесу! Да не боись, не стырю! – Девушка сняла рюкзак, Петя для убедительности подержал его на согнутой в локте руке. – Видите? Бицепсы! Потрогайте! Не бойтесь, потрогайте! Двадцать четыре кэгэ легко жму! Потрогайте! Ну, не хотите как хотите. Покеда! – И, закинув на плечо рюкзак, подхватив чемодан, двинул. – «Я-а приду-у и тебе-э о-обойму-у…»
– Иди, Варюш, – донеслось до его слуха, – разве что балабол, а так вроде неплохой парнишка.
– Не-э, – тут же согласился Петя. – Я хороший!
И балаболил аж до аэропорта. Бывает с ним такое: то чешет без умолку, а то слова не вытянешь. Когда же узнал, что Варя летит в ту самую тайгу, куда он прибыл золото мыть, и что отец её – заведующий метеостанцией, «в первый раз в жизни», как тут же и объявил, готов был влюбиться, «чтобы уж раз и навсегда, раз и навсегда…» Вероятно, оттого ещё он балаболил, что из него не окончательно выветрился ночной хмель. Когда же выяснилось, что Варе всего шестнадцать, ни капельки не расстроился.
– Это ничего. Пока ты растёшь, я отдохну, а там и поженимся. Договорились? Нет, ты скажи, договорились? Договорились?
– Да договорились, договорились, – чтобы только отвязался, ответила Варя.
И тогда Петя, как в одном интересном кино про басмачей, заключил:
– Э-это то-очно! Проводив будущую невесту до аэропорта, Петя справился, когда вернётся, и, узнав, что через две недели, зачем-то ей было надо, выдал, как научили в школе:
– Зэр гут!
– А чему вы больно радуетесь? Через два дня я улечу опять, и уже на всё лето. И потом, мы с вами, кажется, ни о чём не договаривались.
– Как это? А жениться?
– Ну… это через два года ещё.
– Между прочим, по согласию родителей расписывают и в семнадцать.
– Да? А я не хочу, может!
– Из вредности?
– Да хотя бы!
– А по виду не скажешь, хотя имя и варварское, конечно, – Вар-р-рвар-ра! И не выговоришь даже. По батеньке-то как?
– Ну Николаевна, допустим, а вам зачем?
– А фамилия?
– Ну Иларьева, хотя бы, а что?
– Письмецо при случае накатать. Можно?
Варя состроила удивлённые глазки.
– А вы ещё и писать умеете? А я думала, только танцевать.
– Ой, ой, можно подумать… Да я ещё такое письмецо накатаю – закачаешься! Между прочим, у меня железная пятёрка по литературе была, единственная, кстати, из всех предметов!
– А остальные что, двойки?
– Я что, похож на двоечника?
– Не знаю, не знаю…
И, спохватившись («ой, извините!»), заспешила к самолёту.
А Петя Симонов, отныне самый счастливый человек на свете, потащился на базу, и на другой день развил такую бурную деятельность по её благоустройству, что даже в тайгу, о чём только и мечтал, не попал. Вместо него туда отправили Герку Левко, с которым они и познакомиться толком не успели, а всё потому, что с самого утра Герка уезжал на бортовом газике (ГАЗ-51) по снабженческим делам, приезжал поздно вечером и сразу исчезал на всю ночь. Появлялся под утро с масляными, как у кота, глазами и складкой, вместо улыбки, на холёном, тщательно выбритом лице. При его появлении в Петиной голове начинали бегать тараканы, загаживая все его идиллические представления о счастье. И когда «кот этот» (из московских таксистов, кстати) исчез, Петя облегчённо вздохнул, как если бы в духоту наконец распахнули форточку. И всё же после Геркиного исчезновения Петя от одиночества совсем было загоревал, но – как тут не уверовать в бабушкино «провиденьё»? – ровно через две недели на участке забарахлила рация, и председатель сказал: «Лети».
2
Первое впечатление с высоты полёта было не как о тайге, которую Петя видел в кино. Скорее она походила на редкую посадку моркови, и разве что сопки да зависшая над горизонтом снежная шапка, как справился у летунов, пика Поднебесного скрадывали чувство полнейшего разочарования. Ну и где они, эти лесные завалы, перекаты, водопады, нехоженые тропы, с обилием диких зверей и птиц? Неужто эта вьющаяся под крылом дрожавшего всем корпусом самолёта свинцовая лента и есть та самая Бирюса, которая «шумит, поёт на голоса», а редкие, пустые и однообразные леса и сопки – та самая «тревожная таёжная краса», которую рисовало его воображение?
Петя был разочарован и, чтобы убить время, с полчаса изучал внутренности самолёта, хотя и тут ничего особенного – фюзеляж, иллюминаторы, откидные сиденья, пристежные ремни. Разве что при взгляде через открытую дверь кабины пилотов на штурвал, щиток приборов с множеством датчиков, выключателей и особенно лобовое стекло пахнуло киношной войной.
Однако стоило самолёту войти в ущелье, как тотчас выросла, чудесно преобразившись, тайга. Стремительно пролетев над промывочным полигоном, крышами старательского посёлка, самолёт завалился направо и, стремительно падая, приземлился.
Спрыгнув на землю, Петя с восхищением огляделся вокруг – всё казалось величественно первозданным. Кедры, сопки, скалы. Воздух был свеж. А бежавший вдоль взлётной полосы ручей какая-то исполинская сила умудрилась беспорядочно закидать огромными валунами.
Подошёл Федя-портач, пятидесятилетний тучный небритый мужик, и попросил помочь выгрузить из самолёта бочки с соляркой. Когда на их место загрузили пустые, самолёт улетел. Из подошедшего армейского вездехода (ГАЗ-66) пришлось выгружать пустые и загружать полные, и только после этого отправились в Покровское, в котором, судя по письмам брата, когда-то жили заключённые, а теперь старатели.
Старательский посёлок находился в полутора километрах от аэропорта и располагался на пологом склоне южной сопки. Выше всех, на отшибе, стоял дом ЗПК (золото-приёмной кассы), хотя никакой такой кассы там вовсе не было, а просто в отдельной комнатушке, с железными дверной и оконной решётками, «отдували», взвешивали и хранили в сейфе намытое золото. Там же находилась рация, налаживать которую Петя прилетел (радиоделу выучился по журналам «Радио» и «Моделист-конструктор»). На поляне перед ЗПК стояла железная печурка для отжига и отделения от ртути амальгамированного золота. Бараки располагались по обе стороны накатанной дороги. Окна с нагорной стороны вросли в землю. Внизу весело играла на ярком солнце рыбьей чешуёй Бирюса.
Полигон, где добывали золото, находился в семи километрах ниже посёлка. Петя уехал туда с обедом и, раздираемый любопытством, остался до вечера. Ходя по золотоносной земле, он внимательно приглядывался к изумрудным жилам – не блеснёт ли? Наивное, как узнал позже, любопытство: два-три грамма на куб считалось содержанием приличным, а было время, сказывал Лёня, грамм – на лоток, а земли в нём, что в совковой лопате.
Весь день светило солнце, ничего не предвещало беды, а к вечеру заволокло небо. Налетевший порывистый ветер прогнал вдоль посёлка облако пыли. Сверкнуло, раскатисто прогремев в отдалении раз, другой. Неожиданно стемнело. И с шумом, плотной непроницаемой стеной налетел дождь. И уже, ни на минуту не переставая, сверкало, гремело и лило как из ведра.
И весь вечер развалившийся на кровати в трико и рубашке нараспашку пожилой беззубый мониторщик без передыху вёл речи то о своих любовных похождениях, то о ручной промывке, практиковавшейся при Сталине и несколько лет после. Судя по его словам, в те времена в свободное от работы время можно было пробежаться с лотком по бортам отмытого полигона, добытое сдать за боны и в спецларьке набрать «жратвы и утешения».
– Ни тебе председателя, ни бухгалтера, ни маркшейдера, ни начальника участка, ни завбазой, с кучей прихлебателей, – намек в Петину сторону. – И ни от кого не зависим. Сдал – получил, и гуляй, Вася, жуй опилки, я начальник лесопилки! А то пол-артели начальства и шестерок, не сеют, не жнут, а за стаканом руку тянут.
Камни сыпались в Петин огород один за другим. И это понятно: с «материка», как называли старатели место вне тайги, он прибыл не по зимнику и даже не в начале промывочного сезона, как большинство, а прилетел «на фанере» (Ан-2) в середине сезона, а до этого, оказывается, всего лишь «ошивался на базе».
И что можно было на это сказать? Что его удерживал председатель, как единственного непьющего и, само собой, радиста, водителя, кочегара и прочую рабсилу, необходимую для поддержания в надлежащем виде базы? Что ему самому до скрежета зубовного надоело однообразие той жизни? Тяжелые двухсотлитровые железные бочки, например, которые приходилось каждый день заполнять с бензовоза соляркой, плотно, с паклей, чтобы не текли, закручивать пробки. Для проверки приходилось ронять их набок и подымать порою по нескольку раз, пока не убедишься, что сухо, иначе в аэропорту не примут. Готовить обед, мыть посуду, принимать радиосводку с обоих участков (второй был на Жайме), вести журнал учета добычи золота, ездить на грузовике за продуктами на продовольственную базу, в Алзамай за тракторными запчастями, отвозить поездами ежемесячный бухгалтерский отчёт в Красноярский комбинат, следить за пьяницей-бухгалтером, чтобы не напился, а для этого надо было быть неумолимым, как смерть, встречать с ночных поездов постоянно уезжавшего по делам председателя, слушаться его, как наказывала при прощании мать, то бишь не пить, не грубить, держать язык за зубами, быть себе на уме, лица не терять и родню свою не позорить – скучища невыносимая!
И за этим он ехал сюда? Длинный рубль – это конечно! Но что для него были деньги? Так… И следом за всеми при очередном разговоре Петя вворачивал старательскую байку, когда речь заходила о заработках: «Деньги мне и даром не нужны, лишь бы наработаться!» Смешно, конечно, однако была в этом и доля истины. Сколько их, этих каторжных тружеников было, судя по Лёнькиным рассказам, что спускали солидные суммы буквально за месяц, за полтора. Травили байку про легендарного Васю Халявкина, по возвращении домой нанимавшего на вокзале два такси и летевшего в родное село, куда отродясь никто, кроме него, на такси не езживал. На первой машине ехала его шляпа, на второй сам. Он привозил с собой рулон сукна, нанимал пьянчужек, двое расстилали перед ним рулон, остальные сопровождали его торжественное шествие с обеих сторон дорожки и хриплыми пропитыми голосами скандировали: «Да здравствует Вася Халявкин!» Разумеется, имелись в артели и мужики серьезные, как Лёня, например, женившийся, когда Петя служил в армии, и недавно купивший в черте города дом, в котором Петя ещё ни разу не был. Трудились бывшие зеки, ещё со сталинских времён осевшие в Сибири, боевые офицеры, всевозможные предатели и шпионы. Эти знали, зачем они тут. А зачем приехал сюда Петя? Если не за деньгами, тогда зачем? За романтикой? А что? Пожалуй.
И, краем уха слушая задевавшую самолюбие болтовню, Петя вновь и вновь переживал то впечатление, которое произвела на него сегодня тайга.
3
Проснулся от холода, соседа в комнате не оказалось, и в первую минуту Петя подумал, что тот специально его не разбудил, чтобы он проспал и ему за это влетело.
В ужасе глянув на ручные часы, с облегчением вздохнул, а затем, по-армейски быстро вскочив и одевшись, вышел на улицу.
Июльское утро больше походило на промозглую осень. Ещё вчера Петя отметил особенность высокогорного климата. Пока светило солнце, стояла тропическая жара, и все раздевались до плавок, но стоило набежать облаку – и без фуфайки не обойтись.
С неосознаваемой тревогой глянув на грязный бушующий поток поднявшейся метра на полтора Бирюсы, Петя направился к столовой, у входа в которую стоял вездеход. Напротив кухонной двери, на поляне, вокруг вожака, караулившего пустой таз, в ожидании выносимой поваром еды сидела стая лаек. На этих полудиких собак Петя ещё вчера обратил внимание. Когда им выносили еду, из таза сначала ел один вожак. Остальная свора, нетерпеливо поскуливая, сидела в ожидании. Но стоило вожаку отойти в сторону и лечь, стая тотчас кидалась к тазу, опрокидывала, и начиналась такая грызня, что на это было жутко глядеть.
Смена уже была в сборе, завтракали молча, на Петю если и смотрели, то как на пустое место, и это немного задевало его самолюбие. Один только Павел, кудрявый, на год старше Пети мониторщик, к тому же ещё и земляк, отнёсся к нему по-человечески. Тут же потеснился за столом, а вчера даже позволил поработать пушкой монитора, показал, как делать лотком пробы и по меленьким «значкам» определять, когда можно прекращать вскрышу и начинать промывку. И за вчерашний вечер Петя не раз пожалел, что не пошел ночевать к Павлу (звал же), тем более что Лёня работал в ночную смену. Виделись они вчера всего пару минут, когда Петя вернулся с полигона, а Лёня собирался на него уезжать. Пожали друг другу руки, перекинулись парой фраз, а затем до полуночи пришлось выслушивать хотя и косвенные, но всё же незаслуженные упрёки соседа по койке.
Дружески толкнув Петю плечом, Павел поинтересовался, как спалось, и стал делиться новостями. Оказывается, пришедший с полигона сварщик сообщил, что из-за лившего всю ночь дождя с какой-то «вскрыши» пришлось снять два бульдозера для укрепления верхней и нижней дамб и что обычным путём на полигон теперь не проехать.
Когда наконец выехали на окраину посёлка, широкую, от сопки до сопки, террасу с обеих сторон уже окружала река. Местами вода пробивалась через вершину перепускной дамбы – бульдозер едва успевал затыкать бреши. Казалось, ещё немного – и дамбу снесёт.
Машина притормозила, начальник участка, Михалыч, как его звали, высунув голову из окна двери, крикнул:
– Чей бульдозер?
– Наш с Зёмой! – отозвался коренастый мужик и уже поднялся, чтобы спрыгнуть с машины, но Михалыч остановил:
– Сиди! Всё равно к нему не подойти, на полигоне, если что, дождёшься. Недолго, видно, он тут навоюет.
Машина двинулась дальше, свернула направо и на полном газу пошла вдоль старого русла. Однако не миновали и половины пути, когда кто-то из впереди сидящих крикнул:
– Мужики, смотрите, вода прибывает! – и, поднявшись, захлопал по крыше кабины.
Машина остановилась.
– Чего хотят? – спросил кто-то.
– А чего хотеть? Назад ехать надо!
Однако машина свернула к реке, и тот же голос отчаянно крикнул:
– Ну всё, мужики, держись!
Широко лежащая между сопок терраса со времени последней промывки успела зарасти ивняком. Когда вездеход стало качать и подбрасывать на валунах, которыми было устлано дно, Петя понял, почему сказали «держись», и, встав вместе со всеми, обеими руками уцепился за борт.
Вода поднялась ещё.
Уже миновали середину, спасительный берег был в каких-нибудь четырёх метрах, когда двигатель, зацепив вентилятором воды, стал троить и заглох.
Кабину стало подтапливать.
Опустив окна, водитель с Михалычем перебрались в кузов.
Вода поднялась до железного борта и сквозь щели побежала по дну кузова.
Вся смена, семнадцать здоровых мужиков инстинктивно столпились у кабины – поближе к берегу.
Сквозь шум реки до слуха неожиданно донёсся отдалённый треск бульдозера, очевидно, работавшего на второй дамбе. От машины его скрывали кусты ивняка. Кто-то свистнул раз, другой, а кто-то даже крикнул, хотя все прекрасно понимали, что в работающем бульдозере не слышно даже собственного голоса. Надо было кому-то прыгать, это понимали все, но никто на это не решался: вниз жутко было смотреть.
Река меж тем напирала. Казалось, ещё немного и машину опрокинет.
Решение прыгнуть появилось у Пети стихийно. Стащив сапоги и растолкав впереди стоявших, он вскочил на крышу кабины, внутренне собрался и, поджав ноги, чтобы не удариться о подводные валуны, прыгнул.
Тело обожгло ледяной водой. Петя попробовал встать на ноги, но его тут же сбило течением и понесло. Однако буквально тут же он умудрился ухватиться за полоскавшийся в воде куст вербы, подтянулся и с трудом выкарабкался на берег. Отнесло шагов на двадцать.
С машины кинули сапоги. Дрожа от холода, Петя сгоряча подбежал к ним, схватил и вместе с ними уже сделал пару шагов, но тут же бросил и, презирая опасность порезать об осколки камней ноги, поспешил к бульдозеру.
Откатываясь назад, бульдозерист заметил разутого, мокрого Петю, сразу сообразил, в чём дело, и на полном газу погнал машину к берегу.
У реки оказались одновременно. Отмотали трос. Михалыч встал на узкий капот вездехода и, со второго раза поймав конец троса, накинул петлю на буксировочный крюк.
Бульдозерист натянул трос, потащил, и в ту же минуту вода пошла лавой, перехлестнув через борт, так что стоящим в кузове стало по пояс. Ещё бы чуть-чуть и машину перевернуло.
Когда вездеход вырвался из бушующей пучины на террасу, все попрыгали на землю и первое время оторопело смотрели, как несла и крутила обломки деревьев, кусты, мусор река. Точно бильярдные шары, катились по дну валуны. Кое-где вода полезла и на террасу, но это уже было не страшно.
Шофер, опрокинув кабину, занялся двигателем. Мужики стаскивали болотные сапоги, разматывали портянки, снимали и отжимали нижнее бельё. На Петю между делом сердито кричали, чтобы лез в бульдозер сушиться и греться, и по этому крику Петя понял, что отныне навсегда свой.
Машина так и не завелась и её вместо со сменой тем же бульдозером потащили к выносу Каташного, где находилась небольшая избушка с печуркой. Дорогой вели речи о том, что теперь отрезаны и от полигона, и от посёлка, по меньшей мере, до вечера, а то и до утра.
У выноса Каташного вода в Бирюсе бушевала, казалось, ещё сильнее.
Попытались было пробиться на ту сторону на бульдозере, но едва вошли в русло, вода стала хлестать через капот, многотонную громадину потащило. Включив задний ход, бульдозерист едва успел выгнать машину на берег. Пока не спадёт вода, нечего было и думать о переправе.
Обсушившись у печурки, Павел с Петей пошли смотреть старинное кладбище, находившееся десятью метрами выше на пологом выступе сопки, откуда был хорошо виден затопленный полигон. Паводком унесло сорокакубовую цистерну с соляркой. От мониторов остались на поверхности одни гусаки. А вот бульдозеры всё-таки успели загнать на отвалы. Возле одного из них собралась ночная смена.
Перекинувшись замечаниями по поводу творившегося на полигоне, Павел с Петей приступили к осмотру могил. Трудно сказать, какой они были глубины, скорее всего, неглубокими, поскольку почвы тут было совсем немного. Всё заросло травой. Вместо крестов на могилах лежали камни. На некоторых были высечены едва различимые фамилии, инициалы и годы захоронения. Все – от середины тридцатых и до конца сороковых годов. Если учесть «музейные экспонаты» в ЗПК (прикованные наручниками к железной тачке кисти рук, квадратный десятикилограммовый лом, которым в старину долбили коренные), без особенного труда можно было догадаться, кто они и как тут оказались. И Петя в очередной раз не упустил случая высказать своё мнение о столь вопиющей несправедливости:
– Что творили гады, а!
Павел согласно кивнул, а затем сказал, что у него самого дед репрессированный.
– За что?
– Гарнцевый хлеб голодающим колхозникам роздали. Разумеется, не весь и не всем, а понемногу, и только тем, у кого детей полна изба, а есть нечего, и они уже с голоду пухнуть начинали. Однако тут же нашлась бдительная колхозница, написала, куда следует, и деда вместе с остальными членами правления в расход. Бабушка тогда с семерыми, мал мала меньше, на руках осталась.
– Эх, Ленина бы на них поднять!
Павел с удивлением на Петю глянул:
– И что?
– Как это что! Да он бы их!..
– Кого – их, когда, сам, собственноручно всё это учредил?
– Ленин?!
– Ну не Иисус же Христос! Чего уставился? Вот ещё!.. В собрание сочинений его загляни. В пятидесятый том, например. Не помню, на какой странице, да у меня записано. Я когда про деда писать надумал, не только Ленина, но и Сталина собрания сочинений на эту тему полистал. В нашей совхозной библиотеке, под стеллажами обнаружил. С фотографиями. В Горках. На скамеечке. Вместе.
– Постой, постой… – остановил его Петя. – Со Сталиным дело ясное, Ленин, скажи, тут причём?
– А я тебе про что, садовая голова, толкую? Последовательный ленинец!
– Кто, Сталин?!
– Сталин! Все до одного завета исполнил! После декрета Совета Народных Комиссаров от пятого сентября восемнадцатого года, знаешь, чего твой Ленин писал? «Провести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». Вот тебе и будущие сталинские лагеря. А в мае двадцать второго – в сорок пятом томе уже – тогдашнему наркому юстиции пишет: «Товарищ Курский! По-моему, надо расширить применение расстрела…» И ещё есть. А ты – Ле-энин!
После идиллических представлений о Ленине слышать это Пете было просто дико. Ведь чуть ли не каждый день по радио пели: «Ленин в моей весне, в самом счастливом сне…», и в этом не было и тени сомнения, а тут… Петя почувствовал себя до глубины души оскорблённым.
– Ну, ты, Пашка, оказывается, и га-ад!..
И не желая более ничего слышать, пошёл прочь. Внутри у него, как и вокруг, клокотало. Ни одному слову, разумеется, он не поверил, и, спустившись вниз, всё не мог найти себе места, и то бродил вокруг избушки, а то подходил к бушующей реке.
Когда же увидел спускающегося вниз Павла, чтобы не видеть ставшую ненавистной рожу предателя, пошёл прочь по дороге, по которой недавно притащили к выносу Каташного армейский вездеход. Река по-прежнему бушевала, попутно затопляя террасу, и когда дорога ныряла в ложбину, приходилось идти по воде. Иногда вода перехлёстывала через верх подвернутых болотных сапог, но Петя даже не останавливался, чтобы её вылить.
«Это – Ленин-то, а, Ле-энин?! – продолжал кипеть он. – Ну не сволочь ли! Да лучше Ленина… Это же – Ле-энин! – И тотчас перед глазами вставала восторженная физиономия из фильма «Человек с ружьём», прищур знакомых по множеству портретов и фотографий глаз, бородка клинышком, лысина во всю голову, сокрушительный взмах коротенькой руки, и уже из самого детства, казалось, навеки запавшее в душу, что, как и Петя, «родился Ленин маленький с кудрявой головой» и тоже «бегал в валенках по горке ледяной»; броневик на Финляндском вокзале, завод Михельсона, гадина Каплан, Горки, скамеечка, «печник – душа живая», и всё-всё, но главное, потому он в глуши Симбирской родился, что «призрак коммунизма по Европе рыскал» – заря будущей счастливой жизни, значит. – А он!.. – Петя имел в виду Павла. – Ну, не гад ли? Да разве с такими построишь коммунизм?» Увы, всю свою сознательную жизнь Петя свято верил в это ожидаемое в недалёком будущем всеобъемлющее человеческое счастье, мало того, даже питал надежду, хотя бы немного, хотя бы на пенсии пожить при нём, а иначе какой тогда смысл жить?
Неизвестно сколько времени могло продолжаться его шествие, не прегради ему путь река. Дамбу, как и предполагали, снесло, и теперь посреди бушующего потока одиноко торчала кабина затопленного бульдозера.
Петя огляделся. «А бульдозерист где?» И тут же увидел у подножия сопки дымок. «Подойти?» От долгой ходьбы Петя немного пришёл в себя. «Ну, сказал и сказал, мало ли кто и чего скажет, не всему же верить?» Холодный ветер в одно мгновение выдул из-под лёгкой кофтёнки остатки тепла. «Хоть обсушусь малость!» И повернул на огонёк.
У костра в одних трусах и майке сидел мосластый мужичок лет пятидесяти. На кустах сушилась его одежда, портянки, рядом с костром лежали сапоги.
Услышав шаги, мужичок обернулся и обрадовано выдал:
– А-а, зё-ема!
– Какой я тебе зёма? – невесело усмехнулся Петя. – Откуда будешь?
– Отсюда, с Земли-и, – увесисто заявил тот. – А ты с Луны, что ли?
Вспомнив, как утром напарник назвал мужичка Зёмой, Петя опять невесело усмехнулся:
– Почти что. Зёма удивлённо тряхнул головой, пошурудил палкой в костре, щурясь от едкого дыма, предложил:
– Тушенку будешь, лунатик? И хлеб подсох… А ты что какой смурной?
– А! – махнул рукой Петя.
– Не хочешь, не говори – дело хозяйское. Присаживайсь, угощайсь.
Зёма склонился над костром, чтобы снять насаженный на прут хлеб, и в ту же минуту из его майки вывалился нательный крестик на чёрном шнурке. На шнурок Петя обратил внимание сразу, но никак не ожидал, что на нём окажется крестик. Спросил:
– Это чего у тебя?
– А-а, это? – Зёма возвратил крестик на место. – Так это. Для спокойствия души. Тайга, знаешь ли, это тебе не хухры-мухры.
– А причём тут тайга?
Зёма быстро на Петю глянул, уходя от вопроса, обронил опять:
– Ладно, ешь давай.
– Не скажешь, стало быть?
– А тебе это зачем?
– Сравнить, может, хочу.
– Чего, интересно, с чем?
– Коммунизм с раем.
– Ого!
– Я серьёзно, – не отступался Петя. – Вот скажи, только честно, ты веришь в рай?
– Допустим.
– А во что конкретно веришь, можешь сказать?
Зёма в раздумье покачал головой.
– Тебе? Вряд ли.
– То есть как это – вряд ли? При коммунизме что будет – известно конкретно. От каждого по способностям, каждому по потребностям. Дадут, например, квартиру, так каждому члену семьи отдельную комнату! Представляешь? Отде-эльную!
– И кому дали – тебе?
– Я для примера сказал! – сразу же завёлся Петя. – Мне не дали. И никогда, может, не дадут. Я для примера сказал.
– Ну, хорошо – дали, – согласился Зёма. – Дальше что?
– Как это что?
– Ну получил ты квартиру, а дальше что?
Петя мечтательно прищурил глаза.
– А захочу, на Луну полечу.
– Это ещё зачем?
– Так, – продолжал глупо улыбаться Петя, – прокатиться. Тогда – катайся, где хочешь! Хоть на Марс!
– А-а… – сообразил Зёма и, тряхнув головой на такое младенчество, почесал под мышкой. – Ну, хорошо, слетал ты на Луну, на Марс, на все остальные звёзды, а дальше что?
Петя насторожился.
– Ты это к чему клонишь?
– А к тому, парень, что рано или поздно всему придёт конец. Правильно я говорю?
С этим нельзя было не согласиться.
– Ну хорошо. А у тебя что за счастье?
– У меня? У меня, парень, бессмертьё! – внушительно заявил он, на что Петя, в свою очередь, презрительно усмехнулся:
– Это что-то вроде – и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра?..
– И что?
– Х-х! Скукота, вот что! Тысячу тысяч лет одно и то же!
Но Зёму, видимо, не так-то просто было переубедить. Неторопливо выкатив из костра банку с тушёнкой, он разломил на две части хлеб и, протянув большую половину «лунатику», как бы между прочим поинтересовался:
– Тебе сколько лет будет?
– Ну, двадцать, а что?
– Два-адцать… – прикинул Зёма. – Поди, уже невеста имеется?
– Причем тут… Ну, допустим, имеется, и что?
– Тебе с ней не скучно?
Не догадываясь, к чёму клонит, припоминая день знакомства с Варей, Петя признался:
– Скажешь тоже!
– Во-от. И там, парень, то же! – уважительно вознес указательный палец к небу Зёма. – Когда промеж людей любовь, скучно не бывает. А там любовь – всегда. И смерти нет. И все друг дружку уважают. Понял?
Он произнёс это с такой убеждённостью, что Петя даже подумал, а ведь он, может, по-своему прав. Так что во время обеда разговаривали только о вере, вернее, Зёма излагал свои незамысловатые представления о ней. Кое-что «из бабушкиных сказок» Петя уже слышал. Казалось бы, ничего нелепее и придумать нельзя, и если бы не увлечённость, с которою Зёма всё это излагал, Петя бы просто со смеху помер.
– Ну хорошо, – перебил он, видя, что разговора научного не получается, а лишь одни фантастические невообразимости. – Про Ленина что думаешь? – Трудно ему было вот так вот сразу взять и лишиться «всего».
– Мне что, делать больше нечего?
– Ну-у… а скажешь-то чего?
– А то и скажу, парень: по грехам нашим ещё и хужее бы надо, да, видно, у Бога хужее не нашлось!
Чего-чего, а этого Петя никак не ожидал. Ещё раз проглотив обиду, в отместку язвительно усмехнулся:
– Стало быть, всё сгорит?
– Можешь не сомневаться.
– Когда?
– Возьми да спроси.
– У кого?
– У Самого! – И Зёма вновь воздел указательный палец к небу.
– Как это я у Него спрошу? – удивился Петя, но ещё больше удивился ответу:
– А не знаешь, парень, как, так помалкивай.
Когда высохли сапоги и портянки, Петя обулся и, попрощавшись с мудрёным мужичком, направился вдоль берега в сторону посёлка, который находился за бушующей рекой и куда решил не возвращаться, а, добравшись до аэропорта, первым рейсом улететь на базу.
Пробираясь по склону сопки, Петя невольно думал о недавнем разговоре.
«Ад, рай», – вертелось в его голове. Всё это походило на сказку. Певала её не раз и бабка Елизавета Матвеевна. Но как всему этому верить? Это после астрономии-то представить, что где-то там, в безвоздушном пространстве, при минус триста, в бездонной галактике, среди звёзд, комет и созвездий благоухает райский сад, в котором живут «святые человеки», а внутри земли течёт огненная река, в которой стонут обугленные, как головёшки, «греховодники», а рогатые и хвостатые черти поддевают их баграми и швыряют в котлы с расплавленной смолой? Чушь!
Нет, думал Петя, ад и рай, если они всё же имеются, это, видимо, что-то другое. Это когда что-то хорошее или плохое происходит здесь, на земле. Хорошее – это когда бабушка цедит в крынку молоко, а в окно на её натруженные руки падает яркий сноп света, и стол и пол выскоблены добела, вымыто и вычищено в избе всё, из побелённой печи по всему дому растекается запах куличей, в глиняной плошке на столе крашенные луковой шелухой яйца, всё готово, по уверению бабушки, к встрече «дорогого Гостя». А плохое – это когда тонешь во сне, рвёшься, рвёшься и никак не можешь вырваться из неумолимой пучины…
Да, но тогда зачем он здесь, не в тайге, а вообще, и люди на земле появились для какой цели?
Петя остановился. Тяжёлые серые тучи ползли по верху противоположной сопки, топя в непроглядной мути вершину, посёлок, Бирю-су, которая ещё совсем недавно казалась зловещей, а теперь едва слышно шумела на перекатах, унося свои воды в море, как неумолимое время уносило дни Петиной жизни в прикрытую тайной вечность.
4
Когда наконец добрался до аэропорта, за избушкой Феди-портача, у ручья, увидел Варю. За шумом воды она не слышала, как он подошёл, и даже от неожиданности вздрогнула, когда Петя поздоровался.
Прошла минута, другая, однако после всего что произошло, Петя не находил слов для разговора. Самолёт должен был вот-вот прилететь специальным рейсом, чтобы забрать намытое за неделю золото, которое доставили в аэропорт на бульдозере, тарахтевшем неподалёку. На бульдозере, видимо, переправилась через Бирюсу и Варя. А раз везут золото, стало быть, и Пете послезавтра надо будет везти бухгалтерский отчёт в Красноярск, так что его исчезновение с полигона, кроме, пожалуй, Павла, будет понято правильно. Но в этом ли дело? Он тут, на земле в смысле, зачем? И старательство его всё-таки что – работа, романтика, судьба? Судя по уверению Зёмы – судьба. И в чём тогда она заключается?
А затем прилетел самолёт. И весь полуторачасовой путь до Нижнеудинска, когда Петя отводил от иллюминатора глаза, Варя краешком губ как-то особенно осторожно и поэтому очень обидно улыбалась ему. Не принимал он её улыбки, не отвечал на неё. Конечно, и внутренняя смута была тому причиной, но более – врождённое упрямство: уж если упрётся, так тут хоть атомная война.
На этот раз ехали на автобусе, через центр, и сошли у вокзала. И так же, ни слова не говоря, Петя проводил Варю до дома. И таким же печальным был его взгляд. Варя даже вздохнула, мило склонив голову набок. Петя сказал «до свидания» и до поворота не обернулся – выдержал характер. Из-за угла, правда, украдкой глянул, но Вари уже не было у калитки. И чего бы ей стоять? Кто он ей? Нет, определённо, не позавидуешь его жене в старости! Ему бабушка Елизавета Матвеевна не раз об этом говорила. И всю дорогу до базы Петя казнил себя за то, что так бесчеловечно обошёлся с Варей. Она в чём виновата? И решил после работы сходить извиниться, а то и в самом деле, что она может подумать?
На базе в его отсутствие произошло ЧП: Сашка-бухгалтер, как уничижительно называл его председатель, за имя и отчество прозванный Пушкиным (сколько ему было на самом деле, Петя не знал, а на вид не меньше шестьдесяти), уныло слонялся по засыпанному щебёнкой двору и нервно курил. По его виду не трудно было догадаться, что он уже хватил и теперь соображал, где бы достать ещё. И это было именно так, потому как, увидев Петю, он, как к последней надежде, обратился к нему даже по имени-отчеству:
– Пётр Григорич, выручай!
– Александр Сергеич, ну где я вам возьму?
– У Верки. Тебе даст. До получки, скажи.
– До какой? До конца сезона, что ли? Ну вы даёте! А спросит – зачем?
– Соври чего-нибудь.
– Чего, например?
– Мне, что ли, тебя учить?
– Кому же? Я таким вещам не обучен.
– Петька, на колени перед тобой стану! Всю жизнь за тебя буду Бога молить!
– За то что я вам в тартарары попасть помогаю?
– Какие ещё тарары? Так это я про молитву – вообще! Думать, значит, про тебя всю оставшуюся жизнь буду, как о самом хорошем человеке, понял?
– Понял. В таком случае… в таком случае, думайте обо мне что хотите, а я не пойду.
– У тебя что, совести нет?
– Не-а.
– Это, значит, вот так, да? Значит, помирай человек, а тебе хоть бы хны? И это, по-твоему, хорошо?
– Нормально.
– Ну ты и!..
И, плюнув на землю, Александр Сергеевич зашагал к дому. Оставленные председателем на пропитание продукты (тушёнку, сгущёнку) он, видимо, уже продал и пропил, он бы и ещё продал и пропил, да, видимо, было нечего.
«Всё равно не пойду!» – глянув ему вслед, решил Петя и отправился в деревянный, с тремя большими воротами, гараж.
Вечером вместо «Верки», Веры Ивановны, соседки-уборщицы, к которой посылал его бухгалтер, пришла её дочь Надя, с Петиным появлением частенько подменявшая мать. Была Надя на два года моложе Пети, так себе, не нравилась, в общем, но по всему видно, очень ей этого хотелось. И глазки-то она ему строила, и кокетничала-то с ним, и Сашка-бухгалтер попихивал его в бок, гляди, мол, гляди, но Петя на это не реагировал. И ещё одна, на год этой моложе, из дома напротив, строила ему глазки, даже радиолу один раз пригласила чинить. Петя пришёл, починил и ушёл. «И дома никого не было? – допрашивал его по возвращении Александр Сергеевич. – И ты, значит, починил эту хреновину и сразу назад? Ну, ты даё-ошь!» – «А чего я, по-вашему, должен был ещё сделать, на цырлы, что ли, перед нею встать?» – «Ну ка-ак! Прижал бы! Ишь, как она на тебя смотрит! Ишь, как глазищами-то стреляет!» – «А если она мне не нравится?» – «Тьфу ты, дурак!» – «Не-э, Александр Сергеич, я сро-оду так!» И это всё, что касалось соблазнов, так что Надино появление ничего не могло для него значить. К сожалению, она этого понимать не хотела, а Петя не знал, как объяснить.
И когда, добравшись до его комнаты со шваброй, Надя в очередной раз предложила пойти на танцы, Петя, разумеется, отказался.
– А в кино? – не отступалась она. – «Анжелика – маркиза ангелов»!
– Маркиза кого?
– Ангелов.
– Надь, ты хоть знаешь, кто такие ангелы?
– Ну-у, там где-то – на небе… – неуверенно отозвалась она.
– И не только, кстати, но и рядом с каждым из нас. – И Петя принялся объяснять зёмиными словами: – Ты, к примеру, сделала доброе дело, а они уже докладывают: «Ваше Величество, Надя нынче доброе дело сделала». И в копилочку его, на будущее, значит. А там, глядишь, и выложат на весы.
– На какие ещё весы?
– Правосудия, Надя, имеются, между прочим, и такие. Предстанешь ты на суд, их и вынесут: на одну чашу добрые дела положат, на другую – плохие. Тоже, кстати, пишутся.
– Кем?
– Да бесами же, ну, кем же ещё! Так что не ходи, Надя, в кино, не ходи, Надя, на танцы, не то в преисподнюю попадёшь.
– В какую ещё преисподнюю?
– В какую, в какую… А ну, закрой глаза! Ну, закрой, закрой! – Надя зажмурилась. – Чего видишь?
– Звёзды!
– Врёшь! Ничего не видишь!
– Нет, вижу! – из вредности возразила она. – Ой, а красоти-ища-то ка-ка-ая!
– Ага, будет тебе красотища, когда пятки подпалят!
Надя открыла карие, с подкрашенными ресницами, глаза, удивлённо на Петю глянула.
– За что-о?
– А не ходи, Надя, в кино, не ходи, Надя, на танцы!
– Петь, ты, случаем, не сектант?
– Я?.. – и, сообразив наконец, что уж больно рьяно взялся, Петя тут же отпятился назад: – Ладно, так это я. Шутка, в общем. – И уж совсем некстати поинтересовался: – Слышь, Надь, а ты Ленина уважаешь?
– Ещё бы!
– А за что ты его уважаешь?
– За всё!
– Что значит за всё? За всё хорошее и за три года вперёд? Ты конкретно скажи.
Надя прищурилась, подозрительно на Петю глянула.
– Тебе это зачем?
– Если спрашиваю, значит, надо!
Надя хмыкнула, пожала плечами, задумалась, мечтательно завела под лоб глаза.
– За то… за то, что он самый умный и добрый на свете – вот! Это и по портрету видно. В букваре, помнишь, портрет был?
– И что?
– Так по нему одному всё видно.
– Надь, а ты про массовые расстрелы что-нибудь слышала? Представляешь, говорят, оказывается, Ленин был их организатором, а также будущих лагерей?
У Нади даже глаза округлились.
– Ты что – совсем?..
И Петя сразу стал оправдываться:
– Вот и я ему: да быть, говорю, этого не может! А он!..
– Кто?
– Да гад там один в тайге! Я ему: «Ленин?!» А он мне вот это вот – представляешь?
Надя, недолго думая, выдала с комсомольской суровостью на лице:
– Семену Ивановичу надо доложить!
– Председатель причём?
– Выгонит!
– За что, Надя? Мало ли кто, кому и чего скажет, сперва докажи.
– Всё равно надо сказать. Или в милицию заявить.
– Ещё милиции тут не хватало! И потом, Ленину от этого ни хуже, ни лучше. Ну а мы с тобой как-нибудь переживём. Переживём, Надя, переживём!
Чего не сделаешь ради зазнобы? И Надя уступила:
– Как знаешь… Ну так идём в кино?
– Не-а.
– На базе опять весь вечер сидеть будешь?
– Почему… На свидание пойду.
Надя недоверчиво на него глянула.
– Можно подумать. Ещё скажи, жениться собрался.
– Почему бы и нет?
– Да-аже? И на ком это, интересно? Я её знаю?
– Не знаешь.
Разумеется, Надя не поверила.
– Петь, ну пойдём, а? Ну пожа-алуйста.
– Ни за сто!
– Противный!
5
Александра Сергеевича Петя так бы и не пожалел, но поскольку предстоял выход за территорию базы, на случай внезапного появления председателя надо было заручиться поддержкой, а то скажет, самовольно ушёл, и выкручивайся потом. Нет, с этим делом у них не шутили, сезон есть сезон, а поскольку всем шли одинаковые трудодни, от каждого требовали максимальной отдачи в работе, и если видели, что филонишь, сажали «на фанеру» и отправляли «на материк – к бабе». Александр Сергеевич это прекрасно знал и не упустил случая воспользоваться, когда Петя после восьми стал наряжаться.
– Далеко ли собрался?
– Да я ненадолго.
– Это неважно. Права не имеешь в отсутствие председателя без моего разрешения за территорию базы выходить.
– Это с какого же бодуна?
– Кто из нас старше?
Деваться было некуда, и Петя сдался:
– Ладно. Сколько надо?
– Вот это – другой разговор! – сразу сделался шелковым Александр Сергеевич. – А то – «думайте, что хоти-ите!» Общественное мнение, между прочим, многое в нашей жизни значит! Ты, Петя, это запомни и впредь им никогда не пренебрегай. А вдруг бы я помер? А? Что? Думай прежде всего, Петя, о человеке, и тогда человек подумает о тебе! Понял?
– Понял. Сколько?
Поскрябав прокуренными ногтями щетину, Александр Сергеевич велел занять «на два пузыря».
По невразумительному Петиному бормотанию соседка сразу догадалась, откуда ветер, но денег дала, поскольку сама была не прочь залучить Петю в зятья, даже поинтересовалась на прощанье:
– Почему в кино не пошёл?
– Я сюда не за тем приехал.
– Смотри, какой деловой!
За водкой пришлось ехать на грузовике в ресторан, где им по знакомству отпускали в любое время суток.
Только после того как Александр Сергеевич оказался на небе, Петя без опасения мог ходить по земле.
Солнце только что село за далёкие крыши пристанционных домов, и теперь по всему горизонту широко разливалось зарево пожара. С болота поднялась голодная мошкара и всю дорогу вилась вокруг нудным облачком.
Варю вынесло на крыльцо, стоило Пете отворить калитку. Была Варя в светлом платьице с длинным рукавом.
– Смотрю в окно – ты!
И столько радости было на её лице!
– Ну и дурак же я, Варь, а! Прости! – с ходу выдал Петя.
– Ладно, проехали…
– Тогда, может, прошвырнёмся?
– Прогуляемся, в смысле?
– Ну да.
– А который час?
Петя глянул на ручные часы.
– Десять минут десятого.
– Ну что, до десяти можно.
– Как до десяти? – удивился Петя, и Варя сразу стала оправдываться:
– Ну я же маленькая ещё. А на крылечке и до половины одиннадцатого посидеть можно.
Давай лучше на крылечке посидим? Ну а чего по улице шататься? Подумают ещё…
– Кто-о?
– Все.
– Да чего подумают-то?
– Ну как… Я же в школе ещё учусь. Не стыдно, скажут?
– А тебе стыдно.
Варя виновато вздохнула и призналась:
– Угу… Но ведь мы же ничего, правда, просто дружим?
«Дружим! – усмехнулся про себя Петя. – Вот детсад!» Хотя и сам был не больше искушён в жизни – деревня, армия, тайга…
– Ну, на крыльце так на крыльце.
– Тогда я схожу за альбомом?
– Валяй.
Варя стрелой унеслась в дом, буквально тут же, сломя голову, словно боясь, как бы он не ушёл в её отсутствие, вернулась обратно, опустилась на ступеньку и, положив альбом на колени, приглашающе глянула снизу вверх.
Петя снисходительно улыбнулся и, чувствуя себя младенцем, опустился рядом. Поскольку никого, кроме бабушки, он больше не видел, фотографии разглядывал с любопытством. Варя по-детски быстро сначала (пока он не сделал замечание) листала и, мило тыча пальчиком, комментировала:
– Это бабушка молодая. Это папа молодой. Это мама молодая… Правда, мы с ней похожи?
– Ну-каси…
На чёрно-белой (остальные, кстати, были такими же) фотографии была если не красавица, то довольно миловидная девушка в соломенной шляпке, в светлом летнем платье. Года через два сходство было бы просто удивительным. Петя даже как-то иначе после этого на Варю глянул. Она стеснительно от его взгляда ускользнула.
– Правда, похожи?
– Почти одно лицо.
– А мама… правда, красивая?
И замерла в ожидании ответа.
– Ну, я бы первый втюрился!
– Ну и словечки.
– Ну, влюбился… – и, перелистнув очередную страницу, спросил: – А это кто?
– Катя. Сестра старшая. Да не смотри – нет её дома. В Самару уехала. Ещё весной. Ну, в Куйбышев, не понимаешь, что ли? Папа у нас все города по-старому называет, а бабушка по-новому. Он за старые названия, она за новые.
– И чего ей в этой Самаре?
– В медицинский институт поступает. И я тоже хочу врачом стать, как бабушка с мамой.
– А почему именно в Самару?
– Дедушка с бабушкой там у нас. И мы… Ну, это… в общем… Да! А правда, мы с Катей ни капли не похожи?
– Ну-каси, – и, внимательнее всмотревшись в заносчивое лицо, заключил: – Земля и небо. А тоже – краси-ивая! – И наклонился, чтобы получше разглядеть, но Варя ревниво перелистнула страницу.
– А это наша Пашенька. – И по тому, как она это произнесла, Петя догадался, что все её в семье любят. – Двенадцать ей. Там она. На метеостанции.
– А это кто?
– Ваня Мартемьянов. Пашенькин одноклассник. Бабушкиного брата единственный внук. Знаешь, какой у бабушки брат большой начальник!.. А Ваня круглый отличник. Голова! Не то в МГУ, не то в МГИМО поступать собирается.
– И что за начальник его дедушка? Мы тут, считай, всех начальников знаем.
– Ну… этот… большой, в общем, – уклонилась она от прямого ответа. – Смотри. Это – Катя в шесть лет, а это – Пашенька в те же годы. Правда – почти одно лицо? Только она у нас такая… такая… – Но так и не подобрала определения и перешла на очередное фото: – А это мы с мамой. Думаешь, сколько мне здесь?
– Года полтора?
– Четыре месяца.
– Ух ты, плюшка какая!
– Да-а, такая вот я плюшечка была!.. А ты в армии кем был?
– Командиром орудия.
– Пушки? Настоящей?
– Самой что ни на есть. И даже стрелял из неё. Честное пионерское! Шестнадцать раз. Как жахнет – того и гляди, перепонки лопнут. Серьёзно. Нам даже рот полагалось открывать. На войне, говорят, артиллеристы постоянно палки между зубов зажимали, а иначе хана. Забыл рот открыть – и сразу кровь из ушей.
– О-ой… И страшно?
– Стрелять? Не-э. Непривычно сначала, а так ничего.
– Ну а служил-то где?
– В Германии. Округ там есть такой – Галле…
А часть находилась за высокой каменной стеной, и сразу за стеной, через дорогу, начиналась окраина занятого химической промышленностью старинного немецкого городка Мерзебурга – идеальная чистота мощёных улиц, сложенные из тёсаного камня с готическими черепичными крышами особняки, утопающие в виноградниках великолепные усадьбы.
Однажды Петя с Толиком Копыловым (тем самым, из-за которого Ленина увидеть не удалось) даже попали на немецкую свадьбу. Ушли после отбоя в самоволку в гаштэт за пивом и, проходя мимо одной из старинных усадеб, засмотрелись на свадебное застолье, устроенное под оплетённым виноградной лозой навесом. Их сразу заметили, пригласили, налили по стакану отвратительной немецкой водки, называвшейся «Тройкой», и с восторгом наблюдали, как они их мгновенно осушили. Когда же предложили «етшо», они, разумеется, не отказались. А потом едва унесли ноги от бдительно патруля, вычислившего их по «Не слышны в саду даже шорохи…». Уж больно нравилась «гансам» эта песенка, вот они сдуру, без акцента, без маскировки, значит, и затянули.
Часть тут же подняли по тревоге, выстроили на плацу и каждого заставляли дышать командиру в лицо, и они бы с Толиком непременно попались, но чего не пришло в голову командованию, так это поднять по тревоге карантин, новобранцев, которых они готовили к присяге.
– Ой, как интере-эсно! А расскажи ещё чего-нибудь.
И Петя стал рассказывать о последних внеплановых учениях, на которые их подняли ночью по тревоге. Было это зимой не зимой, в Германии же почти нет зим, больше они напоминали промозглую осень с нудной изморосью, заморозками по утрам в горах и высокогорьях и вечной слякотью в долинах. Такой неизменно вечный серый цвет и свет и всё вокруг. Даже мысли порою казались серыми и тоска по дому тоже. Тем более – ночная тревога, хотя, пожалуй, представлялась она уже не серой, а чёрной, как пронизанная промозглой влагой ночь, скрывшая под непроглядным покровом оставшийся позади городишко, речку, угадываемую по всплеску волн. Даже отвесная скала от обледеневшей за ночь дороги, которую безуспешно скребли установленные у подножия грунтозацепы тягачей их тяжёлой артиллерии, ничем не отличалась, если встать посередине, от зиявшей слева пропасти. Когда тягач, не справляясь с тяжёлой гаубицей, сползал на край обрыва, расчеты пулей выскакивали из кабины и шли впереди тягачей. И всё это с полной маскировкой, без света фар. Потом долго стояли. Может, и недолго по времени, но уж очень нудно от неизвестности.
Наконец, после небольшого движения вперёд, свернули на другую, более пологую и безопасную дорогу и за час до рассвета выскочили на широкое плато. С ходу заняли позицию. Тягачи отогнали под прикрытие вековых сосен Тюрингии, на край ущелья, на дне которого под утро различили серую ленточку ползущего на враждебный Запад шоссе. Впервые боевые снаряды были выгружены из тягачей. К чему бы это? Все многозначительно переглянулись.
Когда же едва начал брезжить свет, открывая чуждые просторы с лесами и перелесками, насыщенный влагой воздух прорезал голос взводного:
– Батарея, к бою!
– Расчёт, к орудию! – отдал команду Петя и, как заводной, стал повторять один за другим приказания командира: – Прицел 153! Заряд первый! Осколочным! Огонь!
– Выстрел!
И с каким-то отчаянным озорством наводчик дёрнул ручку спуска.
Солидно ухнув, орудие слегка осело на круглом поддоне. Мокрый снег брызнул на бруствер неглубокого окопа. Уши сдавило мощной струёй, на мгновение Петя оглох, но тут же вновь, с каким-то всё разбирающим азартом, следом за взводным повторял:
– Прицел 162! Заряд первый! Осколочным! Три снаряда беглым! Огонь!
– Выстрел!
– Готово! – докладывал заряжающий.
– Огонь! – ревел Петя.
– Выстрел! – играючи отзывался наводчик.
И по одному этому уже было понятно, что ни пяди земли они врагу не уступили бы ни за что и никогда.
После третьего снаряда дали поправку. И уже вся батарея, начиная с первого орудия, заухала по очереди, как настоящей войне.
Затем дали команду:
– Отбой! Расчёты за орудия!
И тут все увидели, как из-за осиновой рощи, справа от батареи, показались наши танки, красиво, с ходу, развернулись в боевой порядок и, стреляя на ходу, пошли по направлению далёкого леса, куда минуту назад один за другим, с воем, стремительными точками улетали с батареи снаряды и падали, сотрясая под ногами землю.
Вскоре вслед за танками снялись с позиции они и потащились по грязной, взрытой гусеницами колее. Куда, зачем? Никто этого не знал. Знали только, что в той стороне ФРГ, что до границы рукой подать, но сознание до того притупилось и от бессонной ночи, и от усталости, а после холода в тягаче было так тепло, что об опасности не думалось вовсе.
Выяснилось позже, что подняли их по тревоге из-за выдвинувшихся к границе для учений войск НАТО. Откуда знать, что у тех на уме? Надо было выставить свой заслон или, как говорит стратегия войны, первый эшелон – на час, на полтора, не больше…
– И что потом? – спросила Варя.
– Сравняли бы с землёй. Честное октябрятское! Но как ты тогда бабушке сказала – слава Богу? Ну вот, и обошлось. Её, Кстати, как зовут?
– Бабушку? Женя.
– А по батюшке?
– Максимовна. Они с дедушкой на Халхин-Голе в прифронтовом госпитале познакомились. Бабушка после медицинского института самому Ахутину, профессору знаменитому, в госпитале ассистировала. Дедушка с ранением лежал. Бабушка его выходила, и они поженились. Не так, как обычно, а так…
– Как?
– Ну та-ак, не понимаешь, что ли? – вспыхнула как маков цвет Варя. – А через девять месяцев мама родилась.
– У кого?
– Что – у кого?
– Мама родилась.
– Не у бегемота же!
– А у кого?
– Нарочно, да?
– Я больше не буду.
Петя виновато склонил голову, и Варя его тут же простила.
– Маме чуть больше года было, когда на дедушку похоронка пришла. Можно сказать, почти не жили. И замуж бабушка больше не выходила. Не за кого, говорит, да и не до того было, сначала война, потом… всех женихов, в общем, на войне поубивало, да и перестарок, говорит, я после войны была, да ещё с ребёнком, да ещё военврач, всю войну по госпиталям, да и после войны всё время на должностях. И теперь в поликлинике принимает. Каждый год говорит, последний год, а сама работает. Так за войну, говорит, знаешь, сколько девок повырастало? А мужиков, по пальцам перечесть. На инвалидах, говорит, и тех по пяти штук висло. Ну а мне, говорит, майору в отставке, на мужиках виснуть вроде не к лицу, да и претило, говорит, так, без любви. Ванюшу своего, видно, сильно любила. Такая, говорит, выходит, я дура. Для бабушки любовь – всё!.. Знаешь, чего она про тебя сказала?
– Чего?
Варя предупредительно улыбнулась и нерешительно выговорила:
– Такой же, говорит, видно, бешеный, как мой Иван.
– Чевой-то я бешеный? – обиделся Петя.
– Это в хорошем смысле! – поторопилась заверить Варя. – Такой же, значит, простой и весёлый!
– А-а… Ну это да, – согласился Петя. – А чего грустить?
– И столько всего повидал! И что, вот так все два года – уче-эния, трево-оги, да?
– Зачем… Знаешь, сколько я там книжек прочитал? Море!
И это было «голимой» правдой. Под конец службы от скуки Петя, можно сказать, помешался на книжках. Начав с Вальтера Скотта, затем с таким же захватывающим интересом проглотил всего Фенимора Купера. Не только собрания сочинений этих писателей украшали их армейскую библиотеку, были там и Шекспир, и Стендаль, и Бальзак, и Диккенс, и «даже какой-то Арагон». Отечественная классика вообще была представлена в полном объёме, но к ней поначалу не тянуло. Ну чего там могло быть интересного после Вальтера Скотта или Фенимора Купера? Несжатые полоски, шинели, носы, премудрые пескари, «зеркало русской революции», «что делать», «сны Веры Павловны», палаты «номер шесть», Иудушки Головлёвы – «короче, мрак непроходимый»… Но когда, из чистого любопытства, заглянул в Достоевского (в серенький, словно только что из типографии полученный десятитомник), уже не мог понять, почему в школе от всего этого воротило? Что ни возьми – «Бесов», «Подростка», «Идиота», «Братьев Карамазовых», да хоть то же «Преступление и наказание», – даже если судить по одному интересу, это какое же захватывающее чтение!
И Петя стал перечислять названия прочитанных книг. И тут выходил умнее Вари.
– А расскажи… Ну-у хотя бы про этого идиота. Что, прямо настоящий идиот?
– То-то и есть, что нет. Идиот этот – всем идиотам идиот! Короче, умный придурок. Ей-Богу! Не то, чтобы себе на уме… В общем, дурак, но хитрый… И почти все от него без ума: и генеральская дочка, и красавица ещё одна, и сама генеральша – ну все… А идиот этот, Мышкин его фамилия, князь, так я вообще валяюсь… Представляешь? Обеих любит и на обеих жениться собрался. То за одной, то за другой ухлёстывает. Одной письма пишет, другой в любви объясняется. Я, говорит, ваши глаза во сне видел… Так и не поделили его. Ни той и ни другой не достался. И конец страшный.
– Какой?
– Купец там одни был. К красавице этой идиота всё ревновал… Заре-эзал.
– К… кого? Этого?
– Не-э. Красавицу. И князю же всё и расскажи. Так он от переживания опять с катушек съехал. Он же до этого настоящим дурачком был. В Швейцарии лечился. Вылечили вроде. Ну он в Питер и полетел. В новую жизнь, значит. Ан не тут-то было. Короче, опять шарики за ролики заехали, и его назад в Швейцарию лечиться отправили. Грустный, в общем, конец, не как в сказке. У Достоевского все книжки плохо кончаются.
– И чего тут интересного?
– А ты возьми и прочти, тогда сама увидишь. Оторваться невозможно. Я больше никого так запойно не читал.
– Ладно. Завтра же в библиотеке возьму. Так прямо и называются – «Идиот», «Бесы»?
– Так и называются.
– А «Бесы» про что?
– Про бесов.
– Настоящих?!
– Да настоящие что воздух, ну! А эти… А пожалуй, похлеще настоящих будут!
– И интересно?
– За уши не оттащишь!
– Врёшь!
– Ну, честное коммунистическое!
– Ва-аря-а!
– Да, бабуль, иду!
И, одновременно вздохнув, они поднялись.
– Чуть не забыл! Когда назад полетишь?
– Послезавтра хотела. А что?
– Ну послезавтра, так послезавтра… Просто завтра мне в Красноярск с отчётом ехать. И когда теперь?
– Увидимся? Даже не знаю.
– Ну а письмецо-то можно накатать?
– Даже не знаю… Давай я сначала у папы с мамой спрошу?
– Д-а-а…
И Варя опять стала оправдываться:
– Ну я же ещё ма-аленькая.
– Тады не узоруй, мотри! – пригрозил Петя пальцем. – Папу с мамой слушайся. Не то серому волку скормят. Боишься серого волка?
Варя озорно-испуганно округлила глазки.
– Ага-а!
– Тады – ой! Покеда, значит!
– Нет, прощай – лучше.
– Это почему же?
– Мало ли что.
– Что?
– Ну мало ли что.
– Да что?
– Ну мало ли…
– Ну тады – прощай! Целоваться, как, будем или нет?
Варя испуганно затрясла головой, попятилась назад и мгновенно скрылась за дверью. Но тут же выглянула в щёлку.
– Да не боись, не буду! – заверил Петя. – У папы с мамой разрешения спросишь, а там и начнём!
– До свадьбы?!
– В щечку-то?
– Ни в куда! Женишься и целуй тогда!
– А-а, тогда, значит, всё-таки будет можно! Ну, спаси-ибо!.. А с другими можно пока – для тренировки?
Молчок.
– С другими, спрашиваю, можно или нет?
– А тебе так уж очень хочется?
– Ещё бы!
– Ну и иди тогда!
За дверью послышалось хлюпанье носа.
– Да пошутил я, ну, пошутил! – поспешил заверить Петя. – До революции вон вообще до свадьбы не целовались. Только ручку… А ручку, кстати, можно цаломкнуть? – осенило его.
После непродолжительной паузы из щели неуверенно высунулась худенькая детская рука. Петя осторожно взял, наклонился и для смеха звучно чмокнул. Рука тут же юркнула назад.
– Доволен теперь?
– Ещё бы! Всю ночь буду не спать!
– И чего будешь делать?
– О тебе думать. А ты?
Дверь приотворилась, на Петю устремились восторженные Варины глаза.
– И я! – выдохнула она с чувством и с шумом захлопнула дверь.
6
Вода в Бирюсе спала к шести вечера, и весь оставшийся световой день бригады приводили в порядок полигон. О возобновлении промывки до восстановления перепускных дамб, устройства новых водозаборников, съёмки заиленных шлюзов не могло быть и речи, а потому, когда стемнело, произвели внеплановую пересмену.
Перед ужином вместе со всеми намёрзшимися за день Павел сходил в баню, которую топили ежедневно, и, посвежевший, в половине одиннадцатого по обычному ночному холодку поднимался в гору.
Свежесть звёздной июньской ночи напомнила то бесшабашное время, когда они, допризывники, втроём – Вовка Каплючкин, Сашка Муратов и он, – пропустив тайком от родителей четвёрку водки на троих, шли из своего пригородного совхоза «Доскино» высоким берегом Вьюновки в Гавриловку на танцы и от телячьего восторга, переполнявшего их в унисон бьющиеся сердца, ревели во тьму непроглядной осенней ночи: «Червону руту, не шукай вечорамы, ты у мэне едина, тильки ты, повирь…»
Вьюновка незримо петляла под обрывом. Начиная от Третьего дуба – а были на пути и Первый, и Второй, – чёрным тревожным провалом зиял Ипяковский лес.
И хотя ни у кого из них не было ни «тильки единой», а никакой вообще даже там, куда шли, груди их распирало от невыразимого человеческим языком счастья, а зачуханный деревянный гавриловский клуб, каждую субботу и воскресенье из простого кинозала посредством растаскивания по сторонам рядов кресел превращаемый в танцевальный зал, хотя ничем и не отличался от таких же обшарпанных, заплёванных, заваленных окурками, пустыми и битыми о несогласные головы бутылками, а порою и естественными человеческими испражнениями, казался самым необыкновенным местом на свете.
Ну где ещё можно было вот так, бесконтрольно, часок-другой побыть в абсолютной, хотя бы и поросячьей и ни на что человеческое не похожей, но свободе?
Но не только это напомнила тишина звёздной ночи, но и то, что долгое время казалось в жизни главным.
Когда же «это» с ним началось – не по-детски, по-настоящему? Да и по-настоящему ли? И хотя и до армии, и всю службу, не переставая, писал, недавний провал с поступлением в Литературный институт значительно опустил крылья. А может, и нет, и никогда не было у него таланта? Мало ли что говорит Шарова, печатавшая в районной газете «Автозаводец» всё, что выходило из-под его пера, – заметки, зарисовки и наконец рассказ. Публикация рассказа, догнавшая в учебке и принесшая столько ни с чем не сравнимых минут счастья, очевидно, тоже ещё ни о чём не говорила, если учесть, что сюжет он содрал с одного московского журнала. Нельзя, наверное, было серьёзно относиться и к тому, что полтора года подряд печаталось в армейской газете. От первых позывов творчества, каковыми являлись стихи и газетные публикации, до развития таланта, очевидно, предлежал путь долгий и трудный, и Павел то бросал, а то начинал писать снова. Но даже когда не писал, ему постоянно хотелось выразить словами те чувства, которые вызывал в нем окружающий мир. И не только загадочный мир природы с его восходами, закатами, весенним гомоном птиц, осенними туманами, но и окружающие люди, а точнее, девушки, в которых, когда пришло время, стал влюбляться до самозабвения. Однако всякий раз влюблённость заканчивалась разочарованием. В какой-то момент в очередной пассии он начинал замечать то, что разрушало его чувства. А затем влюблялся опять. Страдали и по нему, но этого он выносить не мог, морщился, когда мозолили глаза, но ничего с собой поделать не мог: жить вне любви, несмотря ни на какие разумные доводы и даже жалость, он не мог.
Из этого же чувства творил, если можно назвать творением то, что время от времени заносил на бумагу. Но кто бы знал, какое счастье испытывал он всякий раз, когда садился за стол в трепетном ожидании, когда перед глазами возникнет просящийся на бумагу мир, слова составятся в пахучие фразы, из фраз проступят контуры оживлённых воображением картин и в завершенности своей будут казаться такими же живыми, и даже более живыми, чем окружающий, вечно текущий куда-то, постоянно меняющийся мир.
Куда легче было творить в себе, когда в воображении как бы сами собой созидались волнующие сердце образы. Какою сладостною тогда казалась уединённость – в тишине зимнего вечера, в сумраке пустой квартиры, в лесу, по которому часами бродил без цели.
И ежели бы мир этот время от времени не просился на бумагу, можно бы и не замечать его вовсе, жить себе и жить, как миллионы ничем не обременённых, но в том-то и дело, что он чувствовал в себе эту обременённость и часто томился оттого, что большая часть жизни проходит впустую.
* * *
Не спалось.
И хотя давно была заглушена дизельная электростанция, а таёжный посёлок погрузился во тьму, Павел долго сидел у открытой дверцы сложенной наспех печурки, бездумно глядя на фиолетовые переливы остывающих углей, а потом, заложив руки за голову, лежал на кровати с тем душевным волнением, когда перед глазами до мельчайших подробностей встают картины прожитой жизни.
С чего она началась?
Почему-то казалось, с радости, с того самого дня, когда отчим впервые привёз дорогую игрушку – движущийся от пружинного завода, стреляющий настоящими маленькими снарядами танк. Потом была пожарная машина с выдвигающейся, вращающейся лестницей, самолёт «ПО-2», автомобили «ЗИМ» и «Победа». И всё это исключительно с познавательной целью было разобрано вместе с таким же заинтересованным в конструкторском деле закадычным другом детства Вовкой Каплючкиным, никогда никаких игрушек не имевшим – не на что было купить. Жили Каплючкины хотя и в самой справедливой стране на свете, о чём каждое утро бодро пело висевшее на стене радио, но почему-то намного беднее их, Тарасовых, а потому Павел, чем мог, старался скрасить неполноценное Вовкино счастье, за что ему, разумеется, попадало – игрушки стоили немалых денег.
Дальнейшие воспоминания также ассоциировались с радостью: совхозная конюшня, в ряду скотных дворов, вся в зарослях белены, лебеды, крапивы, чертополоха, лопуха, конского щавеля. За конюшней кладбище изломанных деревянных телег, саней, конных сенокосилок, граблей. Когда на дворы привозили арбузы, на эту астраханскую невидаль, как мухи на мёд, тут же слеталась вечно голодная совхозная детвора.
И всё остальное – купание лошадей, футбол дотемна, хоккей на первом гладком льду пруда – было.
Когда же пруд заносило снегом, через него, в сторону ельника, бежала зеркально блестевшая на морозном солнце лыжня.
Красоту зимнего леса почему-то всегда хотелось изобразить в цвете. Но была она непередаваема. Ели, сосны, снег на могучих лапах, сиреневые сугробы вокруг на рисунке были, а вот красоты не было, почему-то не желала она в эти искусственные рамки входить.
Та же история, очевидно, была с рассказами, хотя один всё-таки что-то такое в себя вместил. Это когда в девятом классе, однажды открыв журнал «Юность», вдохновился первыми строками чужой повестушки и сразу сел писать рассказ о первой и последней любви: он, геолог, получает телеграмму, у него родилась дочь, во время полёта вспоминает, как всё было…
Хотя главным в этой истории был стиль – этакая ни к чему не обязывающая болтовня. Однако буквально через месяц пришёл ответ из «Юности»: его рассказ собираются включить в «Зелёный портфель» и только просят чуть-чуть доработать. Не стал. Не понял, чего от него, собственно, требуют, когда он и так выше крыши насочинял. Ну не писать же, в самом деле, как во время игры в прятки он чмокнул «прототипицу» в свеженький, полуоткрытый от страха ротик? И как потом она уехала далеко-далеко… И были мечты, стихи, мечты, стихи… Вот он и выдал отрывок ещё из неосуществившейся мечты: они наконец поженились, он геолог, она родила дочь. Окончание телеграммы: «люблю целую жду Люська». Люська… Смешно. Но таким это тогда казалось обыкновенным. Во всяком случае, до знакомства с классикой. И вообще, можно ли вот так волшебно влюбиться в какую-то Люську?
Жаль, конечно, что с публикацией не получилось, но уже сам ответ приподымал от земли. Учиться после этого хотелось только на писателя, а значит, в Литературном институте имени Горького. Правда, тогда это было несбыточной мечтой: по окончании школы необходимы были три года рабочего стажа или служба в армии, а до экзаменов предстояло пройти творческий конкурс, послав на него рассказ, отрывок из повести или романа. Романа… О чём бы? Даже рассказы, казалось, не о чем было писать. Не писать же, в самом деле, о ночной рыбалке, купании лошадей, школе и уж тем более о «настоящей жизни» – последнее вообще относилось к области неизобразимого.
Но «Тихий Дон» его идиллические представления о жизни в одно мгновение опрокинул. Подумать только! Едут казаки и нарочно, сливая слова, поют «Уху я, уху я, уху я варила. Сваху я, сваху я, сваху я кормила!..» И всё остальное – от и до – как в настоящей жизни. Кое-что из этой «жизни» он уже знал. Не на опыте пока, слава Богу, а только видел, как совхозная шпана стояла в очереди в сарай у совхозного сада к появлявшейся время от времени, отвратительнейшей на вид пьяной стерве. Зазывали и его. Но его от одной кобелиной очереди воротило. То была отвратительнейшая животная страсть, а ему хотелось необыкновенно красивой любви.
А как много при этом значило для него лицо!
Никогда он не мог понять, причём тут красота, когда речь шла исключительно о фигуре. Лицо, и только оно одно, определяло для него красоту.
Так однажды он влюбился в одну до безобразия полную женщину на заводе только за одно её необыкновенно милое лицо, а потом в санитарку с кривыми, как у кавалериста, ногами, но с таким же красивым лицом. Лицо для него искупало все остальные недостатки. И если не было этой, так сказать, «наличности», которую он отождествлял с голубиной чистотой, не помогала никакая фигура. Что же касается литературных героинь, всех без исключения он представлял красавицами и во всех влюблялся.
Когда мать выписала «огоньковские» собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Есенина, А. К. Толстого, Гончарова, Николая Островского, один только вид книг вызывал в нём чувство радости от прикосновения к какому-то чуду. Только ради того, чтобы полистать красиво изданные фолианты, он часами пропадал в совхозной библиотеке. Бывало, наберёт стопу красиво изданных книг, принесёт домой, обложится ими в кресле у торшера и листает. Сначала просто листал, любуясь оформлением, шрифтами. Потом начинал читать. И уже не мог оторваться.
Теперь он уже не помнил, каким образом в заводской библиотеке (а записался сразу в три) наткнулся на небольшой роман Леонида Леонова «Соть». Открыл.
«Лось пил воду из ручья. Ручей звонко бежал сквозь тишину. Была насыщена она радостью, как оправдавшаяся надежда».
Лось, ручей, тишина, радость, как оправдавшаяся надежда, – и его словно унесло куда-то…
Самая лучшая полиграфия была у множества раз переиздаваемого «Русского леса». Гладкие, идеальной белизны страницы, волшебная вязь слов, витые буковки начала абзаца, «глава первая», «глава вторая».
Неужели и у него так же будет когда-то?
На всю жизнь запомнился свет радостного начала:
«Поезд пришёл точно по расписанию, но Вари не оказалось на перроне. Кое-как перебравшись с багажом в сторонку, Поля долго искала в толпе это исполнительное и доброе существо, милейшее на свете после мамы.
Конечно, её задержала какая-нибудь беда или заболевание… но что могло случиться со студенткой в Советском государстве, где, кажется, самая молодость служит охранной грамотой от несчастий?»
Но не только через библиотеки открывался ему этот удивительный мир. Шекспира, например, в десятом классе открыла для него учительница русского языка и литературы. В обход советской классики, помнится («дома, сказала, в учебнике сами прочтёте»), она заставляла их записывать свои уроки под диктовку, и они до мельчайших подробностей до сих пор хранились в памяти. Мрачный замок Эльсинор, тень отца Гамлета, безумная Офелия, «бедный Йорик», «быть или не быть»… И всё же так хотелось «быть»!
А тут как-то случайно наткнулся на одно авантюрное издание: «Как написать и издать книгу». Проглотил в один присест. И по прочтении, дурачина этакий, понял, что, оказывается, для того, чтобы издать книгу, не обязательно быть писателем, а просто надо отправить в издательство заявку с аннотацией – кратким изложением содержания будущей книги, хотя никакой книги ещё нет и в помине, но это не важно, лишь бы попасть в план, и совершенно не важно также, о чём книга, всё равно их никто, по уверению автора, не читает, главное, чтобы в заявке было слово «становление» – колхоза, фабрики, личности – всё равно, только бы обязательно фигурировало это волшебное слово, и дело в шляпе…
Вон, оказывается, как всё просто!
И он соловьём заливался про это очередной школьной подружке. Верили, удивлённо тараща при этом глаза: подумать только, такой… без усов, в общем, а столько всего знает! И заискивающе просили: «А почитать дашь?»
А тут ещё сосед по парте стихи Маяковского научил исчислять в рублях. «Я» – рупь двадцать, «волком бы» – рупь двадцать, «выгрыз» – рупь двадцать. И уже без двух копеек бутылка водки. За один опус о советском паспорте выходила сумма в три раза больше месячной маминой зарплаты. Поэтому главное что? Научиться писать лесенкой. А для этого, оказывается, и надо всего лишь подражать обыкновенному собачьему лаю: «гав», «гав-гав», «гав», «гав-гав»… И за один вечер Павел накатал целую тетрадку таких лаючих стихов. Но денег так и не дождался – даже когда дорого оплачиваемые ступеньки переделал в менее оплачиваемые лесенки.
На стихи приходили советы почитать то одно, то другое.
Но однажды кто-то посоветовал прочитать поэму Твардовского «За далью – даль». Прочитал, после чего впервые задумался о репрессированном дедушке, о культе личности Сталина, о роли Ленина во всей этой истории. И, часами перелистывая сочинения того и другого в совхозной библиотеке, пришёл к тому горестному заключению, что, оказывается, оба «хорошие».
А ещё понял он, читая «За далью – даль», что счастье – исключительно для одних молодых (для взрослых – работа), и за ним обязательно надо ехать куда-нибудь на Дальний Восток, в Заполярье или на дрейфующие льды… И выглядеть это должно было так: «Рука с рукой – по-детски мило – они у крайнего окна стоят посередине мира – он и она, муж и жена». «А что ей в мире все напасти, когда при ней её запас!» – любовь. «А что такое в жизни счастье? Вот это самое как раз – их двое, близко ли, далёко, в любую часть земли родной, с надеждой ясной и высокой держащих путь – рука с рукой…»
Здорово? Ну здорово же!
И всё равно почему-то казалось, жизнь юности, всю, какая она есть, со всеми её «этими», невозможно выразить ни в стихах, ни в прозе, поскольку она сама по себе поэзия и даже лучше. Тогда зачем искажать?
А вообще время до службы в армии было особенно насыщенным разными событиями, словно, предчувствуя не такой уж и далёкий призывной день, Павел торопился как можно больше охватить, как можно интереснее жить. И, возвращаясь к газете «Автозаводец», в первую очередь надо сказать, что помещалась она в добротных «серобусыгинских», как их называли, домах сталинской постройки, за огромными, низко посаженными окнами первого этажа. Массивная тяжёлая дверь с огромной бронзовой ручкой, светлые комнаты отделов с двумя поставленными навстречу друг другу напротив окна письменными столами, заваленные стопами скрепленных с конвертами писем народных корреспондентов.
Ему, тогдашнему семнадцатилетнему юноше, сотрудники редакции казались людьми особенными. Льстило внимание к первым пробам пера, которые, сгорая от стыда и страха, время от времени он приносил в редакцию заведующей производственным отделом Людмиле Шаровой. Несмотря на сухоту газетной текучки, корпению над очередными гранками, разбором почты, она всякий раз встречала его с приветливой улыбкой, брала материал, бегло пробегала глазами или откладывала на потом, интересовалась, чем дышит. Его нескладным заметкам и зарисовкам придавала читабельный вид и ставила в очередной номер. Из её рук он получил первый гонорар – двадцать рублей, для него, зарабатывавшего 96 рублей в месяц и получавшего от мамы ежедневно по рублю на питание и ни копейки на карманные расходы, деньги астрономические. И почему-то ужасно неловко было их принять – потому, может быть, что увлечение своё, в отличие от кручения гаек в цехе, он не считал за труд, а за приятное удовольствие, которое само по себе было наградой, и вдруг деньги. Было в них что-то не только снижающее радость от публикации, но раз и навсегда отравившее искренность дружеских отношений, внеся в них ожидание очередной подачки.
Когда же написал первый рассказ, заведующая отделом культуры посоветовала поработать над языком. Это оказалось новостью: стало быть, у художественной литературы какой-то свой, отличный от газетного язык? И надо было только понять, какой именно, в чём его суть. Внимательно перечитывая того же Леонова, Федина, других советских классиков, Павел наконец понял, что литературный язык подобно стихотворениям имеет определённый музыкальный ритм. И целый вечер просидел всего лишь над одним предложением, так и эдак переставляя слова, пока не выдал наконец:
«Би-би» – звучал ненавистный, впивающийся в душу машинный гудок, и, подобно испуганным тараканам, один за другим выползая из палаток, ребята валились на мокрую от росы траву и лежали до тех пор, пока утренняя свежесть не приводила их в чувство».
Главным героем рассказа было выдуманное лицо с странной фамилией Гаранин. Впрочем, не только фамилия, но и сами события были максимально удалены от жизни, и, понятно, такой от начала до конца высосанный из пальца опус даже на страницах районной газеты появиться не мог. Зато был дан замечательный урок относительно ключевых особенностей литературного языка, усвоив который, удалось наконец написать и напечатать рассказ на заимствованную, как было сказано, из столичного журнала тему, но с сугубо местной спецификой содержания. Коренное отличие от прежних публикаций было в том, что имя автора стояло не внизу, а вверху произведения.
Меж тем была театральная студия (на всё времени хватало), роль, которую перепечатывал и учил, ползания по полу, прыжки, активное вытравливание из себя стыда и скромности, что называлось раскрепощением. Всё это было если и не пустое, то совершенно необязательное и незначительное в его «довоенной» писательской жизни, а самым значительным из того насыщенного разными перипетиями времени представлялся кабинет директора ДК, с декоративным деревом в кадушке, большим письменным столом, с пишущей машинкой, огромным, во всю стену, окном, старинным шкафом с синенькими корешками «Большой советской энциклопедии». Вот, оказывается, как живут, где работают профессиональные журналисты-писатели! Тогда как они впятером ютились в двухкомнатной квартире с проходным залом, маленькой кухонькой, на которой едва помещались стол, холодильник да газовая плита. Однако и это после старого дома на четырёх хозяев, с огромной печью, вонючим деревянным туалетом за сараями, казалось хоромами. «Творить» же обыкновенно приходилось в спальной комнатке в то время, когда в зале отчим, мать, младшие на год Аркаша и на пять лет Мариша смотрели то, что «творилось» в телевизоре. И письменный стол был на троих. Так что? Многие вообще жили в длинных одноэтажных бараках, которые называли деревнями – третья, пятая, седьмая…
7
Что касается первой любви, трудно сказать, была ли она «до войны», или Павел не понимал, что значит первая. Наверное, всё же та, которая могла бы состояться и не состоялась, а не то что подружили да разбежались (иначе бы по чему страдать?), поэтому ни в кого «до войны» по-настоящему он влюблён не был.
Не было любви и среди горячих поклонниц его таланта – пяти глупеньких девчушек. Кто бы видел, как безутешно рыдали они над его придуманными опусами – кстати, на один и тот же сюжет: она его полюбила, а он её, подлец такой, обманул и бросил… Сколько же над этою высосанною из пальца глупостью было пролито девичьих слёз! Ну что им в ту пору было? По пятнадцать, шестнадцать – а их собственная жизнь казалась им загубленной навеки… Наверное, всё-таки он попадал в точку, но кто же об этом говорит а тем более, пишет? Это же такая тайна, в этом так стыдно признаться! А он взял и написал: «всю правду», «как в жизни» – и слёзы текли рекой.
Стоя кучкой на танцах в горбатовском клубе, в одинаковых белых гольфах, за что и прозвали «динамовками», они без его разрешения ни с кем не шли танцевать, свято храня ему верность, а он, не желая ни одну из них обидеть, медленные танцы либо вообще не танцевал, либо танцевал по заранее согласованной очереди. И каждая из них ждала, когда он сделает окончательный выбор. И все до одной были на его проводах, и все, как одна, рыдали, а он всё это принимал за продолжение начатого им же самим маскарада. Увы, не было любви ни к одной, а ведь были среди них и симпатюльки, и все, кроме одной, самой ревучей, пока «воевал», вышли замуж, и ни об одной он не пожалел. Ну не было любви – что тут поделать?
Даже то что можно было назвать любовью порою казалось обманом, и это несмотря на то что на тетрадке посвящённых ей этою зимою стихов она красивым почерком написала: «Первая любовь, как сталь, никогда не ржавеет. Полина».
Правда, всё это будет потом, позже, а тогда, всю службу, в отличие от Пети, Павел не только всё свободное время читал, но и писал. Написанное пересылал через границу маме, и она, свято веря в его путеводную звезду, присланное перепечатывала в совхозной конторе на машинке и отправляла назад. Машинописный текст напоминал книги, а самым необыкновенным в нём было, разумеется, имя автора над названием произведения.
Павел ТАРАСОВ
ПЕРВЫЙ СНЕГ
роман
Это было что-то! Да что там! Это было то, ради чего он готов был мириться даже с дедовщиной! И всю службу, как в песне, тем только и жил, что свято верил, «ещё немного, ещё чуть-чуть» и он наконец вернётся в Россию, домой – к метелям, снегам, пусть хоть и грязному и ничего общего с вылизанными немецкими городками не имеющему, но родному захолустью.
Роман этот (в пятьдесят четыре страницы всего) он и послал на творческий конкурс в Литинститут и, получив вызов, по возвращении «с войны» засел за учебники.
Но был нежный май за окном. В открытую форточку вместе с утренним солнцем текли тревожные запахи цветущих садов с береговых улиц приодевшегося в шёлковую травку вечно грязного, неухоженного «совхоза», над прудом курился туман, досиживали зарю рыбаки, изумрудной полоской темнел на бледной синеве неба знакомый до последней мелочи лес – и Павлу казалось, не было в его жизни весны прекрасней.
В один из субботних вечеров в парке за совхозным клубом запустили танцы. Музыка зазывно лилась через открытую форточку вместе с вечерней прохладой. Солнце только что село, но ещё пылал над чёрной полоской леса небосвод. Со всей округи текла к парку беспечновесёлая молодежь, а Павел упрямо корпел над своим камнем преткновения – русским.
Кто бы знал, как хотелось ему бросить это и вместе со всеми очутиться в темноте сказочно прекрасной ночи, подняться на танцплощадку, встать где-нибудь в стороне и не спеша всех разглядеть. Просто стоять и смотреть на милые девичьи лица, ловить их восхитительные улыбки, слышать жемчужный смех, хмелеть от сияющих озорным блеском глаз.
А тут ещё мама, Алевтина Фёдоровна, подлила масла в огонь:
– Ну? И чего маешься? А ну как всех красивых девок разберут, одни кривые да рябые останутся!
– Прям!
– Ну и сиди!
И они с Маришей ушли.
А через минуту в дверь позвонила Маришина одноклассница – волосы на роспуск, до безобразия разрисованные глаза, короткая юбка. Услышав, что подружки, оказывается, нет дома, она для приличия удивилась и, как бы между прочим, полюбопытствовала:
– А ты почему дома сидишь?
– Учу.
– Чего?
– Русский.
– Существительные, прилагательные? Норма-ально!
– Всё?
– У-у, злюка!
И как сумасшедшая застучала по лестнице каблуками.
Павел запер дверь, прошёл в спальную комнату, сел за письменный стол, включил настольную лампу, открыл учебник.
– «Именительный падеж множественного числа…»
А из форточки лилось:
Там, где клён шумит
Над речной волной,
Говорили мы
О любви с тобой.
У него бежали мурашки по коже. И всё равно, облокотившись о стол, запустив пальцы в отрастающие кудри, он упрямо бубнил:
– «В именительном падеже множественного числа существительные имеют следующие окончания… следующие окончания… следующие окончания…»
А слышал лишь:
Отшумел тот клён,
В поле бродит мгла,
А любовь, как сон,
Стороной прошла.
И всё же выдержал характер – высидел за учебником до конца танцев. Вряд ли что-либо из того, что учил, зацепилось в памяти, но учебник был закрыт с сознанием исполненного долга. Таким образом великие люди достигают цели. Придёт время, достигнет и он.
И так продолжалось до конца июня. Ни жара летних полдней, ни озорной визг детворы на мели пруда, ни тишина тёплых ночей, ни буйство полосующего небосвод звездопада – ничто не могло сбить его с намеченного курса.
И если бы не Полина! О, если б не она, он бы, наверное, всё-таки поступил.
До этого он даже предположить не мог, что любовь его может начаться такою жутью. Не от того, что отнимут дорогую игрушку, а от непреодолимо влекущей бездны. Кстати, очень похоже на то, когда однажды забрался на буровую вышку, на спор, не глядя вниз, лез. Когда же очутился на крохотном метровом квадрате, с круглой дырой посередине и невысоким ограждением из железного прута, испытал два властных чувства – жуть и непреодолимое желание прыгнуть. Какая сила удержала его тогда, не знал, но ничего в ту минуту ему так не хотелось, как только перешагнуть через ограждение и полететь вниз при абсолютной уверенности, что не разобьётся.
Это теперь он подбирал сравнения своему тогдашнему состоянию, тогда же, встретившись с Полиной взглядом, всем существом почувствовал, что пропал. И когда наконец «всё это» произошло, уже не из книжек, а на деле узнал, что такое ненасытимость страсти: уже не было никаких сил, а их неодолимо влекло друг к другу. К счастью, продолжалось это недолго. Изнурённые до последних сил, дошедшие до последнего безрассудства, они даже смотреть друг на дружку спокойно не могли. И нужно было поскорее «всё это прикрыть» приличием свадебного обряда, но подоспели экзамены, Павел уехал, а там и началось…
Правда, всё это потом, после. Тогда же, во время прощания на Московском вокзале, они стояли, обнявшись, и, никого не стесняясь, целовались. Пожилая полногрудая проводница целомудренно клонила очи долу. Задерживала взгляд любопытная молодёжь. Предосудительно качали головами добропорядочные горожане. А они никого и ничего не замечали, пока не услышали требовательный голос проводницы:
– Молодые люди, поезд отправляется. Молодой человек, пройдите в вагон.
Поезд тронулся. Полина пошла, и всё время шла и шла за уплывающим из-под ног вместе с платформой составом, пока не растворилась во мраке тёплой июльской ночи, а Павел, пройдя на своё место, сунув под нижнюю полку чемодан и придвинувшись к окну, за чёрным глянцем которого безраздельно царствовала ночь, всё никак не мог успокоиться. А надо было пережить не только эту, но и все остальные ночи. В ту минуту казалось, что он ещё сильнее, ещё мучительнее любит Полину. Ради чего, собственно, оставлять её одну? Ради «нескольких строчек в газете»? Даже если ради будущих книг – разве можно это сравнить?
Через десять минут поезд со свистом пронёсся мимо слабо освещённого переезда, тёмных платформ, обшарпанного здания станции «Доскино». С другой стороны путей находился кинотеатр «Салют», куда иногда они ходили с Полиной в кино и, сидя на заднем ряду почти пустого зала, изнуряли друг друга поцелуями.
В Дзержинске стояли всего несколько минут. И всё равно Павел вышел на платформу покурить – к куреву пристрастился в армии – и, раз за разом глубоко затягиваясь сигаретой, всё не мог унять сосущую сердце тоску.
Пропуская его в вагон, проводница посоветовала:
– А ты, сынок, ляг, постарайся уснуть.
И Павел, разобрав постель, лёг. Но заснуть так и не смог.
Почему-то именно теперь назойливо полезло в голову всё самое негативное из их отношений с Полиной.
Буквально через неделю, когда они впервые вместе пришли на танцы, его окликнул Картавый, пришедший из армии на полгода раньше. Павел нехотя подошел, спросил с нетерпением:
– Чего тебе? Не видишь, я не один?
– Да я только спгосить: у тебя с ней сегьёзно?
– Не по-онял.
– Да говогят тут…
Затем одноклассница подлила масла в огонь. Встретив как-то Павла на улице, так прямо и заявила:
– Тарасов, ты уже не жениться ли собрался?
– И что?
Заговорщицки понизив голос, изрыгнула:
– Ты хоть знаешь, что про неё говорят?
А тут ещё Аркаша, придя в увольнение (выпала братцу лафа служить в нижегородском кремлёвском полку), сказав то же самое, прибавил:
– Ну, не знаю, не знаю… Во всяком случае, с Дубовым нормальная девчонка ходить бы не стала, а она с Дубовым до армии путалась, рассказывал он тут про неё…
– Что?
– Да уж рассказывал…
– Да чего рассказывал-то?
– Сам у неё спроси.
И Павел спросил, и получилась очередная неприятность.
– Что же он у своей Ириночки не спросит, с кем она на мотоцикле по вечерам катается? – поджала губы Полина. – Ну бегал за мной дурак этот – и я же виновата? А мне никого, кроме тебя, не надо. Правда.
В самом деле, разве могут обманывать эти глаза, произносить лож эти губы?
Вскоре их отношения ни для кого не представляли секрета, и завистники, и «благодетели» наконец смирились с мыслью, что такова, видимо, его, горемыки, судьба, и одни жалели, а другие многозначительно ухмылялись.
8
Первое, что поразило, когда в начале шестого утра поднялся от Красной площади к Тверскому бульвару, – размах пробуждающейся столицы, и хотя после бессонной ночи всё это представлялось как во сне, Павел испытал нечто похожее на прикосновение к настоящему чуду.
Солнце давно уже поднялось, а улицы были совершенно пусты – ни людей, ни машин, никаких признаков жизни вообще. Огромный спящий, совершенно пустой город. Ан нет, вон кто-то прогуливается по Тверскому. Павел пригляделся. Не артист ли? Глянув направо, удивился опять: в этом доме, оказывается, жила сама Любовь Орлова!
Отойдя от воронёной таблички, висевшей на стене сталинской многоэтажки, Павел пересёк окаймлённый чахлыми липами сквер с молчащим фонтаном и пошёл по тротуару вдоль Тверского бульвара, всматриваясь в таблички с номерами домов.
В конце кованой ограды сквера, соединявшей два желтых старинных здания, висела внушительная чёрная доска: «Литературный институт имени А. М. Горького». Сердце радостно ёкнуло, столько ждал он этой минуты – и вот. Видела бы Полина!
Кованая железная калитка оказалась открытой. А вот и «Приёмная комиссия»! Павел дернул дверь – закрыта. Ну разумеется, кто же начинает работу в такую рань? А вот и часы работы. Почти четыре часа до начала. И вокруг никого. Один Герцен за неплотной листвой лип и клёнов в невозмутимом одиночестве бодрствовал на пьедестале.
Павел направился вглубь сквера и, к радостному удивлению, обнаружил безмятежно спавшую на одной из скамеек родственную душу – светлые кудри трепал ветерок, на переносице след от очков, рот слегка приоткрыт, рядом облезлый чемодан.
Присев на край скамьи, Павел достал сигареты, закурил. Ему не терпелось поскорее познакомиться, но не будить же, в самом деле, бедолагу, вон как он сладко спит? Кончилась сигарета, за оградой сквера промчался автомобиль, затем ещё один и ещё, – кудрявый не шевелился.
И тогда Павел поднялся и, как можно громче шаркая, стал ходить туда и обратно. И добился-таки своего.
Кудрявый проснулся, потянулся, сел, протёр глаза, достал из грудного кармана пиджака очки, надел и без особого любопытства глянул на Павла.
От знакомства, правда, не уклонился, представившись с подчеркнутой официальностью: «Трофим Калиновский». Из дальнейшего разговора выяснилось, что пермяк, уроженец затерявшегося в глухих верховьях Камы посёлка для спецпереселенцев. Мать из семьи раскулаченных в начале тридцатых и тогда же сосланных, «с трудом, кстати, выжили», отец отбывал ссылку с сорок пятого, «как бывший в немецком плену», поженились в пятидесятом, когда у отца вышел срок, и он получил паспорт, а в пятьдесят первом родились они с сестрой – двойняшки. Отец с помощью шурина, начальника сплавной конторы, выбился из рабочих в мастера по сплаву.
Чем занимались?
Валили лес, возили на «Котиках» на берег, вязали в плоты и спускали по Каме. Посёлок сначала состоял из бараков, но в начале пятидесятых стали строить отдельные дома из бруса на две семьи, и они получили квартиру. При доме был огород, держали корову, свиней, кур. И местность живописнейшая. Небольшой деревянный клуб стоял на крутом юру, от которого ниспадал лихой спуск к заливным лугам между Весляной и Камой. Имелась начальная школа. Два класса Трофим в ней окончил. Потом дядю перевели в Сарапул, ну и они за ним.
Даже в этой замысловатой истории было между ними много общего: совхоз, где рос Павел, создали в начале тридцатых как подсобное хозяйство во время строительства Горьковского автогиганта и тоже состоял в основном из ссыльных, и в таких же, как у Трофима, вначале все ютились длинных бараках, и также появились потом деревянные дома, только на четырёх хозяев, но тоже с огородами, сараями, в которых держали и коров, и свиней, и кур.
И стихи оба стали писать со второго класса, только Павел лирические, а Трофим, как выразился, сатирические вирши в подражание «Крокодилу» – ужасно нравился ему этот журнал. С тех пор писал не переставая. В третьем классе даже сочинил роман про индейцев, объёмом с толстую школьную тетрадь, но был осмеян родителями и сжег тетрадь в печке. Классе в четвёртом задумал написать новую мировую историю и начал с «Истории земли онкилонов» с первобытно-общинного строя, никому не показывал, тешился в одиночку, дошёл до создания империи (в 5-й или 6-й тетради), наконец надоело, бросил, а в восьмом взялся за роман в стихах «Андрей Болконский», «онегинской строфой», десять глав выдал за полтора года – на этом писательское детство закончилось.
И первые публикации у обоих появились в городских газетах. У Трофима – в Чайковском, куда перебрались из Сарапула за два года до окончания школы. Писал и печатал фельетоны, стихи, очерки. Как и Павел, печатался в армейской газете. Дабы потрафить армейским вкусам, писал, как выразился, сознательный бред: «Граница видимой вселенной дрожит на кончике штыка!» Про часового в пургу.
До армии сунулся было в МГУ, но когда пришёл подавать документы, выяснилось, что для поступления на факультет журналистики нужна рекомендация от местной организации Союза журналистов, а он не знал. Но не столько это побудило тогда бежать из Москвы (можно было подать документы на другой факультет или в другой вуз), сколько общение с дочерью хозяев квартиры, куда его пристроили на время экзаменов через каких-то опять же дядиных знакомых. Из разговоров с ней Трофим с каждым днём всё больше и больше утверждался в мысли, какой же он всё-таки жалкий провинциал. Да ещё Москва эта давила. Испугался, в общем, он тогда Москвы, сбежал.
До призыва работал на Чайковском комбинате шёлковых тканей (КШТ) подсобником, а служить подфартило в шестидесяти километрах от Чайковского, в Сарапуле, где раньше жили. Формально числился в топографической части, на самом деле служил в секретном подразделении «под прикрытием». Начальство топографов к ним даже не совалось. Принимали зашифрованную информацию с пролетающих военных спутников, и этим, собственно, в последние полтора года занимался он один. В части было всего двадцать солдат, три офицера – майор, капитан и старлей, двое старшин, которые вскоре стали прапорщиками. Носили лычки связистов. Собственно, связью и занимались.
За разговорами не заметили, как подошло время. Сдав документы, отправились на троллейбусе в общежитие, на улицу Добролюбова. Оставив в комнате чемоданы, пошли прогуляться до останкинской вышки. Затем раздавили в забегаловке бутылочку красного вина, захватили в общагу ещё одну, затем сбегали ещё за одной. И к вечеру обоим казалось, что они знают друг друга вечность.
К экзаменам Трофим почти не готовился, а сдавал на одни пятёрки.
– А, – махал рукой, – проформа! Говорят, даже если на одни тройки сдашь – всё равно примут.
Но Павел завалился на первом экзамене, на сочинении.
– Что-то тут, брат, не то, – призадумался Трофим. – Кого наметили принять, обязательно на проходной балл выводят – так уж тут заведено. Не иначе, что-нибудь с творчеством. Ты что послал?
– Роман.
– Ты написал роман?
– А что?
– Тогда понятно.
– Чего тебе понятно?
– Знаешь, как тут рассуждают? Если абитуриент написал роман – значит он кто? – гра-фо-ман.
– Да он в пятьдесят четыре страницы всего.
– Тем более. Никакого представления о жанре. Писательское детство.
И ещё несколько человек сказали то же самое. Как бы то ни было, а документы надо было забрать. Пока шли экзамены, Павел этого делать не стал и то слонялся по городу, а то по пустому общежитию, и хотя дома ждала оставленная на произвол судьбы Полина, ему было стыдно показаться ей на глаза – и всё из-за хвастовства своего.
– Видишь? Читай! «Уважаемый Павел Борисович, сообщаем Вам об успешном прохождении творческого конкурса. Вступительные экзамены…» В общем, вызывают на экзамены. Ты подумай только куда-а? В Москву-у!
Полина опускала в судьбоносную бумагу глаза, будто не могла в это поверить, говорила:
– Неужели в Москву? Смотри не загордись.
Теперь, выходит, нечем гордиться, никакой, выходит, теперь он не писатель, а самый что ни на есть настоящий графоман.
По завершении вступительных экзаменов только Павел не стоял на ушах и в застолье был молчалив и невесел. Все, исключительно все вокруг него были гении, и только он один – графоман. И чтобы хоть как-то скрасить фиаско, уговорил Трофима погостить у него пару дней.
– А что, – не задумываясь, согласился тот, – хоть на Полину твою гляну, а то все уши прожужжал!
9
Разумеется, Полина произвела на Трофима впечатление.
– И ты, брат, ещё жалеешь о каком-то «лите»?
И всё-таки уже тогда Павел почувствовал, что за время его отсутствия что-то неладное произошло.
А затем начались ссоры.
Первый раз поссорились из-за Жанны Болотовой, артистки, вернее, из-за инопланетянки из фильма «Молчание доктора Ивенса», который в конце сентября смотрели в том самом «Салюте», куда ходили целоваться. После просмотра фильма, сидя на скамейке во дворе Полининого дома, совершенно не соображая, что несёт, Павел всё выплёскивал и выплёскивал свои впечатления вслух, пока Полина не встала и не ушла. Глупость несусветная, но едва помирились.
В другой раз Полина не пошла на концерт, в котором впервые принимал участие их только что организованный вокально-инструментальный ансамбль «Пульсары», в котором Павел играл на «клавишах».
– Конечно, – заявила с обидой, – тебе хорошо, у тебя ансамбль, тебе весело, а я сиди, значит, дома одна!
И даже не позволила себя обнять на прощанье.
Не встречались неделю, а помирились из-за вернувшегося со службы Дубова, которым Аркаша Полину тогда попрекал. И хотя были они с Полиной в ссоре, упрямо находясь в разных концах танцевального зала, Дубов сначала всё-таки подсел к Павлу.
– Только честно. Скажи: было у тебя с ней?
Уловив суть вопроса, Павел не задумываясь ответил:
– Нет.
И в эту минуту к ним подлетела Полина, схватила Павла за руку, потащила на улицу, и пока шли до дома, всю дорогу выплёскивала свои обиды. У калитки разоткровенничалась:
– Мама говорит, что я с тобой буду несчастной, а я несчастна только, когда ты меня не любишь. А что, любишь? Мама говорит, что нет… Да ты погоди, послушай… Говорю: «Ма-ам, с чего ты взяла?» – «Я, – говорит, – жизнь прожила – вижу. Он, говорит, одного себя любит».
А тут ещё, как назло, пришло письмо от Трофима.
Писал: «Недавно познакомился с лидером группы «Последний шанс» Романом Щёкиным. Пришёл во время перемены в «лит» и у первого попавшегося спросил, как ему познакомиться с поэтом. Первым попавшимся оказался Казанкин (который с нами в комнате тогда жил, помнишь?). Казанкин вызывает меня. Выхожу и вижу длиннющего, худущего, обросшего по плечи хиппаря с зачехлённой гитарой. Без тени смущения представившись, он заявил с ходу, что пишет рок-оперу и ему нужен текст. Я осторожно заметил, что никогда не пытался делать что-либо подобное. «Я тоже, – был ответ. – Давай попробуем… А для начала я покажу тебе свои песни». И потащил меня к себе, представил отцу, расчехлил гитару и стал петь – на стихи Левитанского, Блока, Есенина… Мне понравилось, и я согласился. Между делом Щёкин написал несколько песен на мои стихи, одна из которых в исполнении Аллы Иоффе уже звучит по радио, «Вальс о ночном дожде» называется. Случайно не слышал?.. Ну а опера для детей – «Мальчиш-Кибальчиш», Дом пионеров будет ставить. Договорились уже. Такие, брат, у меня дела… Ты как? Пишешь ли? Есть ли что новенького? И если есть, пришли. А вообще, встретиться бы, поговорить».
Приглашал на Новый год вместе с Полиной, и Щёкин, мол, будет. Уговаривал не вешать носа и готовить рукопись для поступления на следующий год, уверяя, что почти все, кто не прошёл за год до его поступления, поступили вместе с ним, лишь в конце, как бы между прочим, прибавив: «Кажется, брат, я сам того… И зовут её Машей».
По поводу творческого конкурса Павел принял к сведению, что относительно Нового года, так у них самих намечался новогодний бал. Однако стоило пересказать содержание письма Полине, она сразу же загорелась ехать и ни на какие уговоры уже не поддавалась, дошло до того, что категорично заявила:
– Или едем, или я знать тебя не хочу!
– Ну почему?
– Ты был в Москве, а я нет. Когда ещё представится случай?
– Полин, ты же понимаешь, что я не могу.
– И я сказала: только попробуй.
Но он всё-таки «попробовал». До последнего, правда, сомневался, тянул, ничего не отвечая Трофиму, а за три дня до Нового года сказал Полине, что будет играть.
– Ну-ну… – обронила она и удалилась темнее тучи.
А вокруг шла обычная предновогодняя суета: привезли, установили, украсили ели на площади у клуба, в танцевальном зале. Желающих попасть на Новогодний бал оказалось так много, что из-за пригласительных билетов вышел скандал: в кои-то веки бал, со столами, с шампанским, закусками, живой музыкой, где бы ещё и показать себя в праздничном наряде труженикам села? А Полина этого понимать не хотела!
Можно представить, что испытывал Павел всю новогоднюю ночь. И хотя знал неуступчивый Полинин характер, верить, что ушла, как пригрозила, в чужую компанию, не хотелось. Назло, поди, и сказала, а сама всю ночь у телевизора просидит.
Во втором часу ночи, с новогодним подарком, бутылкой шампанского под мышкой Павел шагал по знакомой до мелочей улице Достоевского. Морозный иней блестел на ветвях, кустах и штакетнике. Почти во всех окнах частных домов празднично горел свет. Во дворе одного из них плясала под баян весёлая толпа.
– Эй, красивенький, – крикнула ему вслед румяная молодка, – иди поцелую!
На подходе к дому Павел заметил, что окна темны, в том числе – и в угловой комнате, где частенько сиживали они с Полиной по вечерам. И всё равно не хотелось верить, что её нет дома. Ну, смотрела, успокаивал себя, телевизор, уснула, Клавдия Семёновна сунула под голову дочери подушку, выключила свет и легла сама.
Потопывая по крыльцу до мелочей знакомой веранды, Павел всё не мог решиться нажать кнопку звонка. А вдруг и впрямь Полины дома нет, и он подымет родителей. Хорошо, если откроет «тесть», как звал он про себя Полининого отчима Александра Егорыча, носившего, как и его отчим Василий Михалыч, вместе с матерью и сестрой другую, в отличие от них с Аркашей, фамилию, ну всё как у Полины, только у неё была старшая по отцу сестра Алла и младший по отчиму брат Гоша, и они с сестрой были Евграфовы, а все остальные в семье Шахровы, тогда как у Павла все, кроме них с братом, были Панкратовыми. В этом совпадении Павлу даже виделось некое знамение судьбы… Словом, хорошо, если откроет Егорыч, а если Клавдия Семёновна?
«А что если в окно постучать? – неожиданно пришло ему в голову. – А что, тогда и родителей будить не придётся».
Пристроив бутылку шампанского с подарком на скамейке, Павел через боковую калитку вошёл в сказочно одетый пушистым инеем вишнёвый сад и уже поднял руку к стеклу, когда до слуха долетел до боли знакомый смех. И тотчас пронзило:
«Неужели с Дубовым?»
Первое желание было – выйти и встать на пути безмолвным укором. Однако, подумав, решил всё-таки спрятаться и проследить, что будет дальше, до последнего момента, и тогда уже будет всё…
Уже за углом веранды Павел вспомнил, что забыл на скамейке подарок, дёрнулся было назад, да понял, что не успеть.
И в ту же минуту до него долетело:
– Постоим?
По голосу Павел сразу догадался, что это не Дубов. Тогда кто?
– Да я с ног валюсь, – был ответ. – Пока.
– А поцеловать?
– Перетопчешься!
Стукнула калитка, проскрипели торопливые шаги. Неожиданно замерли.
– Это ещё что за новости?
Скрываться дольше не имело смысла.
На скрип шагов Полина испуганно обернулась.
– Ты?!
Павел даже не представлял, что можно вот так, до жути, любить и ненавидеть одновременно!
Тягостное повисло в стылом воздухе молчание. Казалось, и нужно было сделать всего лишь шаг, и тотчас бы начались взаимные излияния в собственной неправоте, страстные, как после долгой разлуки, поцелуи, но, к сожалению, этого не произошло. Павел считал, что шаг этот должна была сделать Полина, она, очевидно, ждала его от него. А теперь в который раз за время разлуки Павел совершал его в воображении, страдая оттого, что уже ничего не вернуть. Ну всё как в одном из посвящённых ей стихотворений, каждая строка которого отзывалась сердечной мукой:
Я люблю тебя, слышишь, люблю!
В тихом сумраке замираю…
И целую тебя, и ласкаю —
Жаль, что это только в бреду.
Ну а тогда выдержал характер. Лихо откупорив бутылку шампанского, захлёбываясь, стал тянуть из горла.
Полина молча на это смотрела.
Ну что бы стоило ему прямо с бутылкой в руке, уже как бы во хмелю, подойти, обнять, шепнуть на ухо: «Полина, милая, родная моя!» Так нет же, назло продолжал это проклятое пойло тянуть.
И Полина ушла.
О, этот последний миг! Он как теперь стоял перед его глазами!
Прежде чем скрыться за дверью, Полина обернулась, пронзив долгим, до сердечной боли ощутимым взглядом. Ну, чтобы не кинуться, не крикнуть ему: «Полин, постой, погоди-ка, чего скажу!» Так нет же, опять присосался к этой треклятой бутылке, а потом отвратительно отрыгнул газ.
Дверь захлопнулась.
Если бы не шампанское, у него бы, наверное, разорвалось сердце.
А далее всё, как сплошной кошмар: он встаёт и ложится с жутью от мысли, что отныне Полину целует другой. И хотя с того момента как стал играть в ансамбле, глаза ему мозолили девчата из хореографической студии, ни на одну он не смотрел. И всё это время, до самого отъезда в тайгу, между ним и Полиной происходила одна и та же история – пока был трезв, держал характер, выпив, тащился разбираться, из чего выходил очередной скандал. За эти пьяные похождения Клавдия Семёновна просто возненавидела его. Один раз даже заявила, что не видать ему дочери, как своих собственных ушей, на что он, придурок пьяный, брякнул, что каким-то особенным зрением как раз одновременно их оба видит.
Тогда он работал на ГЗАСе (Горьковском заводе аппаратуры связи имени Попова), куда приходилось пять раз в неделю ездить на первой шестичасовой электричке (на семичасовой – минут на десять опаздывал), и до появления остальных либо сидел в белом халате за регулировочным стендом, либо бродил по пустому цеху. Завод был элитный, устроил туда Павла сосед, инженер, к тому же заядлый радиолюбитель, заразивший этим делом в отрочестве Павла. Научил читать радиосхемы, растолковал принцип работы радиоламп, транзисторов, диодов. Показал, как мотать высокочастотные и низкочастотные трансформаторы, вырезать из текстолитовых пластин платы, рисовать лаком нити соединений, специальным составом вытравливать остальную медь, сверлить отверстия, ставить в них клёпки, впаивать разноцветные радиодетали и, подключив питание, «оживлять» сборку. Это было занятием интересным и отнимало уйму времени. Мама, правда, считала, всё лучше, чем по улице со шпаной носиться, и на радиодетали деньги давала. Когда же Павел увлёкся «писаниной», всё это отошло на задний план и, казалось, уже никогда не пригодится, ан нет: сосед предложил работу, и Павел с радостью согласился. И если бы не свалившееся на голову в первый день нового года несчастье, Павел мог бы считать себя вполне респектабельным человеком. За понятливость его в цеху уважали. И бригада попалась отменная. Такое же, как у Трофима на шелковом комбинате, бабье царство сборщиц – девушек и женщин от восемнадцати до пятидесяти лет. Были и красавицы. Особенно одна, как нарочно, с именем первой школьной возлюбленной, о которой был написан заинтересовавший «Юность» рассказ, – Люда. Было ей, как и Павлу, двадцать, симпатичнее, выразительнее лица, казалось, придумать было нельзя, и если бы не Полина, Павел непременно бы влюбился в неё. Тем более как-то сразу обратили они друг на друга внимание. Из необъяснимой у молодых людей тяги друг к другу с первого же дня пожелали вступить в разговор, и с тех пор частенько дружески болтали о том о сём, когда в начале месяца случался простой. И ещё одна красавица на участке работала, за которую Павла сватали уже все, кому не лень. Восемнадцать лет, пшеничные волосы, длинная коса, синие глаза, к тому же дочь заводского начальника, говорили, завидная невеста, но вот хоть убей, не лежала к ней душа, и всё тут. Даже когда поссорился с Полиной, с безумным предложением подошёл не к ней, а опять же к Людмиле. В порыве злобы, помнится, в отместку, с утра самого подсел и заявил с ходу:
– Люд, выходи за меня замуж?
Казалось, она не очень удивилась. Ласково улыбнувшись, ненастойчиво возразила:
– Ты же меня совсем не знаешь, Паш.
– И что? – в нетерпении возразил он, словно от её немедленного согласия разом бы прекратились его мучения. – Пойми, мне надо остыть!
Ласковую улыбку мгновенно смахнуло с лица.
– Я же не холодильник, Паш.
Ближе к весне Павел стал ездить в командировки в Коммунарск, куда добирался сначала самолётом до Ворошиловграда, затем автобусом до утопающего в садах небольшого шахтёрского городка, в котором находился небольшой завод по изготовлению всего одной детали для собираемых ГЗАСом радиостанций. И не было ни одного случая, чтобы детали сделали в срок, и каждый раз, чтобы дать план, за ними приходилось кому-нибудь из молодёжи ездить, буквально высиживая каждое утро в приёмной очередное обещание сдать, крайний срок, завтра или после завтра заказ, и, наконец получив его, стрелой лететь назад. В одну из таких поездок, изнывая от очередного приступа тоски в пустом номере гостиницы, буквально за один вечер Павел накатал целую ученическую тетрадь стихов.
А вскоре представился случай их показать.
В тот вечер ему посчастливилось догнать Полину на тротуаре идущей от станции улицы и, в очередной раз с неумирающей надеждой на возобновление отношений проводив до дома, достать из кармана плаща согнутую вдове тетрадь.
– Возьми.
– Что это?
– Стихи. Как бы нехотя, явно сгорая от любопытства и в то же время не желая этого показать, Полина взяла.
А ещё через пару дней посчастливилось встретиться в электричке и, с тем же тревожным чувством ожидания очередной подачки проводив до калитки, спросить, что Полина по поводу его стихов думает.
И тогда, отводя в сторону глаза, она сказала:
– Теперь это не от одной меня зависит. Извини, Паш, но ты сам себя показал. Мама даже слышать о тебе не хочет.
– А ты?
– А что – я? Ну что?.. Хотя… – как будто обо что-то споткнулась. – Вот если бы ты стал военным… Мама бы меня за военного бегом отдала.
Чем он давно переболел, так это «военными». Было дело, певала тётя Лида Кашадова, старшая мамина сестра, что военных-де самые красивые девки любят. И Павел давже поддался на уговоры, подав документы во Львовское военно-политическое училище, где в единственном из всех остальных готовили военных журналистов. Но до экзаменов его по каким-то причинам не допустили, а потом, сполна хватив армии, думал, и слава Богу, а теперь судьба толкала на эту дорожку опять. И ведь согласился же! Даже договорились, как только он поступает в училище, они сразу подают заявление в загс. Буквально на другой день Павел прилетел в военкомат. Но там ему в очередной раз заявили, что Львовское ему не светит, а вот в общевойсковое, самое никудышное, значит, куда никто идти не желает, взять могут. Сказав, что подумает, Павел приуныл, и всё же ради Полин он готов был тогда примириться даже с этим общевойсковым. И что же?
– Наверное, теперь уже и так не получится, – выслушав его, с явным сожалением ответила Полина. – Я заикнулась вчера маме, она даже слушать не хочет. Да хоть, говорит, генералом. Только какой, говорит, из него, к чертям собачьим, генерал!.. Извини.
Генералом он, конечно, не будет, это верно, но чтобы так!
И Павел ушёл с кровавой обидой.
Но теперь он готов был простить не только это, но даже измену, которая, думалось ему, всё же была, когда за неделю до отъезда на прииски, по дороге на станцию увидел идущую по тротуару вдоль совхозного сада при параде Полину. Тотчас вспомнил, что накануне её одноклассника провожали в армию. О том, что она пойдёт на проводы, конечно, предполагал, но уж никак не думал, что останется на ночь. И это бы ничего, но то, что началось потом, его просто раздавило.
Завидев Павла, Полина сделала вид, что не видит и тут же свернула за угол сада. Павел прибавил шагу, повернул следом. Когда же увидел, как, поворачивая за очередной угол, Полина оглянулась, понял, что сделала она это лишь для того, чтобы убедиться, что он идёт за ней. Павел не стал её в этом разубеждать. Однако стоило Полине скрыться из вида, тотчас развернулся и со всех ног припустил по улице до следующего, ведущего к саду проулка, намереваясь перехватить беглянку на полпути. Однако стоило ему свернуть в проулок, как тут же увидел спешащую ему навстречу Полину, с опаской поглядывающую назад.
Чтобы столкнуться как бы случайно, Павел замедлил шаг, специально глядя себе под ноги. Когда же в предвкушении развязки поднял глаза, Полины в проходе не было, и, в очередной раз прибавив шагу, увидел её бегущую вдоль совхозного сада в сторону школы.
– Ну и беги, тварь!
И всю дорогу до станции поносил её площадными словами.
Когда же наконец улеглась и эта боль, и особенно после того, как зачесались руки писать, перебирая в памяти события того утра, всё это увидел иначе. Ведь если бы Полина на самом деле разлюбила его, зачем бы тогда и бежать? «Ну, увидел? Доволен теперь?» – сказала бы она гордо и зло, как умела это делать, и пошла бы своей дорогой. Так нет же, всячески попыталась скрыть от него свой ночной позор! Стало быть, на что-то надеялась?
О, как хотелось ему в это верить, а так же в то, что ещё не всё потеряно.
И тогда в знак примирения написал Полине письмо: что моет золото, что пишет повесть о ней и, когда напишет, пошлёт Трофиму, чтобы перепечатал и предложил в редакцию какого-нибудь журнала, а на следующий год, может, и в Литинститут ещё раз попытается поступить, пока, в общем, не знает, прибавив не без намёка, что всё будет зависеть от обстоятельств, передавал от Трофима привет (и то было правдой), и завершил словами: «Хочу, чтобы ты знала обо мне всё».
А буквально позавчера пришло письмо от Трофима, с очередным приглашением на Новый год. И повесть, мол, присылай. «Чем сможем, поможем». И Павел в ближайшие дни решил написать о новогоднем приглашении Полине, только не на домашний адрес на этот раз надумал отправить письмо, а на адрес подружки-соседки, чтобы Клавдию Семёновну вокруг пальца обвести, а то узнает, костьми ляжет, а никуда дочь не отпустит. Первое же письмо, в котором не преминул упомянуть о заработках, специально послал так, чтобы попало «тёще» на глаза, пусть пораскинет мозгами, такой ли он зять, с которого так уж и нечего взять.
Меж тем рассвело.
И столько в свете этого раннего утра вдруг почудилось многообещающей надежды, что Павел умиротворённо вздохнул и, с белой завистью вспомнив о Петином подвиге, решил, что по возвращении с ночной смены сядет за рассказ, который так и назовёт – «Наводнение».
10
За панорамным, закруглявшимся под ноги лобовым стеклом вертолёта МИ-2 простиралась знакомая по первому полёту тайга. Вертолёт шёл ровнее и ни разу не провалился ни в одну из воздушных ям. Оперативники (пятеро в гражданке, с «акээмами» меж колен) дремали сзади, а Петю мучила совесть, что из непростительного угодничества поддался на беззастенчивое враньё, к которому склонил его вчера председатель артели, когда при нем стал врать начальнику милиции, сообщившему о побеге из зоны трёх заключённых и уже ограбивших геологов, что будто бы Петя слышал по рации, как кто-то якобы из той геологической партии передавал кому-то, что зеки отправились к старателям. И зачем это председателю было надо, думал Петя, если перестраховаться хотел, так бы и сказал, а то наплёл с три короба. Кто бы знал, как стыдно было ему, глядя немолодому полковнику в глаза, опуститься до лжи, и теперь, сидя на переднем сиденье вертолёта, он время от времени повторял про себя с неутихающей обидой: «Ну и трепло!»
Но, как водится, строит начать, а там и не остановишься. По приземлении на небольшом пятачке у въезда в Покровское, отводя в сторону глаза, слово в слово повторив недавнее враньё, Петя доложил начальнику участка, что прибыл для внепланового вывоза намытого за неделю золота, и на всю ночь отпросился на полигон.
До начала смены была уйма времени, и Петя решил сходить на метеостанцию – когда ещё представится случай? Дорога (вернее, бездорожье) была не дальняя, но и не ближняя, километра полтора, идти надо было либо через ложбину, заросшую кустарником, либо вверх по Бирюсе, а потом подниматься в гору почти до вершины сопки. Но смущало не это, а – непрошеный визит: что подумают, что скажут на это Варины родители? Известия о разрешении писать письма Петя так и не дождался, а если нет разрешения, о свиданиях вообще не могло быть и речи. Тогда зачем он идёт? Как это зачем? Затем, чтобы выяснить всё. Сколько можно мучиться? Он даже не предполагал, что «из-за какой-то ерунды» можно так мучиться. Ну чего такого особенного произошло? Полистали альбом, поглядели фотки, поболтали о том о сём, а Петя не находил себе места.
Когда, утомлённый крутым подъёмом, он наконец-таки достиг цели, из двери бревенчатого дома, с огромной антенной на крыше, выскочила на крыльцо девчонка-подросток, в которой Петя сразу узнал Пашеньку. Следом за ней появилась женщина в домашнем халате, спросила:
– Вам кого?
С трудом переводя дыхание, Петя ответил:
– Варю. Можно?
– А-а… – И на лицо её набежала тень. – Вы – Петя? – и когда он кивнул, сказала: – Подождите минуту. – И за руку увела в дом не сводившую с гостя любопытных глаз дочь.
Минуты через две, в ботах, в накинутой на плечи шерстяной кофте, вышла, и, сказав «отойдёмте», направилась вниз, к уступу скалы, одиноко торчавшему метрах в двадцати от метеостанции на обезлешенной щеке сопки.
За уступом остановилась, испытующе заглянула Пете в глаза, с беспокойством в голосе заговорила:
– Только поймите меня правильно. Мы знаем всё, Варя всё рассказала. Понятно, у глупой девчонки голова кругом (вы ж у неё первый), а ей всего шестнадцать. Ребёнок она ещё совсем (понимаете?) ребёнок. Рано ей всё это, об учёбе думать надо. Поэтому очень вас прошу: оставьте нашу дочь в покое.
Петя стоял с опущенными глазами. Казалось бы, что может быть разумнее, но в душе у него поднималась буря, и в то же время он понимал, нагруби он сейчас, и это будет конец.
– Простите, – скрепя сердце, как можно спокойнее, возразил он, – вас как зовут?
– Людмила Ивановна.
– Людмила Ивановна, а вы на моём месте как бы поступили?
– Это вы на что намекаете? – и тут же догадливо протянула: А-а… И об этом уже успела рассказать… И что? Ну старше меня Николай Петрович на десять лет, что из этого?
– Ничего. Просто спросил.
Людмила Ивановна задумалась, хотела что-то сказать, но тут же передумала и с ещё большей настойчивостью повторила:
– И всё-таки… Ещё раз убедительно вас прошу: оставьте Варю в покое. Потом, года через три или четыре, если на то пошло, приезжайте, приходите, а теперь не надо.
– Что, и переписываться нельзя?
Людмила Ивановна даже руками всплеснула.
– Зачем? Это же всё нервы, переживания. Неужели вы не понимаете? А не дай Бог, встретите кого-нибудь, разлюбите… Только не смотрите на меня так… Всякое, знаете ли, в жизни бывает… Так мы договорились?
– Разрешите с Варей поговорить.
– О чё-ом? Послушайте, вы что, так ничего и не поняли?
Петя горестно усмехнулся.
– Это вы ничего не поняли. Или не хотите понять. Ни меня, ни Варю.
– Ну почему… Лично я вас прекрасно понимаю. И вас, и её. Поэтому ещё раз повторяю: не время (понимаете?), не время. И потом… эта ваша работа…
Петя насторожился.
– А что работа?
– Я знаю, вы тут первый год. И дальше намерены старательством заниматься?
– А что?
– Да уж наслышаны…
Ах, во-он оно что! И больше не в силах владеть собою, Петя пошел вразнос:
– Так, значит, да? Гадом, значит, меня хотите перед Варей выставить? Я, значит, гад, а вы добренькие? Но я, извините, не га-ад!
– Куда вы? Да погодите же вы наконец! – попробовала она его остановить.
Но он уже летел вниз. Внутри у него, как в день наводнения, бушевало. Лишь когда оказался у реки, оглянулся. Людмилы Ивановны у выступа уже не было.
Присев на корточки, Петя зачерпнул пригоршню ледяной воды, плеснул в лицо. О том чтобы исчезнуть, да ещё вдруг, не могло быть и речи, вот если Варя сама скажет, тогда другое дело.
Петя поднялся и, ещё раз глянув в сторону метеостанции, направился в сторону посёлка. Какое-то время за толкотнёй мыслей и наплывом чувств он даже не слышал шума воды. Он ворвался вместе с потоком холодного воздуха, хлынувшего из распадка, и сразу отрезвил. Куда это он разогнался? По посёлку слоняться?