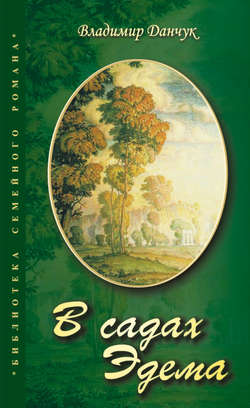Читать книгу В садах Эдема - Владимир Данчук - Страница 4
Часть вторая
Оглавление03.01.85
Я отдежурил двое с половиною суток: с вечера 30-го до утра 2-го; устал и полдня отсыпался.
Ездили с Лизанькой на санках на молочную кухню. Через дорогу несу её на руках. Морщась от ветра, она спрашивает:
– А мохно такую махынку купить – для пикания (питания)?
– Какую машинку? – невнимательно переспрашиваю я, поглядывая по сторонам в ожидании перехода.
– Для пикания! Шкобы не ходить! Нахмёх (нажмёшь)… пок’утишь учку, и пикание польётся… И не нага ходить никуга.
– Как ты хорошо придумала! Да вот где её взять-то, такую машинку?
– Купить! В магазине!
– Хм, что-то я таких магазинов не знаю – где они есть?
– В Сузгале!.. Кам возле сканции… возле скан ции… – не может удержаться и привычно добавляет, – возле сканции «Аврора» есь такой маенький магазин, киосок есь, и кам, в агном отделе, прогают (продают) такие махынки…
Оля учит Лизаньку произносить «ш» вместо её обыкновенного малороссийского «х»:
– Скажи, Лизанька, «кушать»…
И маленькая девочка, так непривычно, так мягко выговаривая, повторяет:
– Ку-шать…
– Шапка?
– Ша-апка…
Пока я был на дежурстве, бабушка научила Иванушку хлопать в ладоши. То есть он сам – научился. В очередной раз она стала подкидывать его на руках, припевая:
– А ладушки-ладушки!.. Ладушки-оладушки!..
А Иванушка взял да и захлопал в ладоши.
Вечером – сдавал бутылки, промёрз до костей…
Миша прислал поздравительную открытку с Рождеством Христовым (в конверте): «Володя, друг мой, поздравляю с наступающим Праздником! И Оле поклон, и Лизаньку с Ванечкой поцелуй за меня. У нас скрипучие морозы и ясный месяц; дымы над крышами качаются, как цапли; всё прорывает где-то какие-то трубы, и на улицах во все стороны – ледяные языки. Храм, видимый из окна, окружённый великолепными хрустальными деревьями, весь в сияющем тумане. Особенно прекрасен он, когда косматое солнце встаёт над холмом и обдаёт город неземным нежным светом, тем драгоценным пурпуром, что молодит и облагораживает даже самое пустяковое и незначащее. Друг мой, милый друг мой… Храни вас всех Господь. Ждём в гости. Помню: обещался».
05.01.85, суббота перед Рождеством Христовым
Вчера я дежурил, а нынче утром, сдав дежурство, отстоял обедню и причастился – с Лизанькою вместе (Олечка очень удачно подвезла её к концу службы). Народу было – пропасть. Одних причащающихся было, наверное, более сотни человек (хотя – как там сосчитаешь).
А в половине 2-го я на вокзале встречал батюшку; о. Иоанн очень доволен своим визитом к московским «овцам», говорит, что привёз «новые идеи, которые надо обсудить». Танечка и Новиковы прислали нам с батюшкою разные подарки и лакомства. У нас хоть и ветрено, но тепло – днём где-то около 8 градусов, а в Москве -20°.
Танечка пишет: «Мы встречали новый год с батюшкою, тихо беседуя. Володя спел ему свои новые песни. Но наша спокойная жизнь нарушилась с приездом мамы. Хотя видно: за этот год мама немного успокоилась, уже не так остро переживает наше воцерковление. Я же мучаюсь бессилием объяснить ей хотя бы немного себя. Вот, год не виделись с нею, так хочется её приласкать, успокоить, но ничего не получается – смотрит недоверчиво. Ну, в чём можно нас подозревать? Ходим в церковь – вот и всё… Не знаю, как мы будем встречать Рождество Спасителя…»
09.01.85.
Идём с Лизанькою на молочную кухню – за питанием для Иванушки. Мимо нас проходят мама с девочкой, такого же, примерно, возраста. Лизанька провожает их взглядом:
– А у этой девочки есь братец?
– Не знаю. Может быть, и есть.
– А у меня есь братец Иванухка!
– Правильно, Лизанька.
– Нас теперь у вас гвое!
– Да. А раньше была только ты одна.
– И я не была сеск’ица…
– Да, была просто маленькая девочка Лизанька.
Заторопилась. Задирая головку, заглядывая мне в лицо:
– Была девочка Лизанька, а кипей (теперь) сеск’ица. Кага у меня не было братца Иванухки, я была просто девочка, а появился братец Иванухка, я стала сеск’ица…
И засмеялась удивлённо:
– Братец и сеск’ица!
Вигель о южной ссылке Пушкина в Мае 1820-го года: «Когда Петербург был полон людей, велегласно проповедающих правила, которые прямо вели к истреблению монархической власти, когда ни один из них не был потревожен, надобно же было, чтобы пострадал юноша, чуждый их затеям, как показали последствия. Дотоле никто за политические мнения не был преследуем, и Пушкин был первым, можно сказать, единственным тогда мучеником за веру, которой даже не исповедовал… Если хотели поразить ужасом вольнодумцев, за безделицу не пощадив любимца друзей русской литературы, то цель была достигнута. Куда девался либерализм! Он исчез, как будто ушёл в землю, всё умолкло. Но тогда-то именно и начал он делаться опасен…»
14.01.85, Обрезание Господне, вечером, в 10-ом часу (-19°)
Вчера мы с Лизанькою были в храме (она причастилась) и в библиотеке. Благодаря моей волшебной маленькой девочке, мне безо всяких проволочек перерегистрировали билет, и вообще тон служащих со мною делается всё домашнее. Меня это радует несказанно.
Иванушка уже совершенно свободно сидит без посторонней помощи и на лукавую просьбу: «Иванушка, покажи, как медвежонок головой качает?» – раскрывает свой беззубый ротик в простодушной улыбке («ощеряется» – шучу я, «осклабляется» – поправляет меня Олечка) и мотается из стороны в сторону всем тельцем, как цветочек на ветру.
Лизанька начинает читать… Уже несколько дней назад она прочитывала знакомые слова (которые умеет писать), находя их в тексте. А тут открыла книжку с птицами (для раскрашивания) и, побормотав немного про себя, прочитала:
– Зяб-лик… Скво-рец… Лас-точ-ка…
На «Синице» спуталась, устала.
В последние дни часто поёт: «Миленький отесинька! Славненький чудесинька!» Подбежит, прижмётся.
Попалась в руки старая карточка с записями: «Буратино-Клювоносик… „Мёртвый голубочек – а как он воскреснет?” (Это мы с нею гуляли и увидели на дороге раздавленную птицу: „Как? – волнуясь, спрашивала маленькая девочка. – Как он воскреснет? Он же… расп’ющенный?”)… Иванушка на престоле…» – не помню, по какому поводу.
Чугунов пишет: кажется, у Гали проблемы с беременностью… И обо мне: «Жалею душа моя, что не выбрал времени почитать твою переписку; не жури себя напрасно и не говори лишнего. Гоголев и тот заметил, что Данчук восстановит нам эпистолярный жанр. Меня же весьма интересует твой взгляд на искусство, но более всего чуткость к слову… Читаю Карамзина – он сделал меня патриотом, то есть не думай, что я до сей поры не имел любви к отечеству, но отныне она сделалась трепетной. Хомяков укрепил это чувство в моей душе… Ты отказываешь атеистам в уме; я отказываю им и в художественном восприятии. Вероятно, Миша путает ум с остроумием, иначе непонятны его возражения. У вас, по всему, всё ещё продолжается перепалка…
Отцу Иоанну и Анастасии Антоновне нижайший поклон от всего нашего семейства… Храни вас Господь».
За дежурство на новый год я получил 76 рублей, за Рождество 20 и плюс ещё 15 рублей за свечи, что продавал во дворе во время праздничной службы.
Я стал ленив и раздражителен. Снова курю…
23.01.85
Вечер; за окном -17° и разбойничий посвист ветра. Оля написала Новиковым:
«…Благодарим вас за всё: и за поздравления к Богоявлению, и за соковыжималку, и за ленточки для Лизаньки. Голубые мы завязывали в день праздника, а красные Лизанька решила поберечь до Пасхи: „потому что Пасха ведь – красная”. Вот она и заплетёт тогда красные ленточки в свои косички. Да ещё благодарим за фотографии – рады были видеть вас хоть так – Бог знает, когда придётся свидеться воочию. Видно всё же, какие вы юные и счастливые. Да поможет вам Господь.
…Дорогие Саша и Ирина, коли вы так любезно предлагаете свои услуги, то я, пожалуй, попрошу вас кое о чём: если вам попадутся на глаза детские книжки, то купите, пожалуйста, и на долю Лизаньки и Иванушки. Разумеется, из современных авторов никого не надо, из начала века – тоже. Предпочтителен „век минувший” – Державин, Жуковский, Пушкин, Аксаков – ну, и так далее, в таком, примерно, духе. Много выходит детских книжек с рассказами Л. Толстого. Они тоже, по-моему, не совсем хороши, но часто бывают с хорошими картинками – сценками из „той жизни” – вот из-за них мы покупаем иногда и не очень нравящуюся нам по содержанию книжку. Я потом сама рассказываю Лизаньке про эти картинки. И при случае купите Лизаньке цветные карандашики; свои она все растеряла или раздарила.
…Саша, ты просишь написать, как мы готовимся ко святому Причащению. Всякое со мною случается – иногда успеваю прочесть каноны и акафисты, что делаю обычно в течение недели, а порою успеваю прочитать одно лишь „Последование ко святому Причащению”. Всегда причащаюсь недостойно: „суд себе ям и пию”. Главное, надо простить всех и почувствовать совершеннейшее своё ничтожество перед св. Чашей. Эти мысли и чувства внушают нам и предпричастные молитвы.
Да поможет вам Господь. О.»
Переписываю письмо – Лизанька стоит рядом, рисует на свободном уголке стола и вполголоса рассказывает сама себе:
– А эко лиса… Вок у ниё ухки пог хляпой (ушки под шляпой)… Палько (пальто)… А на палько – бантики… Эко вместо пуговиц… Старинное покамухко палько…
Поднимает головку и, отступив на шаг, говорит уже мне:
– Тага носили такие палько… На бантиках…
Я смеюсь:
– Правильно, Лизанька!
У Вигеля нашёл подробности об образовании особого корпуса жандармов в России. Само слово означает просто «военные люди»; у нас они явились как бы военизированной полицией, обязанной обнаруживать государственные преступления и вообще, как «внутренняя стража», обеспечивать общественную безопасность. Вигель, часть 7-я:
«Особая канцелярия по секретной части со времён Балашова /то есть в 1810–1816 гг./ существовала сперва при министерстве полиции, а при уничтожении его / в 1819 г./ при министерстве внутренних дел. Действия ея были незаметны, особенно после взятия Парижа. Все говорили смело, всякий что хотел… Жандармы обязаны были открывать всякие дурные умыслы против правительства, и если где станут проявляться вредные политические идеи, препятствовать их распространению. Кроме того, всякий штаб-офицер сего корпуса должен был в губернии, где находился, наблюдать за справедливым решением дел в судах, указывать губернаторам на всякие вообще беспорядки, на лихоимство гражданских чиновников, на жестокое обращение помещиков, и доносить о том начальству…»
Наша словесность, надо сказать, так и не воздала должного этим «винтикам государственного механизма». И в общественном мнении они с самого начала и до печального конца «всего» были и остались «кастой неприкасаемых». Не высказываемое вслух презрение, смешанное с невольным страхом перед (воображаемым) таинственным могуществом этого учреждения, было основой отношения к этим особым людям. Даже я должен почти «в голос» подавлять в себе автоматизм такого отношения, громко заявленного только после революции и ставшего аксиомой интеллигентности. К «попам», к «царю и помещикам», даже к «полицейским» преодоление пропагандистских штампов прошло легче, а в первых случаях и вовсе безболезненно и незаметно.
27.01.85
Пару дней назад был сильный снегопад; я как раз дежурил и до утра разгребал дорожки к храму и вокруг; к утру сильно потеплело, и вот уже третий день у нас плюсовая температура (+3°).
На работе – неприятности… Староста «под сурдинку» организовывает письмо владыке о бесчинстве бригадира церковных сторожей… Вызывает по одному к себе в кабинет и предлагает подписать. Не понимаю, почему он не может его уволить своею властью. Я был просто ошарашен, услышав такое предложение. Староста наш мне очень нравится: мало того, что он просто представительный мужчина – прямо православный богатырь (немного постаревший), он ещё и церковный патриот, и сидел «за веру», и мне иногда просто «помогает». Так неловко было отказываться… Особенно, когда староста заговорщицким тоном сказал: «Он ведь и к тебе с самого начала привязывался, я знаю…» Я сказал, что лучше обсудить поведение бригадира в товарищеском или, лучше сказать, в братском кругу и в лицо ему высказать все претензии (которые и у меня есть).
А Михаила Васильевича мне жаль… Он с первого дня взял меня в напарники, чтобы самому держать меня на контроле и показать мне, «сколь не сладка служба». Но тех «православных строгостей» не выдержал первым, и я покрывал все его безобразия, часто в ночные смены дежуря за него. Он давно ко мне переменился – «оценил». Кто ещё будет с таким интересом выслушивать его бесконечные рассказы о военной юности? Которая, кстати, у него необыкновенна.
Лизанька научилась произносить звук «ш», но, подменяя свои прежние «х», иногда пересаливает и говорит невозмутимо «поешали» вместо «поехали». Ведёт такие складные речи, что не наслушаюсь. Беседуем обычно в походе на молочную кухню – когда идём без санок. И за разговорами она обычно забывает пожаловаться «я устала» и попроситься «на ручки». Звук «ж» выговаривает не всегда, но зато так сочно, что жужжание затмевает собою всё слово. Пару дней назад, проснувшись и расшалясь, вдруг выговорила давно заколдованный звук «т» («д»):
– Мама, гай вогы! Мама, попить!.. Мама, вогы! вогы!.. ды… ды… Воды! дай воды!
Мы сбежались:
– Лизанька, повтори!.. Скажи «тень»!
И она, играясь, чётко произносила слово за словом. Но через полчаса всё вернулось «на круги своя».
На прогулке любит беседовать с «медведем». Просит:
– Спроси меня чиво-нибудь!
– Лизанька, – говорю я медвежьим голосом, – маленькая девочка! Скажи мне, что это такое?
Она ударяет прутиком по решётке ограды и говорит с удовольствием:
– Эко детский сад!
– А вон то большое здание?
– Эко школа.
– А что там делают?
– Кам учатся.
– Кто?
– Дети.
– Какие дети? Большие или маленькие?
– Ну, побольхэ…
– А ты куда ходишь?
– Я никуга не хожу, я – гома…
– А почему?
– Пакамухко у меня маминька домахняя…
Разговор у нас бесконечный. Затрудняясь с ответом, она беспечно пожимает плечами: «Не знаю». Тогда я подсказываю (как «реплика в сторону»):
– Спроси у отесиньки.
– Спроси у отесиньки, – с готовностью повторяет маленькая девочка, как бы обращаясь к медведю, которого я же играю – и я каждый раз удивляюсь, как всерьёз и как спокойно она принимает моё раздвоение на две роли.
– … А ещё на чём можно кататься?
– На лошадке.
– Прямо на лошадке?
– Не-е… – смеётся. – На келеге (телеге).
И спохватывается:
– Если есть сегло (седло), мохно прик’епить и – поскакать!
– А кто быстрее?
– Машинка быск’ее.
– Почему?
– Пакамухко у неё еськ мокор (мотор), а у нас неку.
– А по небу тоже можно ездить?
Смеётся:
– По небу лекаюк (летают)!
– Да? – поражается медведь. – А как летают? На чём?
– На верколёках, на самолёках…
– Как же они летают?
– Ну, – она растопыривает ручки, – самолёк на крылыхках. По земле на коёсиках разбехытся и – полетел! А у верколёка неку крылыхэк, он на мокоре лекаек (летает)…
– А нам можно полететь?
– Конехно, мохно. Если нам нага, ко они спустятся и возьмут нас…
Иванушка уже сидит уверенно, как грибок (хотя мы всё равно обкладываем его подушками – он разбрасывает игрушки, а потом тянется за ними и неизбежно кувыркается). По дивану он катается колобком, только сопит. Говорит уже: «Т-тя!»
Были у нас в гостях о. Иоанн и Анастасия Антоновна (матушка была очаровательна – в необыкновенно элегантном платье).
30.01.85, утром, в 6-м часу
Меня подняла Олечка – сонным голосом, не открывая глаз:
– Володюшка, посмотри: что-то Иванушка ворочается… Обмочился, наверное… Встань, пожалуйста, ты вчера рано уснул…
Верно. Вчера, вопреки своему обыкновению, я уснул, укладывая Лизаньку, вместе с маленькой девочкой. И Оля достирывала за меня Ивашины ползунки.
Купили вчера кресло-кровать для Лизаньки и стол на кухню (170 рублей).
Миша прислал перевод на 30 рублей – приглашает в гости («А это вам на билеты!»).
Олечка две недели писала письмо в ответ на Танино, которое мы получили ещё перед Крещеньем. Танечка писала:
«…Давно я хотела побеседовать с вами, но пока у нас гостила моя мама, никак не получалось. Вчера мы проводили её и, слава Богу, спокойно. Но всё время было очень напряжённое. И так жаль её.
На Рождество наш Володя был на службе ночью, а Леночка причастилась за поздней. Мы вспоминали Рождество 79-го года, когда вы были у нас… Как давно это было!.. А сегодня у нас был Володя Гоголев, он в отпуске. Расспрашивал о вас; мы передали ему ваш гостинец…
Леночка в последнее время стала непослушною, плохо засыпает вечером и днём. У Володи один художник спросил: зачем спасаться? И попросил отвечать не сразу, подумать. Как бы ответили вы? Помогите. Мы ответили, как могли, но он считает наш ответ неполным.
Вот, немножечко побеседовала с вами, а на душе сладкая тоска о вас, милых и родных.
Кланяйтесь от нас с благодарностью о. Иоанну и Анастасии Антоновне. Вас же нежно целуем и любим…»
Щукин ушёл из дворников и работает в библиотеке консерватории.
Оля: «…Известие о Леночкином непослушании очень нас огорчило. Как же ты, милая Леночка, не исполняешь главного своего долга? Ты этим огорчаешь не только маменьку, но и Самого Господа, потому что Бог любит смиренных и кротких.
Танечка, не пробовала ли ты давать Леночке медовую воду перед сном? Говорят, это действует успокаивающе.
…У нас были в гостях батюшка с матушкой и передали нам 30 рублей, чтобы мы отослали, Танечка, тебе – наверное, ко дню твоего Ангела. Напишите, получили ли вы сию сумму.
Милая Танечка, на вопрос вашего художника я тоже затрудняюсь ответить. Во всяком случае, он кажется мне праздно любопытствующим и только. А разве такому взгляду открываются тайны? Спасаться надо затем, чтобы жить. Вне спасения нет жизни, а одна иллюзия её. Плодотворно было бы спросить: „Как спасаться?” И отнести сей вопрос к духоносному мужу, преуспевающему в деле спасения. А так это вопрос какого-то буддиста, который верует в бездну, и бездна эта стирает в его душе и реальность Божьего мира, и реальность личности.
…Как жаль, милая Танечка, что мы живём так далеко друг от друга!
У нас всё по-прежнему. Иванушка всё такой же весёлый мальчик. Уже самостоятельно сидит, играет в „ладушки” и показывает, „как медведь головой качает”. Лизанька выучилась говорить звук „ш” и иногда даже перебарщивает с ним.
Что вы думаете о лете? Мы в растерянности и не знаем, на что решиться. И работа нынешняя Володе нравится, и Иванушка ещё очень мал… А с другой стороны, воспоминания о „том” лете тревожат сердце. Не знаем, как и быть…»
Вечером: Иванушка уже спит. Лиза с маминькой готовятся…
– Маминька, а почему, когда отесинька помолится, и ты молишься?
– А как же? Отесиньке надо спасать свою душу, и мне – мою.
– И Господь, – спешит Лизанька, – и Господь!.. Он помогает нам спасаться!
– Конечно, – говорит маминька. – А теперь давай-ка спать!
– Кухать хочу!
– Ну, вот! Что это, Лиза? Каждый вечер одно и тоже: как в постель, так «кушать хочу». Нельзя!
Они пререкаются, пока я пишу, и уходят на кухню. Я упустил минуту и теперь не хочу поднимать шума, но – ведь было же сказано «нельзя»!.. Ох, уж эта маминька!
01.02.85
Месяц Генварь у меня закончился Бальзаком: четыре романа я, между делом, проглотил в два дня. Давно у меня не было такого лёгкого и безалаберного чтения – даже невероятность страстей доставляла мне странное удовольствие. Неужели и это – катарсис?
И всё-таки: дочитан очередной том Самарина по подготовке «крестьянского дела». Такой яркой и картинной обрисовки ситуации мне доселе не попадалось:
«Рассуждая об отношении крестьян к земле, у нас очень часто ссылаются на историю; только, к сожалению, приводимые справки обыкновенно не восходят выше времён, непосредственно предшествовавших укреплению крестьян. Из этих справок образовалась следующее, едва ли не господствующее убеждение: вся земля принадлежала изстари, на праве вотчинном или поместном, великим князьям, церкви и частным лицам служилого сословия; крестьяне же не имели на неё никакого предустановленного права; они только нанимали её. Землевладельцы не обязывались никаким законом держать против воли крестьян на своей земле; а крестьяне, будучи лично свободны, могли, когда хотели, сходить с земли и переселяться на новые места.
Действительно, так – или почти так – было на Руси, начиная с XVI века до укрепления крестьян; но это было переходное состояние, время тяжёлого экономического кризиса, вызванного быстрым развитием государства и громадных его потребностей.
Народонаселение в России было издревле земледельческое, следовательно, оседлое. Кто жил на земле, кто пахал её, тот ею и владел бесспорно, не в силу отвлечённого права, а на самом деле, de fakto. Мы говорим: бесспорно; ибо всякий спор, возникающий из столкновения двух взаимоисключающихся притязаний на один предмет, предполагает ограниченность предмета /или единственность его/ и несовместность предъявленных на него требований; а пустопорожней, никем не занятой земли в те времена было столько, нарушение было так редко, что всякому легко было найти себе место, никого не тревожа. Мы говорим: de fakto – в противоположность отвлечённому праву собственности, ибо на вопрос: кому земля принадлежала? – древняя Русь не давала ответа. Этот вопрос для неё не существовал. В то время землёю пользовались, как пользуется искони всё человечество воздухом, светом и другими благами, по существу своему не подлежащими ничьему усвоению.
Из этого первобытного состояния постепенно начала выходить Россия, когда потомки призванных князей с их дружинами окончательно в ней водворились. Из безразличной массы населённых земель, мало-помалу, стала выделяться собственность княжеская, церковная и частная. Это новое отношение к земле не нарушало прежнего, фактического к ней отношения оседлых земледельцев. Право собственности не сталкивалось с бесспорным владением, ибо первое, так сказать, воздвигалось над вторым; оно более и более выяснялось в своих применениях, в формах дарения, обмена, отдачи в поместное владение и распространялось в ширину…
При этом, однако ж, ещё долго удерживались в разных местах остатки прежнего владения, признанного верховною властью под названием чёрных волостей, т. е. таких земель, которые не составляли ничьей личной собственности и которыми, по старине, владели водворённые на них жители.
Отношения вотчинников и помещиков к поселянам, которых они застали на земле, были весьма немногосложны: они ограничивались сборами разного рода и, обыкновенно, судом и расправою. Личная, весьма слабая зависимость поселян от вотчинников и помещиков истекала из зависимости поселян, как подданных, от представителей верховной власти и органов её – служилых людей. Как лично-свободные, крестьяне могли переходить с места на место; этого права у них никто не оспаривал; но мы не видим частых переходов, потому что не было поводов, не было крайней для них нужды покидать земли, которых никто у них не отнимал и в пользовании которыми никто их не тревожил.
Между тем усвоение земель подвигалось быстро, и поместная система развивалась в широких размерах. Иначе и быть не могло в те времена, когда раздача земель, заменяя денежное жалование, представляла почти единственный способ вознаграждения за государственную и частную службу. Все потребности быстро возраставшего государства удовлетворялись с земли… По мере возвышения требований правительства изыскивались и изощрялись средства к извлечению из земли возможно большей прибыли. Таковых средств, при тогдашних обстоятельствах, было два: умножение народонаселения привлечением крестьян и возвышение их повинностей. Правда, что одно другому противоречило, ибо крестьяне приманивались обещанием льгот, а увеличение требований пугало их и подавало повод к опустению дворов; но оба средства совпадали друг с другом в конечных своих последствиях, и действие их на быт простого народа было одинаково. Они постепенно ослабляли прежнюю историческую связь земледельца с землёю, приучали его к бродячей жизни и подрывали оседлость… Таким образом частые переходы с места на место вошли в обычай и получили законную форму» (Юрьев день! – ну, а дальше – понятно).
08.02.85.
У Иванушки прорезался зубик! То-то он так плохо в последние ночи спал (как-то мы по очереди укачивали его более трёх часов). У Лизы зубки появились лишь на 11-ом месяце.
А Лизаньке мы всё книжки покупаем, у неё уже своя библиотечка (сегодня купил стихотворения Пушкина, Толстого А., «Кавказского пленника» Л. Толстого и «Героя нашего времени»). Наиболее излюбленное чтение сейчас для неё – «Три медведя» А. Толстого, читали уже раз десять. Какая она милая и нежная девочка! Говорит:
– А Иванушка лучше всех!
– Это почему?
– Потому что он маленький.
Я как-то скаламбурил, а теперь Лизанька повторяет:
– Почему говорят «кухня»? От слова «кухать»!
Хотя сама всё чаще выговаривает «ш».
Записываю «Лествицу»… Мы читали её несколько лет назад, но тогда у нас шли горячие споры об аскетике, и игумен горы Синайской являлся нам, скорее, «камнем претыкания» и «яблоком раздора». Теперь всё иначе. Правда, Олечка, как и тогда, проливает над книгою сладкие слёзы – то восторга, то умиления, то обличение «оружием проходит её сердце» – но теперь у нас равные вдохновения… Я порою не верю глазам своим: ведь это VI век! Преподобный Иоанн Лествичник:
«…от новоначальных послушников Бог не ищет молитвы без парения. Поэтому не скорби, будучи расхищаем мыслями, но благодушествуй и непрестанно воззывай ум ко вниманию; ибо никогда не быть расхищаему мыслями свойственно одному Ангелу…
Иное есть смирение кающихся, исполненное сетования; иное зазрение совести ещё согрешающих; и иное – блаженное и богатое – смирение которое особым Божиим действием вселяется в совершенных… Признак же второго состоит в совершенном терпении бесчестий…
Начало блаженного незлобия – сносить бесчестия, хотя с огорчением и болезнию души. Средина – пребывать в оных беспечально. Конец же оного, если только оно имеет конец, – принимать поношения, как похвалы. Да радуется первый; да возмогает второй; блажен о Господе и да ликует третий.
…Если бы ты увидел кого-нибудь согрешающего даже при самом исходе души из тела, то и тогда не осуждай его; ибо суд Божий неизвестен людям. Некоторые явно впадали в великие согрешения, но большие добродетели совершали втайне; и те, которые любили осмеивать их, обманулись, гонясь за дымом и не видя солнца.
…Послушайте меня, послушайте, злые судии чужих деяний: если истинно то, как в самом деле истинно, что имже судом судите, судят вам (Мф. 7,6) – то, конечно, за какие грехи осудим ближнего, телесные или душевные, в те впадём сами; иначе и не бывает.
…С новоначальными телесные падения случаются обыкновенно от наслаждения снедями; со средними оне бывают от высокоумия и от той же причины, как и с новоначальными; но с приближающимися к совершенству оне случаются только от осуждения ближних.
…Есть в нас некая смерть и погибель падения, которую мы всегда с собою и в себе носим, а наиболее в юности. Но погибель сию я не дерзнул предать писанию, потому что руку мою удержал сказавший: бываемая отай от некоторых срамно есть и глаголати, и писати, и слышати.
…Склонные к сладострастию часто бывают сострадательны и милостивы, скоры на слёзы и ласковы; но пекущиеся о чистоте не бывают таковы.
…Бесчувственный есть безумный мудрец… беседует о врачевании язвы, а между тем беспрестанно чешет и растравляет её; жалуется на болезнь и не отстанет от вредных для него снедей; молится о своём избавлении от страсти и тотчас исполняет её на самом деле… О смерти любомудрствует, а живёт как бессмертный… Читает слово против тщеславия и самым чтением тщеславится… Хвалит молитву и бегает от неё, как от бича…
…Иное дело – сокрушение сердца; другое дело – самопознание; а ещё иное – смирение.
Сокрушение происходит от грехопадения. Падающий сокрушается и, хотя бездерзновенен, однако с похвальным бесстыдством предстоит на молитве, как разбитый, на жезл надежды опираясь и отгоняя пса отчаяния…
Рассуждение в новоначальных есть истинное познание своего устроения душевного; в средних оно есть умное чувство, которое непогрешительно различает истинно доброе от естественного и от того, что противно доброму; в совершенных же рассуждение есть находящийся в них духовный разум, дарованный Божественным просвещением…»
Его «Слово о целомудрии» похоже на поэму – здесь, кажется, даже переводчик забыл о своём важном косноязычии. Вот, о своей смертной плоти поёт древний инок:
«Она и друг мой, она и враг мой; она помощница моя, она же и соперница моя; моя заступница и предательница. Когда я угождаю ей, она вооружается против меня. Изнуряю ли её, изнемогает / лучше: изнемогаю сам/. Упокоиваю ли её, бесчинствует. Обременяю ли, не терпит. Если я опечалю её, то сам буду крайне бедствовать. Если поражу её, то не с кем будет приобретать добродетели. И отвращаюсь от неё, и объемлю её. Какое это во мне таинство?.. Как я сам себе и враг, и друг? Скажи мне, супруга моя – естество моё…»
Оля записала:
– Маминька, а зачем Господь посылает болезни?
– Для очищения.
– А если человек чист?
(Скорее всего, Лизанька сказала «чиск» или «чиский»).
– Из всех людей одну только Богородицу зовут Чистою…
11.02.85
Ходили с Лизанькою на детскую кухню – морозно (-18°) и солнечно, с ветерком. Лиза дня три сидела дома, отвыкла от зимы и морщилась, чуть не плача:
– Отесинька, на меня ветер гует! Прямо на щёчки!
Я занимал её разговорами, отвлекая. Она прислушивалась, личико разглаживалось, хотя кудрявая прядь по-прежнему взлетала над чистым лобиком. И разошлась, разрумянилась. Попыталась прокатиться на валенках по дорожке – упала. Встав, сказала:
– А помнишь, перег зимой льду было!..
Всё меня поразило в этой фразе: интонационное построение смысла, и ясное и чёткое «льду».
Зашли в книжный магазин:
– А што написано на большой карточке?
На пластмассовой табличке официальная надпись «Закрыто».
– Такими большими буквами, а?
– Давай вместе прочитаем?
– Давай!
– Какая первая буква?
– «З»…
– А вторая?
– «а»…
И не дожидаясь вопроса:
– «За…»
Я подсказал ей только две буквы: «р» – перед которой она всегда останавливается в смущении, ибо плохо её произносит, и «ы». Две последние буквы она прочитала, не возвращаясь к началу слова – торопясь, сложила в слог и закончила:
– За-кры-то… А на другой стороне, наверное, написано «от-кры-то»?
Сообразила! Я расхохотался на весь магазин. На нас заозирались.
По дороге домой пыталась снова прокатиться на валеночках. Не всегда получалось:
– Потому что снег, – сказала с сожалением. – А у меня всё равно коньки!
Эту тему я знаю чуть ли не наизусть.
– Где же они? Что-то я их не вижу.
– А их не видно! Они же волшебные.
– Волшебные? – удивляюсь я. – Откуда у тебя волшебные коньки?
– Мне великан подарил, – со значением на слове «великан» отвечает Лизанька и покачивает головою.
– Великан? – продолжаю удивляться я. – А где ты его нашла?
– В пещере, – важно отвечает она и тут же оживляется. – Помнишь, я в пещеру лазила? Мальчики вырыли снежную пещеру, а я лазила.
– Помню. Но разве там был великан?
– Там был великан! Это его пещера. Он там живёт.
– А он большой?
– Большо-о-ой, – тянет она.
– Больше меня?
– Больше, – с убеждением говорит Лизанька и смотрит на меня, как бы примеривая. – Он – как девочка Сена. Они же чуть не до Луны!
– Как же он поместился в такой маленькой пещере?
– Она же длинная… – начинает объяснять она, но такое объяснение не устраивает и её. Вскрикивает:
– А там комната была!
– Что? – не понимаю я.
– Комната там была. Больша-ая!
– Ну, и что ты делала в гостях у великана?
– Ничего, – пожимает она плечами. – Погостила и ушла.
До дома ещё далеко, и такой короткий сюжет меня не устраивает.
– Но ты же поздоровалась с ним?
В последние дни учу её здороваться. Привычки у неё ещё нет, поэтому она растерянно говорит:
– Да…
Но тут же оживает, с лукавым выражением пригибается, как бы входя в пещеру, и, ступая на цыпочках, говорит театрально:
– Здравствуй, великан!
– А он?
– Здравствуй, Лизанька! – изображает она великана (почему-то тонким голоском).
– А потом?
– А потом пошли на кухню и пили чай.
Что и говорить, жизненное наблюдение, вплоть до «пошли на кухню».
– А как он дал тебе волшебные коньки?
– Я попросила… – и, углубляясь в своё воображение, говорит с туманной полуулыбкой. – У него там большая комната… и у стены стоит большой ящик… Там много-много разных…
Я жду слова «вещей», но она неожиданно заканчивает:
– …Приступочек!
И сама смеётся. Слово «уступ» она услыхала от меня минут 10 назад и вот – воспользовалась. Но я понимаю, о чём идёт речь.
– Там были и коньки?
– Да, там были коньки… Я попросила… – и тут она начинает говорить жалобным голосом. – Великан, великан! дай мне, пожазу… позажу… по-жа-луй-ста, коньки!.. Он выписал и дал мне.
«Выписываем» мы детское питание – каждый месяц в поликлинике.
– Но зачем ему свои коньки выписывать? – смеюсь я.
– Потому что никак не вынешь, если не выпишешь, – это туманное объяснение она, тем не менее, произносит поучающим тоном.
– Щедрый великан, – говорю я с признательностью. – Не сходить ли нам к нему в гости?
– Нельзя, – с сожалением отвечает она. – Его увезли. Пещеру увезли. Взяли, – она размахивает ручками, – большую лопату и раз-раз! погрузили на машину. А великан – топ, топ! – забрался в кузов… Сел около пещеры и поехал! поехал!
– Жаль… Далеко он поехал?
– Не знаю, – она пожимает было плечиком, но тут же вспоминает и снова поднимает ко мне румяное, весёлое личико, возбуждённое морозцем, быстрой ходьбой и интересным разговором. – В Сузгаль! Конечно, в Сузгаль!
И добавляет, словно это очевиднейшее дело:
– Куда же ему ехать, как не в Сузгаль! Это же далеко-далеко, почти на конце улицы!
– Далеко, – соглашаюсь я. – Что ж, он теперь и жить там будет?
– Он там теперь всегда жить будет, – вздыхает Лизанька.
– А летом? – спрашиваю я, рассчитывая огорошить её известием, что пещера растает.
– И летом… Потому что там снег никогда не тает.
– Хм. Вот так Суздаль. А травка там растёт?
– Да.
– А лето?
– Лета не бывает.
– Э, не складно! Раз лета не бывает, то и травки не бывает.
– Нет, бывает… – задумывается она, но придумать не может. – Бывает…
Мы уже пришли, и я говорю:
– Странный город это – Суздаль!
– Странный, – соглашается она и веселеет. – Это очень странный город!
13.02.85, собор Трёх святителей
После очередного тома Людвига Тика и прозы Жуковского я добрался, наконец, до Житий святых. Месяц «Август», любопытное примечание:
«Становясь на строго определённую историческую позицию, должно заметить, что 1-го Августа православною Церковью совершаются два торжества, различные по своему происхождению: 1) происхождение Честного и Животворящего Креста Господня и 2) празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице… по причине болезней, весьма часто бывавших в Августе /Азия-с!/, издревле утвердился в Константинополе обычай износить честное древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и в предотвращение болезней /т. е. «происхождение» означает просто «прохождение по улицам»/. Накануне, 31-го Июля, износя его из царской сокровищницы, полагали на святой трапезе великой церкви (т. е. св. Софии). С настоящего дня и далее до Успения Богородицы, творя литии по всему городу, предлагали его потом народу для поклонения. Это и есть предъисхождение честного Креста…
Этот обычай, в соединении с другим обычаем Константинополя – освящать в придворной церкви воду первого числа каждого месяца /в Генваре – 6-го, в Сентябре – 14-го/, и послужил основанием праздника в честь святого и животворящего Креста и торжественного освящения воды на источниках, которое совершается 1-го Августа /в России служба Кресту появляется в XIV–XV вв. с введением Иерусалимского Устава/…
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице установлено в Греции и России около 1168 года в память знамений от честных икон Спасителя и Богоматери во время сражений греческого царя Мануила (1143–1180) с сарацинами и князя Русского Андрея Боголюбского с болгарами в 1164 году».
Я выписал ещё несколько примечаний исторического характера: о причине Маккавейских войн, об Эфесе, о первых лаврах («ряд келлий, окружённых оградой»), о книгах «Лимонарь» и «Синаксарь» (синаксис – собрание) – и целый эпизод из жития преп. Пимена Великого («… говорю вам, что если вы увидите что и очами своими, не давайте тому веры», т. е. не так легко верьте греху ближнего).
Вчера перед сном говорю ей:
– Может, песенку споём?
– Давай споём, – и смотрит на меня с любопытством.
– Какую ты хочешь?
– Крёстного песенку… какую я не знаю…
– Да таких песен и я не знаю!
Мы поём «Пела, пела пташечка…» и «На заре туманной юности». К моему удивлению, она довольно точно помнит стихи, только в некоторых местах гудит.
– Ага, не знаешь!
– Знаю!
– А почему гудишь?
Она смеётся тоже, чуть запрокидывая головку, и снова удивляет меня:
– Гужу!
Получили письма: от Щукиных – Танечка пишет, что к ним приезжал Чугунов, была радостная встреча («с какой любовью встретились!»), подарил им два дня – «столько полезных бесед»; приезжал к ним и о. Константин с Алтая – «какой он свободный художник в душе!» (в самом деле, познакомившись поближе с церковной жизнью, я с удивлением обнаружил, что священники – в общем-то, изгои в обществе – как раз и пользуются наибольшею свободою, хотя живут под ферулою двух дисциплин).
От Чугунова: я прихожу в изумление от того списка книг, которые он успевает проглатывать от письма к письму: К. Аксаков, И. Киреевский, С. Шевырёв, Розанов, Нилус, Карамзин… Купил нам «Критику» Страхова, умница. Я уже ответил ему:
«…Вот наши новости: у Иванушки прорезались зубки, у Лизаньки исправляется речь, она уже не путает „х” и „ш”, временами выговаривает и другие „трудные буквы”, но – мне жаль её милого лепета…
Что ж ты не пишешь, как у вас с деньгами? Я спрашивал, мне надо знать, ибо я должник твой и не должен испытывать прочность братского великодушия. Знаю, люди предпочитают умалчивать о своих «сокровищах», почему-то денежные дела считаются наиболее щекотливыми (проще говоря, языческая тень магической боязни), но я обычно на проявленный интерес отвечаю прямо, «сколько я стою». Вспомни: когда во время голода пророк Илия пришёл к вдовице и попросил покормить его, она ответила: «Жив Господь! Разве есть у меня где хлеб в потаённом месте? У меня нет ничего, кроме горсти муки и небольшого количества масла в сосуде». Святой Иоанн Златоуст пишет по этому поводу: «Замечательно уже то, что несмотря на такую скудость, она не утаила бывшего у ней небольшого остатка пищи…» В таком доверии есть замечательная сторона: не утаивая имения, человек как бы отказывается от него, как бы признаёт права других на его имение – право общего пользования тем, что ему принадлежит, чем он владеет, как Божиим даром.
Жив Господь! скажи же мне, могу ли я ещё надеяться, что долг мой необременителен для вас?..»
17.02.85, неделя мясопустная
Стемнело, но мы идём кататься на горку. Довольная, бежит рядом:
– Как зимой весело, да?
– Отчего ж тебе весело?
– На санках можно кататься…
Речь у неё яркая, сочная; особенно те звуки, что лишь недавно стали выговариваться.
Сажусь на санки, Лиза вскарабкивается мне на колени, и мы летим вниз. Она хохочет от восторга, кричит:
– Понеслись!
Взбираемся обратно. Я тащу санки, она бежит впереди, смешно петляя ножками. Оборачивается, замёрзшие губки улыбаются:
– Давай ещё дальше проедем! Вон туда!..
Машет варежкой:
– Вон до того дома!
Я киваю:
– Попробуем.
– И прямо в дом! Как стукнемся! И сломаем дом!
– Ломать нельзя.
– Почему?
– Там люди живут.
– А как же? Как же мы стукнемся?
– Стукнемся и отскочим. Как мячики.
Хохотнув согласно, она кивает и снова бежит вперёд. За дорогою, в неровной темноте неба, высится чудовищная чёрная громада недостроенного дома.
– А давай мы этот дом сломаем? Строители будут строить, а мы ломать!
Что за фантазии? Вот прицепилась: сломать и сломать! Пытаюсь вернуть её к реальности:
– Как же ты его сломаешь?
– А мы… – она останавливается, вдохновенно поднимает ручку, – а мы… А мы возьмём другой дом и положим сверху!
Что называется, выход! Я смеюсь.
– Давай?
Ну, что ты будешь делать?
– Давай!
– Ну? – она вдохновенно смотрит на меня блестящими глазками из-под меховой шапки, вся – ожидание и порыв. – Пойдём?
– Куда пойдём?
– За домом!.. Дом брать! А?
У меня был хлопотливый день: с Олечкою ездили к ранней обедне, к поздней я один повёз Лизаньку, после обеда – втроём ходили в погреб за картошкой и соленьями.
У Лизаньки появились коньки (Вадим подарил – странный парень! лет, наверное, за тридцать; говорит, что служил на границе, там как-то «получил по черепу» и с тех пор на пенсии; мать верующая – он и прибился к церкви; на все руки мастер, только вот запивает время от времени; матушка его – маленькая, сухонькая старушка – мне кажется необыкновенно красивой, как фея из сказки; сына обожает безмерно, видит в нём великие таланты).
25.02.85, Чистый понедельник
Лизанька заболела; был нынче врач, сказал: «ветрянка». Против пупочной грыжки велел делать массаж. Олечка сразу преисполнилась уважения к нему.
Иванушка уже самостоятельно стоит в кроватке – и подолгу; потом коленки у него подгибаются, он оседает с жалобным криком и падает. Сегодня я дал ему пожевать рогалик – он съел едва ли не половину и ни разу не поперхнулся. Значит, будет теперь «ясти» хлеб.
Не курю. Мы с Олечкою нынче голодаем. И завтра.
До поста я успел прочитать на русском: Шевырёва – об античной поэзии, на немецком – два романа: Сенкевича «Qvo vadis?» и странную книгу о бароне Теодоре Нейхофе, побывавшим в роли короля Корсики. Правда, всего полгода – но неужели это не выдумка, а исторический факт? Настоящий авантюрист – в XVIII веке! Французский гвардеец, шведский офицер, испанский полковник, в Париже – приятель великого спекулянта Джона Лоу (я так и не понял, в чём порочность его системы – разве что в жадности?), наконец – король Корсики, политический беглец в Голландии и узник долговой тюрьмы в Англии. С удивлением узнал, что Корсика стала французской лишь в 1768 г. – за год до рождения Наполеона.
04.03.85
«Сказку о царе Салтане» Лизанька едва ли не всю знает наизусть; часто, играя, шепчет или бормочет вполголоса строки оттуда; часто просит почитать её.
А вот парами приставляет стулья к креслу:
– Это что у тебя такое, Лизанька?
– Автобус.
– А почему в нём никого нет?
– А потому, что я… я с авто… – спотыкается, но выговаривает, – с автостанции ещё не съехала… А ты знаешь, чем у меня автобус питается? Совсем не бензином!
– Чем же?
– Пищей! – смеётся.
Бегает с книжкой в руках и «читает» вслух что-то маловразумительное.
– Что ты читаешь, Лизанька?
– Это стихи. Хорошие!
– Ну, почитай.
– Потом…
И, отбегая, снова бормочет ритмическую абракадабру. Но вот прибежала с торжеством – глаза горят, волосики дыбом:
– Послушай, послушай, отесинька!.. Вот какое стихотворение… «Солнце и вечер» называется.
И декламирует, помахивая зажатой в руке книжечкой:
– Пост Великий наступил… И пришёл порою той… И Господь пришёл на землю…
Смешалась, добавила несколько «таинственных» слов и замолчала в ожидании.
– Хорошее стихотворение, – хвалю я.
– Вот!.. – удовлетворённо говорит она и, крутнувшись, убегает.
Но авторское самолюбие ещё не совсем удовлетворено. И вот она уже стоит перед кроваткой, в которой сидит толстячок Иванушка, с тою же книжкой в руках и декламирует ему что-то длинное и непонятное, но по-прежнему ритмичное. Прислушиваясь, я разбираю: «…Наступила Пасха там…» Гляжу: Иванушка доверчиво смеётся, во все глаза таращась на сестрицу. Она напряжённо глядит, шевелит губками и вдруг, подобрав рифму, выпаливает:
– Он гуляет по волнам!
Оля трудилась вчера вечером: «Милая Танечка!.. Поздравляем вас с „весёлым временем” Великого поста. Володя вычитал в книге для священнослужителей, что так называют этот пост в молитвах. Мы по очереди ходили слушать чтение Великого покаянного канона св. Андрея Критского. В пятницу были на общей исповеди, а сегодня причащались. Когда чаще посещаешь Богослужение, то появляется такое ясное и твёрдое чувствование живой Церкви Христовой. Жив Господь, и по-прежнему чиста сердцевина жизни православной, питаемая благодатными древними соками первохристианства.
Мы тоже очень скучаем о вас. И уже поговариваем с Володею, как бы нам навестить вас. На масляной неделе слушали песни вашего «отесиньки» – так живо помнитесь вы все!
Ты опять пишешь о Леночкином непослушании… Огорчительно. Надо сказать, что и со мною Лизанька не так послушна, как с Володею. Володя считает, что это оттого, что мы ведём себя с детьми на равных, в то время как между нами и ними должно быть расстояние. Сегодня я читала Житие библейского пророка Самуила, там Господь наказал Своего священника, человека чистой и праведной жизни, за то, что он не применял к своим детям физического наказания, а уговаривал только словами, которых они не слушали, и, наконец, не стали иметь перед ним никакого страха. Дитя – существо безнравственное /я бы сказал: вненравственное/, и взывать к его совести бесполезно. Оно должно постоянно чувствовать нашу власть над ним. Это чувствование внешней властной силы над ним успокаивает его и делает удивительно разумным. И, наоборот, когда этого чувства сдерживающей и направляющей силы нет, то ребёнок становится и неуправляемым, и даже жестоким. Конечно, эта власть мудрой родительской любви тяжела для нашей души. Но ведь не зря Церковь, при воцерковлении ребёнка, вручает нам его „на подвиг”. Я очень часто устаю от этой власти, и мне так хочется поговорить с Лизанькою, „как с Танечкою или как с Володюшкою”. Но ответом на такие попытки бывают холодность и недоумение. А вот с расстоянием – и горячие ласки, и разумные речи, и послушание. Мне кажется, если бы Володя (Щукин) принимал более участия в воспитании Леночки (да простятся мне эти дерзкие слова – может быть, у вас всё иначе!), то она была бы спокойнее и послушнее. Всё-таки в мужском характере более твёрдости, постоянства и, главное, самостоятельности и свободы. В нас же эти качества – как бы против природы.
Милые наши друзья, так хочется увидеть вас! Может быть, вы навестите нас? Нам теперь так трудно собираться (с малышом), а вы всё же люди более свободные.
…Да хранит вас Господь и Пресвятая Дева.
Кланяемся вам низко и нежно целуем. О.
P. S. Лизанька трудится над письмом к Леночке»
08.03.85
Наконец-то потеплело! Хотя немного и жаль: при двадцатиградусном морозе стояли такие ясные, хрустально солнечные дни.