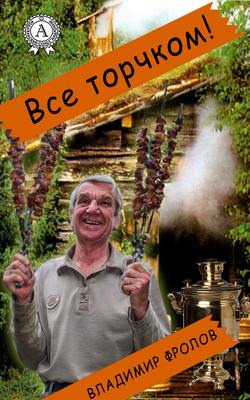Читать книгу Всё торчком! - Владимир Фролов - Страница 3
ПОДЪЕМ
ОглавлениеРодился в 41-м, РСФСР, село Нарышкино Бековского района Пензенской области. Село как село, та же разрушенная церковь, та же пучинистая грязь на дорогах в мокроту и вьюжная пыль по теплу, те же удручающие по количеству ниже скромного избы средней полосы России. Но вот про название района нашего я довольно часто, став взрослым, слышал далеко от дома такую поговорку: «Жизнь Беково – как бы это помягче выразиться – тебя сношают, а тебе некого. Вообще-то мы жили не в селе, а рядом, была такая административно-территориальная единица с неуклюжим названием эпохи индустриализации как «поселок сахзавода» – он и сейчас есть. Жили без отца, я его даже не видел – родился в августе, а он был убит в июле того же года, не сделав ни одного выстрела, разбомбили эшелон с новобранцами, едущими на войну. Слава Богу, успел оформить продаттестат. Двое малолетних детей (брату Геннадию был один год), мама, дедушка и бабушка. Сперва занимали полную трехкомнатную (по сельским меркам) квартиру, но после смерти дедушки в 1945-м нас уплотнили и в большую комнату вселили целую семью из 4-х человек.
Да, так вот сороковые – пятидесятые… Нет никакого открытия в том, что у любого человека моих лет и старше бывшего Союза при упоминании того времени непроизвольно распахивается память того разного прошлого со своими саднящими душу картинками. Я лично помню в нашем поселке огороженный колючей проволокой барак с немецкими военнопленными и пугающим меня рельсом-колоколом, телегу барахольщика с притягивающими нас, пацанов, рыболовными крючками и серебристыми мячиками – мандаринками на резинке, громадные костры цыган в рощице возле школы с их «Лудить, паять, кастрюли-ведра чинить!», игры в металлические пуговицы и в стенку. Потом, чуть позже, ловля синиц сеткой и клеткой, рыбалка, заготавливание сухих сосновых шишек для растопки зимой, собирание коробков от спичек, выигранный в лотерею велосипед (о, это было счастье!), увлечение фотографией – у меня появился «Любитель». В конечные годы средней школы занимался в клубном детском ансамбле песни и пляски с прекрасным названием «Молодой дубок», даже был солистом. Впоследствии меня еще довольно долго, до женитьбы, тянуло на народную сцену в разных ипостасях – запевала, конферансье, чтец стихов, участник местного КВН и, наконец, агитатор-пропагандист атомной энергетики.
Мама первоначально работала в госпитале, затем, когда нужда в его надобности отпала, – в детском доме воспитательницей. Разнервничавшись в течении дня на чужих детей и приходя взвинченной домой, она порой возмещала на нас с Генкой запрещенное рукоприкладство на работе. Для этого на вешалке в первой комнате всегда висела бельевая веревка. Уж не помню, часто ли мы были пороты, но зримо запомнился всегда повторяющийся по одному и тому же сценарию финал – ее слезы.
Защищала нас, как и положено, бабушка, по материнской линии, Галина Станиславовна Панкратьева (в девичестве Пекарская, дочь титулярного советника) с институтом благородных девиц за плечами при живом муже-сахарозаводчике, естественно, никогда не работавшая. Высоко грамотная, начитанная, с каллиграфическим почерком, играющая на пианино, она была полькой по национальности и постоянно подмешивала в свою речь ихнее пшеканье. После смерти мужа в 1945-м году и, значит, крушения более чем тридцатилетнего семейного единения, она постоянно начала работать сначала ученицей (это в пятьдесят-то с лишним лет!), а потом лаборанткой в химлаборатории сахарного завода, где ее Михаил Иванович в свое время был главным инженером. (Ну как же можно было прожить на 23 рубля государственной пенсии). У меня от деда сохранилась его паспортная книжка, выданная 1-го февраля 1910-го года с последней записью от июня 1919 г. и штампом «Паспорт выдан 1932» – весьма интересный документ.
В доме было оживление, когда бабушка изредка приносила с собой с завода марлевый узелок на 200–300 грамм желтого от патоки сахара в комочках с отходов при сушке – у нас они назывались «грудки». Брать большее количество и постоянно ей не позволяла совесть. Она была завсегдатаем киносеансов в клубе со своим закрепленным за ней стулом, выписывала кроме «Советского экрана» газетного типа малоформатный журнал «Кино», издававшийся на русском языке аж в Паневежисе, играла в любительских спектаклях, изредка пописывала в районную газету. Пользовалась всеохватным авторитетом в поселке и даже алкаши, стрелявшие у нее довольно часто «по рубчику», завидев ее, тотчас прекращали материться и заискивающе здоровались. Помню, она рассказывала, что в начале тридцатых голодоморных годов они жили на Черкашине, Украина, и она занималась тем, что обменивала на продукты свои фамильные драгоценности. «Сначала имела дело с евреями, – говорила она, – все было нормально. Потом меня познакомили с русскими и через день после этого пришли гэпэушники с обыском и забрали все, что только можно было забрать, даже серебряный портсигар мужа с именной монограммой – подарок за хорошую работу. Только кое-что осталось, что было на ней и немного столового серебра, оно лежало вместе с другой грязной посудой. И вроде бы все тщательно переписали, и говорили, что если подтвердится, что вещи не ворованные (?), они все вернут. Возвращают до сих пор. Наверно, это воспоминание зародило во мне скрытую нелюбовь к этой многочисленной братии, хотя мы, совдеповцы, не могли, к сожалению, в подавляющем большинстве складывать свою жизнь без их участия.
Но об этом потом.
Она мне, уже ставшему где-то за двадцать пять, однажды задала вопрос, на который я до сих пор не могу дать положительный ответ: «Ты мог бы отличить вкус чая, помешанного обычной, нержавеющей или мельхиоровой ложкой, от стакана чая с серебряной ложкой?». О том, что у нее в доме могут быть алюминиевые ложки, она и представить не могла. И подарила мне эту ложку.
Умерла она 82 лет от роду, я еле-еле вырвался на похороны, был по работе за границей, но не присутствовать на последнем ее часе на этой земле я не мог – слишком велико было (и есть!) ее влияние во мне.
(Продолжая тему старинных серебряных чайных ложек у меня в домашней утвари, скажу, что две из них в своё время я подарил на крещение внуку Гришульке и внучке Лизоньке с соответствующей гравировкой, сказав их мамочке, что чайные ложки у меня закончились, но есть ещё одна десертная и две столовых, также антикварных, с громкими именами их производителей).
Немного знал я и родителей отца – Марию Митрофановну и Евгения Егоровича Фроловых из села Колонтаевка Льговского района Курской области, мы были у них с матерью пару раз до их кончины. У них был собственный дом с садом, землей, скотиной, пасекой и многочисленная родня рядом – трое сыновей, моих дядек, со своими семьями. Наверное, я хотел бы так думать, что наш род продолжает тех Фроловых, о которых писал Александр Твардовский в поэме «Страна Муравия»:
– Мой дед родной – Мирон Фролов —
Нас, молодых, бодрей.
Шестнадцать пережил попов
И четырех царей.
И далее:
Шли, заполняя белый свет, —
Жить не при чем в семье,
Брели, – и где нас только нет,
Фроловых, на земле!
Живут в Москве и под Москвой,
В Сибири от годов.
Есть машинист, есть летчик свой,
Профессор есть Фролов.
Есть агроном, есть командир,
Писатель даже есть один.
Я не помру от скромности, если, расхрабрившись, возьму и дополню глубоко уважаемого мной и любимого Александра Трифоновича, (не выдержал прессинга совдепии, покончил с собой), следующим современным двустишьем:
И от чернобыльских оков
Есть ликвидатор – инженер Фролов.
Но вернемся к названию этой главы. В 1958 году я неплохо, с одной тройкой, окончил среднюю школу и по сокровенному желанию матери с подталкиванием от райвоенкомата поехал поступать в Высшее Военно-Морское инженерное училище в г. Пушкин, Ленинградской области. Перед этой серьезной поездкой я побывал в Пензе, областном центре, где мне сделали первую в жизни операцию – вырезали гланды, говоря, что без этого я не пройду военную медицинскую комиссию. Операция была первая, но далеко не единственная, как оказалось. впоследствии жизни. Возвращался оттуда на жутко мотылявшемся в воздухе кукурузнике. Меня, еще с незажившим горлом, с температурой, вывернуло наизнанку, я шел потом, спотыкаясь, наискосок заросшего по колено полевого аэродрома и как только мог клял и того заезжего каперанга-наборщика, что склонил мою мать к принятому решению, когда выступал в школе, и райвоенкомат, и себя, и все на свете – ведь я вдобавок при этом не попал в школу на последний звонок! А через 2–3 дня я уже катил бесплатно в составе областной группы – раньше так было- на сдачу экзаменов в очень престижное по тем временам заведение. Какого-то срока на бдения по детству и прихождения в себя жизнь не выделяла. Все нормально, торчком!
До сих пор удивляюсь, как я, окончивший, будем говорить, ниже разрядную среднюю школу в забытом Богом поселке, смог с первого заезда – в группе были по второму, третьему заезду – сдать вступительные экзамены по шести (!) предметам. Конкурс был что-то около 4–5 человек на место, меня приняли.
Откровенно говоря, я лично не хотел быть военным, но эта тягомотно довлеющая нужда в семье с материнским практицизмом вывести меня в люди за счет полного государственного обеспечения навсегда отсекла юношескую мечту стать археологом. Что ж, наверное, это было правильным тогда, но все равно меня хватило быть военным только на два года. И поспособствовало моему превращению в студенты весьма странное стечение обстоятельств (как я думал – до поры до времени).
Дело в том, что по весне 1960 года вышел закон о новом, значительном сокращении Вооруженных Сил СССР на 1 млн. 200 тыс. чел. И где-то в апреле нам, второкурсникам, объявили, что кто желает быть уволенным после окончания курса, просьба подавать рапорты. Таковых оказалось вместе со мной половина курса. Мы сдали экзамены и тут началось что-то непонятное – нас ни на практику не отправляли, ни отпускали в отпуск, ни сообщали решения по рапортам. Это зависание длилось уже вторую неделю, когда я, возвращаясь с волейбольной площадки, наткнулся на командира роты и начальника факультета, который арестовал меня на 5 суток за нарушение формы одежды – я был без гюйса, в кедах и без бескозырки (у меня до сих пор хранится «Записка об аресте»). И сопроводили меня на гарнизонную гауптвахту, где я был в разряде тех, которым надлежало «горячую пищу давать ежедневно», как было указано в «Записке».
После отбытия положенного пожилой мичман-сверхсрочник, фронтовик, вновь привел меня в училище и – о, ужас! – я в своей роте никого не обнаружил, даже дневального. Наконец появился какой-то старшина, не наш, он объяснил мне, что никакого увольнения не состоялось, все уехали на практику. «А тебе немедленно приказано по форме № 1 явиться к начальнику училища», сказал он. Я немного струхнул, но делать нечего, начистил асидолом якорьки, бляху, прогладился и подался на «чистую половину», я там был раньше несколько раз в карауле у знамени. Начальник училища контр-адмирал Степанов спросил, не передумал ли я о своем рапорте и, получив утвердительный ответ, вручил мне заклеенный пакет в военкомат по месту жительства, другие бумаги по обучению и расчету и, пожелав счастливого пути, отпустил на все четыре стороны. Через полчаса меня уже не было на территории училища, и я сидел в электричке на Ленинград. Затем Москва, сдача документов в приемочную комиссию энергетического института и, наконец, я дома, уже не курсант, но еще и не студент, решение – на какой курс меня зачислить – должно было быть принято к 1 сентября и сообщено мне письмом-вызовом на учебу (была середина июня 1960-го года).
Очень важное и необходимое здесь отступление
Только по прошествии семи лет я, уже работая после окончания института, будучи в командировке под Ленинградом, заехал в училище, разыскал своего бывшего командира роты каптри Васинкина Ивана Васильевича и узнал от него всю правду тех событий. Оказывается, все было сделано чисто по-советски. Тех парней, которые подавали рапорты на увольнение, после прохождения практики принудили перевестись на факультет атомных подводных лодок в так называемую «Дзержинку», училище под шпилем Адмиралтейства. Так сказать, отделить смуту. И ни о каком увольнении речи уже не шло, видно кто-то там, наверху, спохватился и решил, что зачем же увольнять 19 – 20-ти летних «зашшытников» – добровольцев, принявших присягу и тем самым 100 %-ных будущих офицеров. А вот чтобы подумать об этом хотя бы двумя – тремя месяцами раньше и не травмировать молодые души своими топорными решениями, «тямы» не хватило.
– А тебя, как уж слишком рвавшегося из тельняшки, – рассказал Иван Васильевич, – я подстроил арестовать, чтобы ты выпал из общего потока. Сам понимаешь, зачем руководству училища были лишние хлопоты отправлять тебя одного догонять корабль, который в море? Тем более, что под рукой лежит твой рапорт. Я так и подсказал начальнику факультета, усек?
Я вспомнил тот закрепленный за училищем эсминец «Громкий», из Кронштадта, корабль цели, постоянно таскавший за собой на тросах конструкции для стрельб; я был на нем на практике один месяц после первого курса, трюмным, с вахтами через четыре часа по четыре, с непрекращающимися тревогами, где страшно простудился и приехал домой на каникулы весь в фурункулах. Как же я был благодарен этому лысоватому, с приволакивающим ногу после ранения практику – педагогу за его незавидный труд восстановления пошатнувшейся веры в Отечество у обманутых курсантов! И позднее, когда мне приходилось крайне туго по жратве и деньгам в студенческие годы, я ни разу не пожалел о случившимся и только теплые чувства признательности остались во мне от впоследствии рассказанного им…
(На эсминце «Громкий» в возрасте 15-ти лет, после окончания училища на Соловках, служил в 1943-м году рулевым-сигнальщиком знаменитый российский писатель-маринист Валентин Пикуль. «До сих пор вижу, как в разгневанном океане, кувыркаясь в мыльной пене штормов, точно и решительно идут строем пеленга корабли нашего славного дивизиона: «Гремящий», «Грозный» и «Громкий»…» Ему было всего лишь шестнадцать, когда он стал командиром боевого поста: боевой номер – БП-2, БЧ-1.В 1960-м году эсминец «Громкий» был списан с ВМС России и передан на металлолом).
Будучи дома, надо было думать о предстоящем студенческом житье-бытье, и я устроился до сентября работать в совхоз разнорабочим. Возил корма, бетонил устройства для механической уборки скотных дворов, заготавливал стройматериалы.
Из института я получил уведомление о зачислении меня на второй курс теплоэнергетического факультета. Почему второй, а не третий, размышлял я, направившись по прибытии в Москву в деканат факультета. И здесь я познакомился с весьма пожилой прокуренной женщиной, Ревеккой Соломоновной Френкель, как говорили, бывшим секретарем Дзержинского. Она объяснила мне, что, во-первых, по сравнению с институтской училищная программа несколько занижена, мне придется досдать пару зачетов, а, во-вторых, у них такая практика адаптации бывших курсантов, которых заставляли учиться, к вольного полета студентам. «Впрочем, уважаемый коллега, – сказала она, – Вы можете заниматься на третьем курсе, но по приказу будете числиться на втором и если сдадите сессию без двоек, переведем Вас официально на третий курс со второго семестр. Желаю удачи!».
И надо же было так случиться, что на первом же экзамене по физической химии я получил двойку. Это была первая и единственная в моей жизни двойка, но в какой ответственный момент! Я как нашкодивший кутенок с побитым задом поплелся в деканат доложить о своем провале, но Ревекка Соломоновна, слегка иронически взглянув на меня, дымнув «Беломориной», великодушно разрешила сдавать другие экзамены с последующей пересдачей первого. Дальше все, слава Богу, было благополучно, я сдал что положено, пересдал в начавшиеся каникулы первый экзамен, был переведен на третий курс, но… без стипендии. Своим домашним я об этом не сказал, решив, что проживу как-нибудь. Все нормально, торчком!
И действительно, прожил и проучился я этот «черный» семестр именно «как-нибудь», далее до окончания института я получал стипендию. Работал слесарем в автобусном парке в ночные смены, разносил вечернюю почту, разгружал вагоны на Москве-товарной.
На дворе началось просветленное время начала шестидесятых годов, время «Оттепели» Эренбурга, Солженицинских «Один день Ивана Денисовича» и «Матренин двор», туго набитых залов и стадионов при проведении поэтических вечеров и мгновенного расхватывания сборников Окуджавы, Евтушенко, Вознесенского, Рождественского, Ахмадулиной, журналов «Юность» и «Новый мир» с Аксеновым, Гладилиным, Казаковым, Трифоновым, Беловым, Быковым и другими одаренными личностями. Меня тоже напрочь захватила эта пора, и я, будучи членом совета дома культуры своего института и имея соответствующее удостоверение, правдами и неправдами, «на халяву», прорывался на встречи с поэтами, писателями, артистами в разных концах города. Однажды ко мне в руки попала машинописная копия самиздатовского Евтушенко «Примечания к автобиографии», где очень впечатляюще была описана смерть и похороны Сталина (потом это вошло в его «Ягодные места», но гораздо-гораздо позже, в 1981-м) и между делом приводилась какая-то перепалка «с поэтом «К». Меня заинтересовал этот загадочный поэт. И как-то в страшной давке, протискиваясь за автографом, я спросил его: «Евгений Александрович, а кто этот поэт К. в ваших «Примечаниях…»? «А, – брезгливо отмахнулся он, – «Есть такой маленький поэт, Котов, – он черкнул мне в записной книжке свой «Евг. Евт.» и тут же был атакован другим, страждущим соприкосновения со знаменитостью студентом. Когда я уже начал работать, где-то через пяток лет, я попытался вытащить его сначала письмом-приглашением, а потом и телефонными звонками по адресам Кутузовского проспекта и Переделкино на встречу с нашим коллективом, но профсоюз устрашился запрошенной им суммы.
(С 1991-го года Евтушенко Е. А. проживает в США, но всегда, когда я узнаю из СМИ о его приезде для выступлений в России или Украине, я интересуюсь его творчеством. Как-то увидел на одной из фотографий на его рабочем столе громадный тяжеленный фолиант «Весь Евтушенко» – издательство СЛОВО/SLOVO, 2007, Москва. Подумал: неужели он с такой «гирей» ездит по странам и континентам?).
С Беллой Ахатовной Ахмадулиной меня познакомил поэт Игорь Ринк, руководивший литобъединением при доме культуры нашего института, часто печатавшийся в «Комсомольской правде». Знакомство было мимолетным, но для меня надолго отложился в памяти ее наполненный импульсивный голос, срывающийся от избытка самовыражения:
И снова, как огни мартенов,
Огни грозы над головой.
Так кто ж там победил – Мартынов
Иль Лермонтов в дуэли той?
Понадобилось следующее десятилетие, чтобы я понял истинный смысл этой строфы…
Чтобы закончить тему моей «эпохальной причастности» к громким именам, забегая вперед, скажу, что Роберта Рождественского, Михаила Шолохова, Олжаса Сулейменова, Василия Аксенова, Ларису Васильеву я фотографировал на IV съезде писателей в 1967 году, куда втиснулся по пригласительному билету на пару дней по авантюрному альянсу с ЦК комсомола. Пытался я тогда же отснять и Леонида Ильича Брежнева, величаво шедшего на трибуну в день закрытия съезда, но из оравы фотокорреспондентов, ринувшихся к авансцене, меня выдернул некий субъект в штатском, как пишут, который вывел меня из зала, заставил предъявить документы и начальственно буркнул: «Если еще раз попытаешься, заберу аппарат». «У, козел», – мысленно разрядился я и подался на галерку.
Пробовал я в те времена и сам что-то «стихотворить», но, наверное, вовремя понял, что для серьезного творчества нет у меня искры божьей, знаний и всепоглощающего горения, без которых оно немыслимо. Однако, рискну привести здесь одно из немногих своих начинаний:
Ночевать под замасленной боженкой,
В неожиданной теплой избе,
Укрываться прадедовским кожухом,
Слушать ходики в четкой игре.
Незнакомым хозяевам, радуясь,
Говорить про поездку, ворча,
И отведать цветного, как радуга,
По-крестьянски густого борща.
Утром радио выслушать кротко
И урывками – взгляд на зарю —
Колыхнуть умывальника кнопку
Да садиться поспешно за руль.
Покатить по шумливым дорогам,
По задумчивым, тихим полям,
Чтоб заботы России – потрогать,
Чтоб печали России – понять.
Оно было напечатано в одной из районных газет, но последняя строчка неизвестным мне редактором была переиначена: «Чтобы взлеты России – понять». Да, ведь я же совсем запамятовал – мы только и делали, что «взлетали…».
(С годам я периодически возвращался на поэтический настрой и даже на сайте stihi.ru завёл свою страничку. Последний раздел этой публикации содержит мои стихи).
Общежитейская студенческая жизнь с учетом постоянного безденежья подсказала нам организовать для продовольственной повседневности фирму «ФИШ» – Фролов, Иссопов, Шевчик (где вы сейчас, мужики?). Мы варили «змеиный» супчик из дешевой колбаски, картошки и лучка, обильно кипятили чай и гонялись за колбасным сыром и селедкой – они тогда довольно дешево стоили. Было бы несправедливо не упомянуть о том, что временами на нашем «этажном» ужине появлялись «Портвейн», сало, таранка, пиво и самогон-первач от щедрот сельских «ломоносовых». Я как-то после очередного «бомонда» написал: