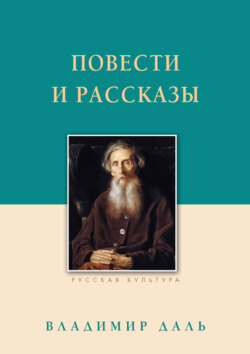Читать книгу Повести и рассказы - Владимир Даль, Владимир Иванович Даль, В. И. Даль - Страница 2
Балканский Декамерон
Часть 1
Балканское счастье
1
ОглавлениеВсе было пропитано зноем. Казалось, он шел от каждого булыжника на мостовой – ступи босой ногой и ошпаришься, – от раскаленных виноградных гроздьев, от неровного камня этих старых серых домов. Триста лет – эх, не добавить множественное число, «множину», – именно лет, не зим, палил их зной, и теперь здесь даже пахнет жарой.
Мы оставили машину внизу, на въезде в Рисан, и медленно поднимались вверх по узкой улице, которая казалась еще уже, сдавленная с обеих сторон высокими домами.
Он не был здесь прежде. Проезжал, конечно, Рисан тысячу раз, но никогда не забирался так далеко в глубь улиц, ведущих к горам, где еще каким-то чудом таилась старая Черногория.
– Я бы хотел здесь жить, – говорил он, озираясь по сторонам, – соберу денег и куплю здесь дом. И буду здесь жить! – повторил настойчиво, словно заранее со мной спорил.
– И что ты тут будешь делать? Купаться каждый день? Ты же «београджанин», столичная штучка.
– Что значит «штучка»?
Улица была пустынна, будто зноем выморило всех под черепичные крыши, на берег моря и еще Бог весть куда. Словно мы шли вдоль декораций забытого спектакля.
В конце улице нас ждала Люба. Ее балахон, который обычно раздувается за ней, когда она несется по своей Галерее, висел недвижно, как парус в штиль.
– Люба, ничего, что я в таком виде? – я обвела руками вокруг себя. Словно и вправду стеснялась полотенца, обмотанного поверх купальника там, где бы должна быть юбка.
– Да мы все здесь такие! – отмахнулась Люба.
Иногда я думаю: вот видели бы меня мои московские друзья – меня, всю упакованную, только из салона, – в этих бесформенных майках без рукавов, с вечно мокрыми волосами и брызгами на загорелых плечах.
Да и мой спутник выглядел вовсе не так, как те мужчины, которые шли рядом со мной в Москве, – в костюмах, с отглаженными воротничками и при итальянских галстуках. Здешняя униформа – майка и шорты, – причем они совсем недалеко оторвались от того предмета туалета, который в советское время назывался «семейные трусы».
Майку он надевает только для эфира.
Любин дом – огромный, многоступенчатый, с садом, внутренним двориком, террасой, которая почему-то выходит во двор и парит над сухой травой как капитанский мостик. Спальни с деревянными кроватями на третьем этаже, где живут художники, и Галереей внизу, – Любин дом и есть корабль, который сейчас нас понесет по волнам – Бог весть куда.
Что в этом доме было раньше, никто не знал и не помнил. На одной из дверей Люба нашла табличку «Пе кара», да так и оставила. На потолке виднелись голубые полосы старинных фресок, а за низкой дверцей открывался подвал с огромной римской ванной.
– Здесь я устрою спа! – сказала Люба.
– Спа на двоих, – заметила я, а глазомер меня никогда не подводил.
Мы переходим из комнаты в комнату: картины, старинный умывальник, выложенный кафельной плиткой, похожий на доильник, и старая плита, на которой стоят два десятка пыльных бутылок со смазанными этикетками.
Он открывает одну из них, и чуть заметный аромат апельсина тает между нами.
Мы вышли в сад. О, эта прелесть запущенного сада! Блики солнца на теплой траве, и небо сквозь сплетение виноградных листьев.
– А как ты думаешь, что было здесь? – Люба пытается открыть окно в маленькой пристройке у стены сада.
– Я думаю, я думаю, – он подбирает слова выученного языка, – здесь держали скотов.
Я прыскаю, а Любу не удержать:
– Какое классное место! – кричит она. – Загнать туда всех скотов – пусть сидят!
– Что не так? – он чуть смущается, – что я сказал? Ах да. Я помню, ты мне объясняла – скот. Не скоты.
И мы все хохочем. Словно прямо невесть какая шутка.
Что он еще сказал тогда? Но я не помню. Помню, что только смотрела, как хохочет Люба, как он смеется, как они бьют друг друга в ладони, распахивают двери, подымаясь по ступенькам:
– А сюда можно?
– Да, но там спальня, там спит художница. Но ничего, – шепчет мне Люба, – пусть он идет, ей надо встрепенуться. И он вмиг вылетает из спальни, а за ним идет, смущенно придерживая простыню, седоватая тетенька. И они снова все хохочут.
А я смотрю, пытаясь схватить его лицо таким, как оно есть. Без игры и актерской вежливой маски.
Люба кричит мне. Она вообще не говорит. Только кричит. Задрав голову, будто не верит, что мы ее услышим, – она не высока, и ее лицо все время поднято вверх, словно подсолнух, – к солнцу. Но все-таки не настолько мала ростом, чтобы оглушительно орать и размахивать руками так, что ее балахон трясется в такт смеху. Но органично. Ничего не скажешь. Органично.
Она кричит:
– Лена, ты обещала все это пощелкать!
– Óдох, – кричу я ей в ответ – вдруг она не услышит мой обычный питерский холодный тон. С ней все начинают кричать, потому что кажется, что в этом старом доме так положено. Те, кто его строили и наполняли жизнью, так и кричали своим соседям по улице – с одной цветущей террасы на другую. Люблю щегольнуть в русской речи сербским словцом.
– Óдох, – повторяет он за мной чуть удивленно. – Куда? – И эта странная тревога вдруг льстит мне, и я бегу вниз по лестнице в Галерею, где оставила сумку, за телефоном.
Рука замирает на веревочных перилах, и откуда-то внезапно цедится во мне холодок – я сейчас вернусь, а всего этого нет: нет громкоголосой светлой Любы, нет знойного сада и нет его.
Но я возвращаюсь, и все на месте.
– Люба! Стань здесь, у виноградника. А ты?
Он перебирает предметы: какой-то ржавый якорь, который художники нашли в саду, сифон…
– Нет, здесь плохой свет, дай я стану спиной к окну. Так хорошо? – В руках ничего нет, поворот головы, поза. Снято.
Вдруг обнаруживаем на еще не обследованной двери табличку «ШУМАДИЯ».
– О, это сербский дом! – теперь он полюбит эти дворики еще больше.
– Сними для меня. Нет. Лучше со мной.
Улыбка, поза, снято.
– А пойдем смотреть мои картины! Теперь ты просто обязан!
– Люба, а жениться он еще не обязан?
В Галерее всего два стула. Я расставляю их посреди комнаты, чтобы мы могли смотреть на стену, к которой прислонены картины.
– А, – схватывает он, – это будет спектакль!
Гулкие каменные стены, синие полосы фресок над головой. Открытые двери, и за ними – дышащая зноем рисанская улица.
Люба кладет руки на край высоких рам. Отделяя от общей кипы картины одну за другой, она поворачивает их лицом к нам.
Любины картины странные.
Иногда кажется, что она просто не утруждает себя поиском красок. Два, редко три, а то и один синий цвет заливает полотно. И удивительное дело – как только возникает контакт между тобой и этими расплывчатыми красками, так из наплывов цвета и хаоса линий появляется вдруг образ. Как на экране. Он оживает, приходит в движение, а главное – если ты его увидел, то больше не замечать этот образ не удается. Ни тебе, ни окружающим. Немного похоже – бессонница, и ты лежишь и тупо рассматриваешь линии на потрескавшихся обоях, и возникают вдруг чудные носы, конские морды, птица на ветке, – а глаза уже слипаются, и птица машет сонно крылом, и все расплывается, темнеет и спит.
– Ну тут все понятно, – говорит Люба, поворачивая к нам темно-коричневое полотно, – этот глаз видят все. Я первая его заметила. Представляете, сижу дома одна. Вечер. Никого, даже соседей, нет, а он на меня смотрит.
Глаз и вправду глядел как-то подозрительно.
– Люб, – говорю я, – а я вижу здесь городские огни. Движение машин. И поздний московский вечер.
Люба ставила перед нами картину за картиной, и это действительно выглядело как спектакль. Или нет. Вдруг вспомнила – так нам с братом мама в детстве показывала диафильмы. На стенку вешали простыню. Мы усаживались вдвоем на стулики, а мама крутила ручку аппарата, в который вставлялась прозрачная хрустящая пленка с меняющимися картинками.
– А здесь краб. Он ползет прямо на нас. Смотрите, какие огромные клешни! Настоящий камчатский краб! А здесь – зима. Метель. Елки, и две девочки в шубах и шапках взялись за руки.
– А вот это?
– Не. Эту убери. Это мрачно. Мне этого сегодня не надо. Сегодня я покупаю только счастье.
Он помалкивает, с сомнением поглядывая на полотна. Нет, это не сомнение. Это он так входит в роль. Я уже это видела: «Познакомьте меня с ролью, которую мне предстоит играть!» Молчит. И будто тебя не слышит. И этот южный жест: рука идет вперед и вверх, ладонь открыта – то ли приветствие, то ли отказ, – и замирает на секунду в воздухе – точно арабеск, как в балете.
– Как ты это делаешь?
– Не знаю. Я так делаю. – И вдруг вскакивает и выходит на сцену. – А я вижу действие. Я же актер!
– Ах да, Люба, – с запозданием поясняю я, – он – актер. Телезвезда.
– Смотрите, эти белые брызги на зеленом – это же скандал, это – как это по-русски – издая? А, измена. И она швыряет своему любовнику в лицо все, что придется, – злость, возмущение, крик: «Идиот, я люблю тебя!»
Идиот, я люблю тебя.
* * *
– Скажи, ты притворялся? Ты все это придумал? Эту сцену?
– Нет, я не притворялся. Просто я видел, что именно она хочет от меня.
* * *
Он берет гитару. Сейчас самое главное, чтобы он не запел «Подмосковные вечера». Такого разочарования я не перенесу. Нет, всего лишь «Ямщик». Оборвал на первой строчке, говорит: «Хорошая песня, да?»
– Хорошая, – говорю, – только грустная.
– Что в ней грустного?! Веселая песня! Смотри, что он поет: «Ямщик, не спеши! – Полако! – Мне не надо больше торопиться. – Эта женщина наконец отвязалась от меня! Я свободен! Не спеши, дорогой, давай петь!»
И запел!
Теперь была его очередь – для спектакля.
Он пел, как обычно поют актеры, – проигрывая каждую фразу, останавливался, – «а вот так мы поем в кафанах», – смеялся, – «а вот на этом месте все должны поднять кружки и – поставить их разом!» И в воздухе мелькали эти кружки, толпились разноцветные, как карандаши, образы веселых людей, они томились от несчастной любви, плакали и кружились в танце: тот, кто с тобой – на самом деле тебя у него нет. Тебя любит тот, который только мечтает о тебе.
Обаяние полузнакомой сербской речи, где тебе самой приходится домысливать каждый кусок, балканская грусть и путаница, и голос. Голос, который захватывал, как морская волна.
Нет, ему нельзя петь перед русскими женщинами. Балканские песни – они же у нас отзывались старой югославской эстрадой. Той таинственной заграницей – она появлялась в СССР в виде элегантных польских, нежных сербских, вольных болгарских акцентов, которых допускали к нам на голубые огоньки.
– А ты можешь спеть что-то из этих старых песен? – спросила Люба, и эта простая просьба прозвучала как-то странно робко и даже интимно.
– Конечно, а что бы вы хотели? Ну, например, Марьянович?
– Марьянович! – Люба схватилась обеими руками за голову. – О Боже, Марьянович! Ой, найди ему быстро, ну вот эту… – Люба пытается напеть, помощи от этого никакой, но я и без нее знаю, что хочет услышать каждая советская женщина!
Я роюсь в телефоне, и через минуту в наших древних стенах звучит потрескавшийся голос Эмиля Горовца: «Ночным Белградом шли мы молча рядом…»
– А, конечно, я это знаю, – он опустил ладонь на струны и запел сербскую версию: «Девойка мала…»
– Оно! Оно! – в восторге кричала Люба. – Но мы слушали все это только на русском!
– А вот эту вы слышали? – Он напел: «Прозоры, прозоры…»
– Да я сама тебе это могу спеть! Ты не понимаешь, что все это для нас значило. Мы же были совершенно закрыты от всего мира!
– Да, – вспомнила и я. – Мы впервые тогда увидели, что на сцене можно двигаться, а не стоять истуканами.
– А как мы танцевали подо все это на школьных вечерах: Радмила Караклаич, Лили Иванова…
Он слушал, усмехаясь, как мы перебирали те немногие знаки заграничной жизни, которые просачивались к нам из Югославии: про вечные очереди за югославскими сапогами, про путевки, которые стоили состояние, и в поездки отбирали, как в космос. А это и был для нас космос – на Адриатику, как на Марс, – и как приезжали оттуда совершенно обалдевшие женщины и годами рассказывали о красавцах-сербах, которые живут на солнечных берегах в недосягаемой для жизни стране.
И вот мы здесь.
– Марьянович уже совсем старик, – заметил он.
– Не смей так говорить! – вскричала Люба.
– Не такой уж старик, – сказала я. – Я видела его на приеме в Русском Доме. Представьте, стоим мы с приятелем-фотографом, вдруг подлетает одна моя знакомая, Света, хватает его за руку и вопит: «Бежим со мной, скорее, я заплачу тебе за фотку, только бегом», – и она волочет его куда-то, ловко лавируя в толпе.
– А что там? – спрашиваю я. – Да это Марьянович приехал, – сказал кто-то из сербов.
– Марьянович? – и я несусь следом. – У меня тоже, кстати, и фотка есть!
– А фильмы про индейцев? Гойко Митич! Да достаточно было в компании, где все приуныли, сказать: «ГОЙКО МИТИЧ!» – и сделать вот так, – Люба приосанилась, вскинула подбородок и приподняла локотки, – и у всех сразу поднималось настроение!
Он слушал, переводя взгляд с одной на другую. Мягко перебирал струны, словно сопровождая редкими аккордами наши восторги.
И вдруг сказал: «Слушай, а ведь это же готовая программа. Мы соберем в студии Джордже, Радмилу Караклаич…»
– А она еще жива? – бестактно вставила Люба.
– Да я сама ее видела на том же приеме, – осекла ее я, отмахнувшись, потому что идея уже завладевала мной, как массами.
Он встал и начал ходить по комнате.
– И вы в том же темпе рассказываете… Гойко живет в Германии. Но это не вопрос. – Он остановился и посмотрел на меня: – Нет, это даже не программа.
– Да, это вполне на телефильм. Полно у вас ведь наверняка осталось старых кадров, в наших архивах берем голубые огоньки.
Теперь Люба переводила взгляд с одного возбужденного лица на другое.
– Напишешь синопсис?
– Да плевое дело. Люба, нам пора.
– Как ты ловко упаковал наши восторги!
– Ах да, мы как раз с тобой вчера говорили – что мы продаем? Мы продаем свои эмоции.
– Это как у Вайды, помнишь? Все на продажу.
– Нам надо найти заправку.
– Ты как Рыбакова! – кричу я, – это она вечно сбивает всю мою романтику: «Таня, какая лунная дорожка на море, посмотри…» – «Где у тебя таблетки лежат? У собаки понос».
– Ты что, хочешь, чтобы мы здесь встали?
Хочу ли я, чтобы мы встали? Направо от нас идет вверх темная скала, а налево – голубая кромка моря, и на ней замерли лодки. Вода прозрачная и недвижная, и кажется, что эти лодки просто поставили сверху какой-то могучей рукой.
Хочу ли я, чтобы мы здесь остались? Что я вообще хочу?