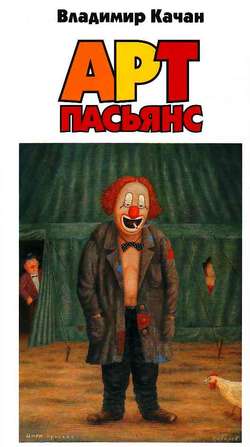Читать книгу Арт-пасьянс - Владимир Качан - Страница 3
Часть 1
Действующие лица
Про Задорнова
ОглавлениеВ спектакле «Бедность не порок» друг детства, юности и зрелости Михаил Задорнов исполнял эпизодическую роль ряженого медведя. Он действительно что-то там вытанцовывал в настоящей медвежьей шкуре. Вы представляете себе – каким оказался карьерный рост этого персонажа?! От ряженого медведя до новогоднего поздравления граждан России!!! Он тогда в полночь исполнил обязанности президента Российской Федерации. Это вам даже не Рейган, попавший в президенты из артистов. Это круче! Впрочем, в ту пору наш реальный президент частенько и сам исполнял роль ряженого. Таким образом состоялась, как он сам говаривал, «рокировочка».
Но все же вернемся назад, в наш школьный драмкружок и к нашему с Мишей активному участию в нем.
В драмкружке Миша Задорнов исполнял роли эпизодические, он сам теперь на концертах часто вспоминает, как в том самом спектакле изображал медведя, а я, мол, играл главную роль. Вспоминает даже с удовольствием, потому что все же видят теперь, кем он стал, несмотря на то, что в школьном драмкружке его не оценили. Был еще спектакль «20 лет спустя» по Михаилу Светлову, и Миша там в конце играл комиссара, который благословляет комсомольцев на дальнейшую правильную жизнь. Большие черные усы были наклеены на Мишину юношескую физиономию. Они существовали независимо друг от друга: комиссарская кожанка и усы – отдельно, а Миша – сам по себе. И веры в комиссарскую проповедь, в правдивость того, что говорит, в Мише уже тогда не было.
А еще мы с ним сыграли в школьной самодеятельности чеховского «Трагика поневоле». Ну… вышло, что не вполне чеховского.
Надо отметить, что лично у меня не было подобного успеха за всю последующую артистическую жизнь. У Миши – случалось: он доводил и доводит людей иногда до спазмов и конвульсий, когда в зале уже не смех, а стон. У меня – никогда! Мне тогда приделали большой живот, так называемую толщинку, затянув на ней тесемками широкие штаны. Я должен был прийти к Мише и жаловаться ему на свою проклятую жизнь. Он сидел в каком-то шлафроке, с приклеенными усами, и, якобы глядя на портрет любимой, что-то наигрывал на школьном фортепьяно.
Я вошел и начал свой монолог. В руках у меня было множество свертков и кульков, которые я привез с собой на дачу. Как бы – по хозяйству… И тут тесемки развязались, и штаны начали сползать. Я в ужасе продолжал монолог, пытаясь поправить непоправимое. Штаны все падали и падали; обнажилась толщинка, а из-под нее неопрятно свешивались концы веревок, которыми она была привязана к корпусу артиста. Я подтянул штаны, и у меня тут же попадали все свертки. Я попытался подобрать свертки – у меня, естественно, снова рухнули штаны. Я обеими руками судорожно вцепился в штаны – немедленно посыпались свертки. Надо было наконец выбрать: или штаны, или кульки. Разумнее, конечно, было бы удержать штаны. Но я хотел умудриться сделать и то и другое одновременно и в дикой панике продолжал эту клоунаду, с неуместным мужеством продвигая вперед, к окончательной катастрофе, свой монолог…
Мне было вовсе не смешно, а страшно, как никогда в жизни, но в зале хохот стоял такой, что я уже тогда понял всю жалкую тщету тонкого юмора по сравнению с простым и безыскусным падением штанов. У Задорнова отклеился ус, он прикрылся от зала портретом любимой и реплики свои, задыхаясь от смеха, подавать перестал.
Только один человек, сидевший в зале, серьезный Мишин папа, сказал позже, что мы изувечили Чехова.
А потом мы в день рождения Ленина играли на школьной сцене выстраданную нашей историчкой вещь: «Ходоки у Ленина». Эта, как говорится, «штучка» была посильнее «Фауста» Гёте. Третьего ходока изображал Мишин одноклассник Крылов. Ленина, разумеется, на сцене не было, да и кто бы отважился его сыграть. Зато присутствовала его секретарша. Вот к ней мы и должны были обращаться с хрестоматийной просьбой: «Землицы бы нам».
Как выглядел русский крестьянин, измученный голодом, войной и разрухой, мы примерно представляли себе по известной всем картине Герасимова. Но понятно, что ни лаптей, ни армяков, ни зипунов школьная самодеятельность не имела. С длинными бородами на изможденных лицах тоже было сложно: бороды нигде не успели достать, а изможденные лица – не успели нажить. Кое-как себя изуродовав (выпустив рубашки, подвернув зачем-то штанины брюк, вывернув наизнанку шапки-ушанки и полагая при этом, что превращаем шапку – в треух), мы, как могли, сгорбились и вышли на сцену. Оля Дзерук, игравшая секретаршу, строго спросила нас, мол, по какому вопросу мы к Ильичу? «Сестрица, – жалобно сказал кто-то из нас, уж не помню, кто именно, – землицы бы нам».
И тут мы имели неосторожность переглянуться, а переглянувшись – друг друга будто заново разглядеть; а увидев, что каждый из нас сейчас собою представляет, – внезапно и ясно осознать, что в таком виде к Ленину не ходят, и, по идее, секретарше сейчас надо вызвать Дзержинского, чтобы расстрелять нас тут же, немедленно – за контрреволюционную пропаганду и циничное глумление над трудовым крестьянством.
Какая там сестрица? Какая землица?! На кой она нам, розовощеким, спортивного вида подросткам?! И эти вывернутые шапки… Задорнов свою снять позабыл, и она, в качестве крестьянского треуха, забавно торчала у него на голове с одним ухом, задранным вверх… Сил на это смотреть не было. Мы стали тут же, посреди эпизода, умирать от смеха. И сознание того, что этого делать нельзя, что речь идет о Ленине, что это святое, – почему-то еще больше смех усиливало. Кто-то из нас, давясь от хохота, отчаянно попытался спасти ситуацию, еще раз начав просить все то же… И все… Это была уже катастрофа, лавина, которую нельзя было остановить ничем: «треухи», запихиваемые в рот, чтобы прервать смех, не помогали; слезы, катившиеся градом из выпученных глаз, лились, к сожалению, вовсе не от того, что у нас не было землицы. Спектакль закончился, не начавшись…
Покрасневшая от гнева и обиды за весь диалектический материализм, за все «Апрельские тезисы», за марксизм-ленинизм вообще и за дело коммунистической партии в частности, – учительница истории вбежала за кулисы и сказала, что этого нам не забудет.
Не этот ли эпизод, думаю я сейчас, был первой идеологической диверсией Задорнова в его богатой идеологическими диверсиями творческой жизни?..
Спустя годы выяснилось, что наша дружба не угасла, подобно большинству детских и школьных дружб, а жила, развивалась и даже крепла. Потом, когда у Михаила был юбилей, я попытался если не все, то многое отразить в небольшом рассказе о нем.
2 × 25, или Русский писатель на фоне Рижского залива
Настоящая фамилия Задорнова – Райтер…
Ну-ну, расслабьтесь, господа сионисты и, наоборот, антисемиты: это всего лишь шутка, имеющая, однако, под собой реальную жизненную основу.
Однажды на съемках одной передачи о книгах, которые осуществлялись почему-то в ресторане, к Задорнову подошла хозяйка этого заведения, крутая дама где-то между сорока и шестьюдесятью, улыбнулась, сверкая золотом, и попросила автограф. У Михаила с собой ничего не было, кроме визитной карточки, отпечатанной с одной стороны на английском языке. На этой стороне он и расписался.
– А что тут написано? – спросила крутая дама, желая хоть ненадолго продлить знакомство с кумиром своих телегрез.
– А-а, тут по-английски, – рассеянно глядя по сторонам, сказал Михаил.
– А что по-английски? – кокетливо брякнула золотой (опять же) цепью дама.
– Ну… Задорнов, райтер…
Дама замерла.
– Как Райтер? – потрясенно прошептала она.
– Вот так. Райтер. Писатель, значит.
– Я понимаю, что писатель. Кто ж не знает, что вы писатель. Но простите… ваша настоящая фамилия – Райтер? – Тут дама совсем перешла на шепот, вероятно, чувствуя себя резидентом, напавшим случайно на важную государственную тайну. Она округлившимися глазами уставилась на Задорнова, а затем, быстро оглянувшись, напряженно и тревожно спросила: – Вы еврей?..
– Да нет же, – терпеливо объяснил тот, – «райтер» по-английски – писатель. Вот тут так и написано: Zadornov. Writer.
Но дама, распираемая изнутри предвкушением сенсации, внимать объяснениям не желала. «Шо я не понимаю? – сияло на ее счастливом лице. – Мы ж свои люди. Задорнов – это для конспирации, а Райтер – это настоящее».
– Так вы не еврей? – уточнила она с лукавством, означавшим, что, мол, меня вы можете не стесняться, говорите, что вы эскимос, я поверю.
Задорнов уже начинал злиться, и дама это заметила.
– А выглядите вы все равно хорошо, – сказала она и отошла. Михаил только руками развел.
«Никогда наша страна не оскудеет идиотами», – вспомнили мы тогда фразу Александра Иванова, ведущего телепередачи «Вокруг смеха», с которой началась задорновская слава. Наши идиоты и их идиотства – питательная среда для всех писателей-сатириков, и Задорнов тут не исключение. Но он умеет все эти перлы подмечать и выявлять так, как мало кто другой, поэтому его слава заслужена и персонифицирована: его интонации, его сарказм ни с чем не спутаешь. Как никто он умеет сделать из политика болвана (впрочем, и наоборот тоже), и совсем не случайно его слава достигла апогея именно в тот момент, когда наша знаменитая перестройка достигла, в свою очередь, абсурда. Он этот абсурд угадал чуть раньше, чем тот фактически состоялся. Такое, кстати, у него часто случается. «Прогноз» Задорнова часто сбывается, и это даже несколько страшновато. А в пик абсурда перестройки Задорнов увенчал его, как елку – верхушкой, своим поздравлением всего постсоветского народа с Новым годом. В полночь. Вместо президента. По телевизору и радио, под бой кремлевских курантов.
«Страна дошла, – шутил он тогда, – сатирик вместо президента». Однако не дошла. Все доходит и доходит… И это – неисчерпаемый источник вдохновения для нашего героя.
Вообще президентам от него достается сильно: и старым, и новым, и, по-моему, даже будущим; причем тогда, когда это вроде как запрещено, и уж во всяком случае – опасно.
Это потом редко кто не пинал М.С.Горбачева, не понимая при этом, что служит живой иллюстрацией к басне Крылова о поверженном льве и осле, который его лягает с наслаждением вчерашнего раба. Однако пока он не был повержен, пародисты и сатирики язвили и иронизировали только по своим кухням, а Задорнов уже делал это на огромных концертных площадках, о чем, скорее всего, сейчас жалеет, ибо Михаил Сергеевич выглядит нынче рафинированным интеллигентом по сравнению с некоторыми действующими «императорами» от политики и экономики. Ну что ж, над ними Задорнов смеется сейчас и вновь, как правило, начинает первым, а остальные собратья по цеху уже потом легко скользят по проторенной им, Задорновым, лыжне. В нем есть и отвага, и злость.
Мне известны все причины раздражения и недовольства Задорновым со стороны некоторых патриотов «чистого» искусства и литературы. Я слышал от них, что он, мол, работает на потребу публике, что временами опускается до пошлости и т. д., и т. п. У меня только одно возражение: эта «публика» составляет сейчас 99 % населения, и надо это признать, успокоиться и перестать кичиться тем, что ты наслаждаешься музыкой Шнитке и перечитываешь ночами Шопенгауэра. И для этих 99 % кто-то должен что-то делать. Правда, тут есть нюанс…
Если уж ты заставил эту публику всеми средствами, имеющимися в твоем распоряжении, даже животным хохотом над сомнительными шутками, слушать себя, дальше ты не имеешь права не сделать хотя бы попытки излечения вкуса и нравственности; не имеешь права продолжать кормить её только тем эстрадным попкорном, к которому она уже привыкла и который глотает, не разжевывая.
Так вот: Задорнов эти попытки делает. В каждом его концерте есть два-три момента, когда он всех подводит к зеркалу и заставляет посмотреть на себя если не с отвращением, то с испугом. Можно винить всё и всех вокруг, но это путь тупиковый; надо учиться спрашивать с себя. И он эту простую, но крайне важную мысль постоянно старается внушить зрителям, которые с изумительным даже для русского человека мазохизмом ржут над тем, как они глупы, жадны, необразованны или бессовестны. Но в кого-то непременно попадает, и постоянные удары этой мухи об это стекло, как ни странно, все-таки приводят к мельчайшим пока трещинам. Вы думаете, Задорнов не знает, где он заигрывает с залом? Знает, уверяю вас, но он большой хитрец и хорошо понимает, что с этой публикой разговаривать на санскрите бессмысленно; им надо – по-русски и так, чтобы они хоть что-нибудь поняли.
Однако все это мог бы написать совсем посторонний человек, вовсе с ним не знакомый, а мне уже давно пора переходить к тому, что знаю один я с тех далеких лет, когда мы только познакомились и подружились в 10-й рижской средней школе с производственным, видите ли, обучением. Вот почему это была одиннадцатилетка, и в конце ее я, как и Михаил, получил специальность токаря 1-го разряда, чуть не оттяпав себе мизинец кулачком кулачкового патрона, о чем до сих пор имею памятный знак на нем, на мизинце. А его будущей жене Велте, учащейся то же школы, повезло стать чертежницей-деталировщицей, и если бы не это обстоятельство, не знаю, сумела бы она потом защитить докторскую диссертацию и преподавать в МГУ. Да и Мишка тоже вряд ли что-нибудь написал, если бы не его 1-й разряд. Однако если бы это было самой большой глупостью в нашей отчизне, то мы все были бы просто счастливы.
Мишка (поскольку мы с вами поехали в детство, я некоторое время буду называть его так, как тогда) жил в семье простого русского писателя Николая Павловича Задорнова. Простого, да не очень, так как он был лауреатом нескольких Сталинских, а позднее Государственных премий и писал основательно, солидно и, невзирая на премии, просто хорошо. Николай Павлович – по традиции всех почти крупных писателей – не любил истерическую сутолоку больших городов, а любил покой и простор. Все это имелось в Риге, поэтому Мишке повезло вырасти там, где много воды, зелени и неба; как, впрочем, и мне, выросшему в семье простого (теперь уже без оговорок) русского офицера-«оккупанта».
Теперь мне, как это ни цинично, кажется удачей то, что наши отцы не дожили до состояния демократии, которое приличные люди называют просто хамством, а не очень приличные – свободой. Крылатая фраза Задорнова о стране «с непредсказуемым прошлым» родом оттуда, из этого детства, из Риги, из жизни его отца Николая Павловича.
Что до «свободы», я думаю, порядочный человек не может быть свободен от семьи, от дружбы, от жалости и сострадания к тем, кто оказался вдруг на обочине новой жизни тихо скулящим от голода и унижения. Забегая вперед, скажу: мой друг Задорнов не свободен от вышеназванного. Он старается помогать. И хотя всем помочь нельзя, он старается. И в силу особенного, интеллигентного, дворянского, я бы сказал, воспитания, старается это делать деликатно, так, чтобы человек этого не заметил, чтобы это его не оскорбило и не выглядело милостыней.
Тридцать пять лет назад он жил в Риге на улице Кирова (сейчас это кажется просто смешным), а я за углом – на улице Свердлова. Мы жили практически в ста пятидесяти метрах друг от друга. Мне было 13, ему – 12 лет. Познакомились в школе. Он всякий раз рассказывает, что, мол, мы играли как-то раз в настольный теннис, и я, проиграв, решил взять реванш, спросив, скольких девочек он уже целовал. Покраснев, он соврал, что одну. Тогда я с нахальством опереточного любовника якобы небрежно ответил, что у меня, мол, за плечами уже 75 оцелованных девочек. В каждом новом изложении количество девочек растет, и на моем аналогичном юбилее Мишка назвал число 86. Но согласитесь, сатирик без гиперболы это хуже, чем песня без баяна, слесарь без зубила и (даже страшно подумать!) токарь без кулачкового патрона.
Так вот. После уроков, домашних заданий, тренировок, став на пару часов свободными, мы встречались на углу Свердлова и Кирова и шли в Стрелковый парк гулять. Угол Свердлова и Кирова у всех мальчишек нашего района назывался «пятак»; именно на «пятаке» назначались встречи, нередко там вспыхивали драки, но, замечу, никогда не было драк русских с латышами, да и латышский язык мы учили вполне добровольно с 4-го класса, справедливо полагая, что надо знать язык и культуру того места, где живешь. Я и теперь могу кое-как объясниться на латышском языке, а тогда даже разговаривал.
Сейчас будет набор существительных, которые для многих – ничто, а для нас с ним – всё, быть может, даже лучшая часть жизни; и минимум прилагательных, которые тоже могут вдруг понадобиться…
Итак: парк, старые деревья, канал, по берегам заросший ряской, лебеди, домик, кем-то для них построенный, в котором ни один уважающий себя лебедь жить не станет. (Задорнов потом расскажет об этом домике на концерте, добавив, что на нем висела табличка «Посторонним вход воспрещен», и сопровождая комментариями типа «Посторонним лебедям?..» или «Кому придет в голову лезть в этот домик?» Я, честно говоря, этой таблички не помню, но органичный симбиоз увиденного и затем доведенного до маразма всегда был одним из его основных приемов.) Ну, дальше… Беседка у канала, каменные ступени, слегка тронутые мхом, – вниз к воде; фонтан в глубине парка, никогда не работавший, в виде какого-то каменного идола (у него изо рта должна была бить струя, но я это наблюдал только раз в жизни); скамейки, на которых тогда еще ни один урод не увековечил свое имя; первый поцелуй на этих скамейках со школьными же девчонками – скромный и целомудренный, я бы сказал, сексуальный опыт, призванный большей частью преодолеть застенчивость; нежность, романтизм, сентиментальность, которые стыдно выразить; тени, фонари, запах сирени, стихи Блока; смутное брожение внутри, готовность номер один к любви, которой пока все не было; мучительный и ложный стыд оттого, что выгляжу не так, говорю не так, беру за руку не так, может быть, не нравлюсь, а навязываюсь… Кстати, наверное, пытаясь изо всех сил освободиться от пут этой застенчивости, мы иногда пускались в совершенно наглые авантюры, которые можно было квалифицировать только статьей «хулиганство».
Однажды Задорнов переоделся в девушку: ему был сделан соответствующий макияж (сестра Мила помогала), были надеты черные чулки (не колготки, замечу, так как это потом сыграло свою роль, вы увидите); подобраны туфли на высоком каблуке и даже какая-то ретрошляпка с вуалеткой.
И пошли мы по улице Кирова к улице Ленина, то есть к центральной улице всех городов страны в то время. Сценарий был пока неясен: помню, мы решили изображать ссорящуюся пару, а дальше – как пойдет. Моя роль была попроще, я все-таки играл юношу, а значит в некотором смысле был ближе к себе. Мишке же было сложнее: туфли жали, ему было неудобно идти на высоких каблуках, кроме того, надо было ломкий юношеский баритон каким-то образом превратить в девичий щебет. Единственным способом, известным нам, было перейти на дискант; это звучало фальшиво и визгливо, но, как ни странно, работало на образ, придавая ему омерзительный оттенок капризности, склочности и вульгарности. Таким голосом можно и нужно было ругаться. В создаваемом наспех образе угадывалась стерва…
И вот пошли… Кстати, о «пошли». Мало того что туфли были на высоком каблуке, мало того что жали, он ведь пытался еще при этом изобразить женскую походку. Поэтому, почти хромая, не забывал развязно вихлять бедрами и в манере привокзальной шлюхи мне что-то выговаривать. На нас, вернее, на «нее», стали обращать внимание мужчины. Они, видимо, думали, что «она» сейчас со своим кавалером поссорится и тут они ее, тепленькую, и возьмут. Поэтому некоторые просто разворачивались и уже шли за нами, вожделенно глядя на задорновские ножки. Положение становилось критическим, игра зашла далеко. И тут у него сполз чулок. Стало совсем конфузно. Шмыгнув в ближайшую подворотню, Мишка задрал юбку и стал его поправлять. Это была уже откровенная эротика с точки зрения трех-четырех мужчин, как бы невзначай остановившихся неподалеку. Один из них, самый наглый, подошел поближе, чтобы лучше видеть. Тут бы мне, наконец, вступиться за честь «дамы», но Задорнов меня опередил, он к этому времени уже закипал сам. Вернув подол юбки на место, он нарочито враскоряку пошел на эротомана и, возвратив голос в привычный регистр, этак баском рявкнул ему: «Чё те надо?! Чё те надо? Я вот тебе щас как дам! Пшел отсюда!» Я думаю теперь, что именно из той подворотни выросла песня, ставшая потом всенародным хитом: «Ты скажи, ты скажи, чё те надо, чё те надо. Я те дам, я те дам, чё ты хошь»… Того мужика надо было видеть. Комичное выражение лица человека, который почувствовал, что вот именно сейчас у него поехал чердак и он никак не может удержать его на месте. Мужик затряс головой и попятился от Задорнова, как от привидения. Наверно, долго потом на улице к девушкам не подходил бедный.
Но и это еще не все. Надо было возвращаться домой, и быстро – с чулком отношения не налаживались. Поэтому обратный путь мы проделали бегом, ничего не придумав более изящного, чем чтобы я бежал впереди, а он («она»!), сняв туфли, в одних сползающих чулках – за мной, с визгом: «Когда, сволочь, будешь алименты платить?!» Та еще шуточка! По сравнению с ней сегодняшний эстрадный пошляк – просто Оскар Уайльд.
Но в этой новелле о Задорнове, Риге и школе я не могу не сказать кое-чего о спорте. Как вы думаете, почему в заголовке написано «2 × 25»?
У нас была очень спортивная школа. Все занимались в какой-нибудь спортивной секции или во что-то играли в свободное время. Ну, настольный теннис – это само собой. То, что сейчас Миша играет в теннис большой, – тоже понятно (большому, так сказать, кораблю – большой теннис). Я о том, что в «маленький» он играл виртуозно, может быть, лучше всех в школе, где-то на уровне 1-го разряда. Но в его игре не было присущего мастерам силового напора, а были грация и артистизм; ему было лучше промазать, но ударить красиво. Природная реакция, координация, то, что изначально необходимо всем спортсменам, – тоже при нем, но вот чтоб красиво – это не у всех…
Когда он стоял в воротах сборной школы по гандболу, на это стоило посмотреть, а в пляжный волейбол он играл так, что люди, гуляя вдоль моря, останавливались на минуту-другую полюбоваться этими пластическими этюдами. Вообще он к любой спортивной забаве относился так, будто на него смотрят тысячи зрителей.
Но относиться – это еще не всё, мало ли кто из нас хочет красиво… А у него – получается. С детства и до сих пор. Вы посмотрите, как он одевается, как стоит на сцене, как разговаривает! Какой-нибудь член палаты лордов выглядит, по сравнению с ним, просто хорошо одетым официантом.
Так почему же все-таки «2 × 25», а не сразу – результат умножения? Да потому что все эти спортивные навыки остались при нем, а отчасти даже выросли по сравнению со школьными годами. Ну, как он садится на шпагат в костюме от Ив Сен-Лорана или ходит на руках – это уже по телевизору видела вся страна, поэтому мы на этом останавливаться не будем. Все дело в том, что Задорнов, как это ни странно, сейчас на руках может пройти больше, чем двадцать пять лет назад. Он сейчас может пробежать десять километров, а тогда не мог. Он никак не желает относиться к своему возрасту и тем более – склоняться перед ним, потому что Миша по натуре борец и победитель.
Одна из выдающихся дам ХХ века, Коко Шанель, однажды заметила, что после пятидесяти человеку столько, сколько он сам захочет. И сколько бы Задорнов ни кокетничал по поводу своего здоровья, сколько бы ни лечился у всяких оккультных шарлатанов, это никак не может развалить его крепнущий год от года организм. Лечиться для него – это что-то вроде хобби. Он никогда не знает конкретно, что лечит, но сам процесс его занимает. И сколько бы медицина, повторяю, ни делала для того, чтобы ему было пятьдесят, – ему все равно – два раза по двадцать пять, и только потому, что свое здоровье он делает сам.
Итак, мы в Риге. Выяснилось, что этот парк, казавшийся тогда целым миром, можно обойти за пятнадцать минут. После Москвы все кажется таким маленьким. Да Рига и в самом деле декоративно-маленькая. Но по-прежнему красивая. Skaista. «Скайста» – напишу-ка я по-латышски – русскими буквами…
А в Юрмале – дачи забиты, большинство домов отдыха – закрыто. Той танцплощадки, на которой мы с Мишкой в первый раз в жизни познакомились со взрослыми девушками, кажется, вовсе нет. А если и есть, то не найдешь… А если и найдешь – то стоит ли?.. Есть доля иронии в том, что они оказались москвичками и мы потом приехали на каникулах к ним в Москву. Так нас там и ждали… Влюбленные школьники, мы не знали тогда, что в столице, в чаду мегаполиса – совершенно другая жизнь, мы оказались вовсе не нужны: ни этим девушкам, ни этому городу. А там, в Юрмале, все казалось таким возможным, влюбленность была так близка, и глупая музыка так играла…
И что сейчас?.. С Москвой он, мягко говоря, разобрался. Да и я отчасти – тоже. А Рига и Юрмала остались. Внутри. А у него еще и снаружи, потому что там у него мама, родные, и он часто там бывает. По этому поводу я ему даже чуть-чуть завидую…
Тут, знаете ли, есть какая-то очень личная гордость, свое достоинство в том, что мы выросли не в московских коробках, а в этих причудливых, похожих на декорации к сказкам Андерсена домах и на этих улицах; что дышали неповторимой смесью моря, сосен и свежести, а не выхлопными газами Тверской улицы; что плескались в детстве не в Останкинском пруду, а в Рижском заливе.
– Вы откуда? – спрашивают меня.
– Из Риги, – отвечаю я небрежно и ловлю себя на нелепой (особенно теперь) гордости, что я оттуда. Будто я сказал, по меньшей мере, что из Парижа…
Я люблю этот город и все, что связано с ним. Но центрального персонажа этого (уж и не знаю, как назвать) произведения я люблю особенно: вероятно, как часть собственной души, представляющую собой тот пестрый коктейль, с которым вы постепенно знакомитесь…
Однако оставим душу: материалист Задорнов, в детстве чемпион районных и городских математических олимпиад, этого не поймет. Стало быть, в моем сердце… Нет, опять не то, он же спросит, а где конкретно? Ну хорошо, в моем мозгу (уж там-то столько таинственных мест, что анатомия пасует), в дремучих лесах моего сознания и подсознания – есть поляна Задорнова. Или лучше – «Мишкина поляна»… Она там всегда есть. Она не может быть никем занята, на какие бы сроки мы ни разлучались. И он там сидит – строгий, подтянутый, красивый, 25-летний…
– Мишка, – говорю я ему, – давай в длину с места прыгнем, как тогда на пляже. Кто сейчас дальше?
– Давай, – говорит он.
И мы прыгаем… В одну сторону…
Тут уже упоминалось, что Михаил был победителем нескольких математических олимпиад, а затем учился в двух технических вузах, что свидетельствует об определенном складе ума. Он будто заранее просчитывает успех у публики. Так поступает не он один (а например, и Петросян), но разница в том, что другие работают только на сегодняшний успех – а иногда даже на вчерашний, – полагая, что бородатые шутки про тещу и алкоголь актуальны всегда; и, к сожалению, перед определенной аудиторией, которая среди эстрадников именуется «народом», метод срабатывает. Подавляющее большинство такого «народа» (а телекамера нам их показывает) представляет собой особенное скопление удивительно некрасивых лиц, часто испитых и с плохими зубами, которые особенно видны, когда зрители смеются над всем тем, что им впаривают с эстрады. Они исступленно ржут над шуткой, от которой человеку, прочитавшему в жизни хотя бы дюжину книг, становится нестерпимо стыдно, как если бы он сам эту хохму произнес.
Задорнов же работает словно для какого-то другого народа. У него в зале сидит другая публика. И шутит он часто не как вчера, а как завтра. Математический ум безошибочно подсказывает ему, как можно посмеяться не только над прошлым, но и над будущим. Таким образом математик, в тесном содружестве с сатириком и артистом, всегда строит, как он сам выражается – «смехограмму концерта». Эти способности распространяются не только на собственные концерты, вообще на всё. Однажды он выразился по поводу одного певца, что у него, мол, песня стоит на месте. Нет развития. Надо строить график песни – кривую.
Однако приходит время, когда ему все это надоедает, он совсем останавливается и бросает концерты, искренне надеясь, что навсегда. Тогда Михаил говорит вещи совершенно нетипичные для него: «У меня сейчас нет концертов. Концерты мешают созерцанию жизни». Строит на своей даче пирамиду размером с небольшой дом и в ней спит. Иногда пишет. Пирамида, считает он, – особенный концентрат особенной энергии, которая помогает человеку правильно жить и мыслить. Затем артистическая составляющая его натуры берет свое, и концерты возобновляются. Тем более что «созерцание жизни» денег не приносит. Наоборот, на созерцание жизни их надо тратить, и чем больше созерцаешь, тем быстрее они тают.
В последнее время мой друг всерьез увлекся лингвистическими изысканиями и историей России в соотношении с историей других стран.
И, согласитесь, что это куда лучше, чем посвятить всю жизнь анекдотам из рюмочных, кривляньям и ужимкам. Тем более когда тебе уже «2 × 30».