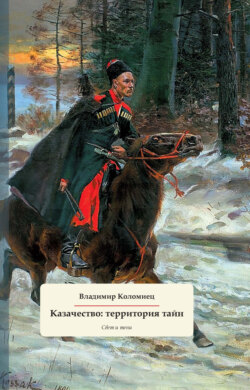Читать книгу Казачество: территория тайн. Свет и тени - Владимир Коломиец - Страница 3
Часть первая. Вехи истории Терского казачества
1
ОглавлениеПоселения русских вольных людей на Тереке – казаков – были с самого начала XVI века связующим звеном России с народами Северного Кавказа, в частности с кабардинцами, часто именуемыми в это время пятигорскими черкесами или пятигорскими черкасами.
Кабардинцы раньше других побратались с казаками. Один из авторов пишет: «Кабардинцы, увидев, что приезжие носят оружие – а это признак их свободы и достоинства, да ещё оружие огнестрельное, редкостное в то время на Кавказе, – предложили: селитесь, кунаки, здесь, эта земля на стыках горских владений – ничейная, порожняя». Так на берегах Сунжи, Терека, Малки зазвучали русские и украинские песни. Горцы стали привечать казаков, стараться завести с ними дружбу. Верили: в нужный момент эти люди выручат. Так и случилось. В 1583 году турецкие войска с победой возвращались из Ирана и направились в Кабарду – пограбить население. Но навстречу им стремительно двинулась кабардинская и казачья конница. Грозные победители персов подверглись стремительной атаке и в панике бежали в Крым. И так было не раз. Кабардинцы вместе с казаками ходили в Крым, к стенам Темрюка и Тамани. В 1558 году их стяги победно реяли в далёкой Ливонии. Они штурмовали Мильтен и Дерпт, громили лучшую в Европе немецкую армию, были в Берлине. Всё помнит, ничего не забыла седая история.
«Переселение казаков на Терек не оспаривалось ни кумыками, ни кабардинцами, – пишет В. Г. Гаджиев[3], – более того, прибывшей вольнице были предложены земли, где они построили свои городки. Скоро казаки вошли в дружественные и даже родственные связи с горцами Северного Кавказа, от которых брали на своё обзаведение зерновой хлеб, скот, лошадей и даже жён невенчанных»[4]. Казаки поддерживали оживлённые связи с горцами, и чем отдалённее историческое время, тем прочнее были эти связи[5].
Казачество стремилось поддерживать и другие связи с «горчаками», т. е. горцами.
Подтверждением этому может служить письмо горцев Дагестана коменданту Кизляра: «Понеже же имели мы с терскими казаками доброе обхождение и, будучи в согласии, как они, так и мы довольны»[6].
«Горец, – писал Попко, – любит путешествовать, видеть новые лица, новые обычаи, даже страны – не дальше двух-трёх переездов коня. Ещё больше он любит померяться даром слова с новым человеком, поболтать, и гребенской казак был к услугам, потому что знал его язык. У гребенского казака мог он вкусить и запрещённой влаги»[7]. В ходе общения зарождалось и укреплялось куначество – этот своеобразный обычай кавказского побратимства. Горцы и казаки гордились своей дружбой и передавали её детям как священный завет от поколения к поколению.
В очерках «Истории Адыгеи» читаем: «Черкешенка не прочь была выйти замуж за казака, а казачья старшина считала за честь жениться на черкесских княжнах».
«Гребенская женщина, – писал Попко, – во множестве случаев была местного происхождения». Брачные отношения между терско-гребенскими казаками оказали известное влияние на физический тип казака, поразительная красота и крепость которого общеизвестны. Один из авторов писал: «Гребенцы совсем не похожи на обычных казаков. Вроде бы и русские, и в то же время чужие. Обличьем похожи на кавказцев: чёрные как смоль волосы, большие чёрные, с проницательным взглядом глаза, прямой, с чуть заметной горбинкой нос. Редко встретишь русоволосого и голубоглазого». Язык, религию, песни, поверья, обычаи хранили в первозданной чистоте. И совсем другими становились, когда встречали мирных горцев, приезжавших к ним в гости, когда легко и свободно начинали говорить по-татарски. Могли изъясняться по-кабардински, по-ингушски, по-чеченски и на других языках. А знанию языков способствовало аталычество: казаки и горцы по обоюдному согласию отдавали друг другу на воспитание малолетних детей.
Но не всегда отношения между казаками и горцами были мирные. Бывали времена, когда они становились неприязненными. Такой характер они стали принимать в конце XVIII – первой половине XIX века, и виною тому – разделяющая рука самодержавия. Как пишет дворянский буржуазный историк П. Г. Бутков: «В то время наблюдалось правило древних римлян, чтобы для пользы Кавказского края ссорить между собой разных кавказских народов»[8].
С превращением казаков в «оплот государственных интересов» самодержавие, имея целью разжечь вражду между ними и горцами, щедро наделяя казаков землёй, делало всё, чтобы внушить им мысль о превосходстве над горцами, стараясь убедить, что рост их благополучия зависит от «усмирения» и «покорения» горцев. Немалую роль в разжигании вражды к казакам сыграли и представители местного духовенства – «благочестивые таррикатисты», которые возбуждали в мусульманах вражду к христианам.
Всё это, а также и в особенности Кавказская война, нанесло весьма серьёзный удар по добрососедству горцев с казаками.
Однако представлять XVIII и начало XIX века периодом сплошной вражды между терско-гребенскими казаками и горцами неверно. «Если случайные факты не принимать за целое, – пишет А. Фадеев, – то следует признать, что взаимоотношения русского населения Северного Кавказа в XVIII веке остались мирными»[9].
Связи казаков с горцами не прерывались и в период Кавказской войны.
«Казаки, – писал в разгар Кавказской войны Л. Н. Толстой, – уважают врага – горцев – и стремятся наладить с ними добрососедские отношения».
Газета «Кавказ» сообщала: «Свободные жители губернии (Ставропольской), казаки, отставные солдаты, мещане ездят в Кабарду… на работы, строят кабардинцам дома, мельницы, конюшни, разводят сады, делают мебель и разные полезные вещи; жители с любопытством смотрят на их работу и слушают их наставления и замечания. Казаки безопасно ездят в Кабарду прививать оспу детям и взрослым, и народ сам не раз просил местное начальство о назначении ему постоянного оспопрививателя; многие князья просят завести в их аулах училища для преподавания русского, татарского языков.»[10].
«Кабардинцы завели даже плуги, и усадьбы их улучшились, и вообще хозяйство многих кабардинцев стало приближаться к русским», – писал «Русский вестник»[11].
Казаки, в свою очередь, перенимали у местных народов, в том числе и у кабардинцев, их положительный опыт.
Исследователь истории военного дела Кабарды В. Б. Вилинбахов в статье «К истории влияния кабардинцев на военный быт казачества» пишет, что «кавказские казаки заимствовали от горцев, в первую очередь от кабардинцев, буквально всё, начиная от одежды и кончая тактикой ведения боя, резко выделялись среди всех казачьих войск»[12].
Говоря о тесных связях терских казаков и горцев, хороший знаток их жизни и быта Л. Н. Толстой в своей повести «Казаки» писал о том, что эти народы «перероднились».
3
Гаджиев В. Г. Сочинение Гербера как исторический источник по истории Кавказа. М.: Наука, 1977.
4
Попко И. Д. Терские казаки со стародавних времён. СПб., 1880. С. 24.
5
Гаджиев В. Г. Указ. соч. С. 32.
6
Там же.
7
Попко И. Д. Указ. соч. С. 302.
8
Бутков П. Г. Материалы по новой истории Кавказа. ч. 2, СПб., 1862; Дон и степное Предкавказье. Изд. Ростовского университета, 1977.
9
Фадеев А. В. Очерки экономического развития степного Предкавказья в пореформенный период. М., 1957. С. 41.
10
Краткий очерк Ставропольской губернии в промышленном и торговом отношениях. Газ. Кавказ. 1848 № 22.
11
«Русский вестник» 1860. Т. 27. С. 366.
12
Учёные записки КБНИИ. Нальчик, 1965. Т. 23. С. 129.