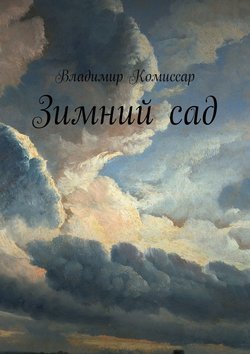Читать книгу Зимний сад - Владимир Комиссар - Страница 3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
2
ОглавлениеСергей Викторович Серебряный родился и провел свое детство и школьные годы в Донецке. Советский Союз. Обычная шахтерская семья. Средний, но стабильный достаток. Уверенность в завтрашнем дне. В общем-то, все как у большинства людей этой эпохи – все среднестатистическое. Да и сам Сергей практически ничем не выделялся от своих сверстников, разве что учеба ему давалась чуть легче, чем другим. Как и у всех увлечение футболом, времяпровождение в компании сверстников, чтением приключенческой литературы, песни под гитару, чуть позже свидания с девочками. И в дальнейшей жизни у него все должно было быть предсказуемо – получение какой-нибудь инженерной специальности в вузе, женитьба на скромной девушке из его окружение, рождение детей и работа, повседневные заботы, бытовые хлопоты.
Однако, в год окончания школы его жизненный путь случайно, но резко отклонился от среднестатистических показателей. Как-то, изучая справочник для поступающих в ВУЗы и выбирая, на каком же факультете Политехнического института ему остановиться (другие ВУЗы родного города были либо недоступны для него, либо не соответствовали его запросам в отношений будущей зарплаты), Сергей обратил внимание, что в двух московских институтах вступительные экзамены проводятся не с первого августа как везде, а с первого июля. Это были инженерно-физический и физико-технологический институты. И у него возникла мысль, а не попробовать ли подать документы в один из этих институтов? Сдать экзамены, а в случае неудачи, что вернее всего, вернуться в Донецкий политехнический. До первого августа можно успеть. По физике он был лучшим в классе. Постоянно участвовал в олимпиадах. Прочел множество научно-популярных книг по этому предмету. Ему очень была интересна ядерная и квантовая физика – всякие там позитроны, мезоны, пи-меоны и прочие элементарные частицы, их взаимные превращения и движения в материи.
Сергей, конечно, не надеялся поступить, понимая какой контингент выпускников туда стремится. Да и, наверное, самым верным мотивом этого порыва с поступлением в Москву было то, что сформулировал он своим друзьям, таким же абитуриентам, как и он, в виде предложения: «Поехали со мной в Москву экзамены сдавать. Побухаем вдали от родителей. С девочками московскими потусуем.» На что друзья резонно отвечали: «Побухать и в Донецке можно, и девочек красивых здесь тоже хватает». Но он поехал все-таки, хоть и один. Поехал пытать счастье в инженерно-физическом институте. И… счастье улыбнулось – экзамены были сданы успешно.
Не будем вдаваться в подробности о целой цепочке случайных обстоятельств и просто невероятных везений возникших при собеседовании и сдаче экзаменов, но факт остается фактом – Сергей прошел по конкурсу. А конкурс, надо заметить был человек пятнадцать на место. Медалисты, дети ученых, призеры научных конкурсов союзного масштаба – золотая молодежь, в общем.
И вот, стоя под информационной доской и недоуменно глядя на свою фамилию среди прошедших конкурс, под горестный плач непоступивших, Сергей решал диллему: что теперь делать и нужно ли ему это счастье. И как часто бывает, решающий совет дали родители – «Непонятно нужен или нет тебе этот московский ВУЗ, но может статься, что ты будешь жалеть всю жизнь, что не воспользовался этим шансом». И он остался в Москве.
И начались его студенческие годы, как и для большинства из нас лучшие годы жизни. Лекции, семинары, коллоквиумы, экзамены. Студенческие попойки, дискотеки, КВНы, самодеятельность. Ну и вдобавок бурлящая Москва начала Перестройки.
Если в школе он был, наверное, самым способным в классе, и, схватывая все налету, практически не уделяя времени на занятия, то в институте он лучшим отнюдь не был. Здесь бездарей, априори, не могло быть. А учитывая, что инженерно- физический институт был не только учебным заведением, а еще и научной базой союзного масштаба со специализированными лабораториями и дорогостоящим оборудование – практически все студенты были талантами. Да и требования к учебе были очень жесткие. Поэтому пришлось Сергею включить, все несвойственное ему трудолюбие и усидчивость. И он справлялся.
В чем Сергей выгодно отличался от своих однокурсников так это внешностью. Высокий, статный, спортивного телосложения – футболом он по-прежнему увлекался, да и занятия общей физической подготовкой не оставил. Кроме того, он наделен был отменным чувством юмора и коммуникабельностью. Поэтому, неслучайно, что в конце первого курса на одной из студенческих дискотек он познакомился, а затем и стал встречаться с дочерью профессора института Присяжного Евгения Николаевича – Ольгой. Ольга также училась в инженерно-физическом институте, также на первом курсе, но на другом факультете. И уже спустя короткое время Сергей стал частым гостем в их доме – квартире из шести комнат, очень напоминающей музей изобразительного искусства – старинная мебель, картины, антикварные изделия, ну и конечно множество книг.
Бытует мнение, что женщины связанные с наукой должны быть обязательно некрасивыми, чаще всего худыми, сгорбленными, с толстыми линзами в очках. И одеты, должны быть обязательно в длинное платье и толстые шерстяные чулки. Ольга это мнение разбивала на прочь. Высокая пышногрудая красавица с большими голубыми глазами и белыми пышными волосами, ниспадающими ниже плеч. Да и одевалась она по последнему писку моды, благо зарплата и частые зарубежные поездки отца это позволяли. Вместе с тем она была весьма эрудированной, отличной собеседницей, обладала незаурядными способностями – одним словом умницей.
В общем, Сергей и Ольга смотрелись идеальной парой. А учитывая их взаимную влюбленность и наличие общих интересов, вполне закономерной развязкой их отношений стал брак. Произошло это на третьем курсе института, а уже на пятом у них родилась дочь, в маму белокурая Елена.
Евгений Николаевич, отец Ольги, был человеком, весьма демократичным, некоторое время он даже работал со знаменитым академиком Сахаровым. И, несмотря на множество своих регалий, обилие связей и солидное материальное благополучие, отнесся к неравному браку своей дочери весьма благосклонно. В дочери он души не чаял, удовлетворял все ее капризы, да и Сергей был ему симпатичен. Ну а рождение внука еще более упрочило его трогательное отношение к молодой семье.
Поэтому нет ничего странного, что заслуженный профессор проявил участие в дальнейшей карьере своего зятя. После окончания института Сергей был зачислен в аспирантуру на кафедру «Физики металла» и был задействован в нескольких научных разработках. В общем, занялся научной работой. Будущее теперь было практически обеспечено, несмотря на скептицизм в недавнем прошлом.
Конечно, видный ученый из Серебряного не складывался – для этого наличие способностей маловато, нужен талант, отчасти гениальность. Способный разберется в любой теории, научится решать даже самые сложные задачи, сможет ставить всевозможные опыты, но вот сделать открытие и произвести на свет что-то новое – увы. И Сергей разбирался, решал и ставил, но не открывал. Да и в институте наукой занимались не одни гении. Работа ему, в общем-то, нравилась, семейные отношения были в порядке – в общем, живи и радуйся. Но вскоре появилось одно весомое «но» – стала меняться эпоха. Времена Перестройки прошли – пришли времена развала Союза. Подорожания, очереди, депрессия.
Теперь оказалось, что наука, которой они занимаются, не очень то и нужна. Бюджет сократился в десятки раз, в несколько раз уменьшилось количество студенческих мест и как следствие пошли сокращения кадров. Да и зарплата научных сотрудников и преподавателей уже перестала обеспечивать, как принято стало говорить, прожиточный минимум. Даже семье Присяжного пришлось испытывать некоторые материальные затруднения, после привычки жить в роскоши. Профессор, несмотря на многолетнее безбедное существование, больших сбережений не накопил, а те, что были, «сгорели», как и у большинства наших сограждан. Все его достояние сейчас состояло из в общем-то хорошей квартире на окраинах Москвы, загородном участке недалеко от Орехово-Зуева с одноэтажным домиком и автомобиле ГАЗ 24, купленном по разнарядке еще лет десять назад.
Сергею сокращение не угрожало (хотя оно и касалось прежде всего научных сотрудников младшего уровня) ведь за ним стоял его тесть – заслуженный ученый, лауреат многих государственных премий, но работа уже перестала радовать. Во-первых, уже не стало не просто достойного вознаграждения за труд, но и просто сколь угодно значимого материального вознаграждения. Во-вторых, абсолютно не просматривались никакие, более- менее радужные перспективы в работе. Да и, в-третьих, сама-то увлекательная и полезная работа практически исчезла. Многие старые научные программы свернули, новые программы не планировались, а те научные задачи, что остались в работе были настолько урезаны в бюджете, что заниматься ими было попросту неинтересно.
Научная составляющего огромного института стремительно уменьшалась. Многие, не дожидаясь сокращения, уходили сами. Кто на производство, кто в бизнес, а кто и вовсе покидал нашу необъятную Родину. Те же, кто оставался, большую часть своего времени свободного от преподавания стали проводить в праздном шатании по коридорам научно-учебного учреждения, нескончаемых перекурах, а зачастую и в частых «употреблениях» на рабочих местах. Часто стал употреблять спиртное и Сергей. Так как в учебном процессе он был сейчас задействован редко, то времени для этого занятия у него хватало с лихвой. Начинал в лаборатории, еще с утра, там же продолжал в течение дня, и чаще всего, на работе же и заканчивал, но уже глубоким вечером – денег на хождение по питейным заведениям у него не было. Как следствие этому – постоянные упреки жены, укорительные взгляды тестя, и неодобрение тех друзей, кто пытался другими методами налаживать свою жизнь. Жизнь, как говорится, дала трещину. И трудно сказать, чем бы это все кончилось, если бы опять не его величество случай.
Кафедру «Ядерных реакторов и энергетических установок» института в то время возглавлял профессор Курносов Николай Петрович, несколько лет назад, защитивший докторскую диссертацию. Видным ученым он не был, но был отличным администратором и гениальным генератором идей, далеко не всегда связанных с наукой, зато направленных на получение значительного материального благополучия. Он и обратился к Сергею с предложением:
– Я сейчас создаю совместное предприятие занимающееся инновациями. Хотел бы тебя видеть в составе соучредителей. Ты парень способный и мы многое с тобой реализуем. Так что хватит горькую жрать.
Конечно, ему был нужен не сам Сергей, а связи и поддержка его тестя. Об этом Сергей прекрасно догадывался. Но надо было как-то выкарабкиваться, и он согласился.
Если убрать всякие высокопарные фразы, отраженные в уставе и снять внешнюю мишуру, то всю предполагаемую деятельность предприятия можно свести к банальной продаже стратегических научных разработок, чаще всего совсем недавно закрытых под печатью секретности зарубежным заинтересованным лицам. Первоначальная реакция на эту идею Присяжного была, мягко выражаясь резко отрицательной. Это противоречило мировоззрению Евгения Николаевича, всем принципам его многолетней жизни. Это было предательством его идей, предательством советской науки, но Сергей в своем согласии остался непреклонен. Фирма открылась, стала работать и, опять-таки, из-за желания помочь семье своей дочери, Евгению Николаевичу все-таки пришлось пренебречь своими принципами и оказывать время от времени помощь этому грязному проекту: где личной поддержкой, где связями, а где и просто профессиональным советом.
Так в обмен на советские ноу-хау на счета предпринимателей стала поступать валюта и причем в очень значительных объемах. Всем единолично руководил Курносов. Искал «товар», летал на встречи с зарубежными покупателями, подкупал чиновников, заводил знакомства, открывал оффшорные компании. Но и Сергей оказался не просто мажором, а достаточно способным исполнителем. Он быстро разобрался во всех механизмах, как финансовых, так и юридических и вполне уверенно и самостоятельно вел свой участок работы. Если Курносов занимался стратегией предприятия, то Серебряный отвечал за всю его тактику.
Хотя основную прибыль от деятельности получал генератор идеи – Курносов, Сергей также стал резко подыматься материально. С Ольгой и дочерью они переехали в центр Москвы, купив там четырехкомнатную квартиру вблизи Арбата. Вместо небольшого домика на дачном участке Присяжного возник двухэтажный особняк. И старую «Волгу» заменили две иномарки.
В общем-то, деятельность предприятия Курносова по тем временам нельзя было с уверенностью назвать незаконной. В первые годы становления нового государства – Российская Федерация продавалось все и вся. Уходила в различных направлениях военная техника, «открывались» секреты спецслужб, переходили в частные руки достояние Советского Союза. Коррупция, взяточничество и денежная вседозволенность приняла невиданного размаха. Так что, накапливание капитала могло продлиться у Серебряного еще очень длительное время, если бы не один очень серьезный промах, произошедший на третьем году деятельности их предприятия.
Одна ядерная разработка была продана заинтересованной стороне арабского мира. Как потом выяснилось, имеющей отношение к терроризму и уже несколько лет находившейся под колпаком Интерпола. И возмездие не заставило себя долго ждать. В один совсем не прекрасный момент в офис предприятия ввалились сотрудники ФСБ. Все счета, включая оффшорные, арестованы, имущество описано, Курносов и Серебряный задержаны, а в той или иной степени, связанные с их деятельностью другие лица, в одночасье открестились от фирмы. Началось следствие. Несколько раз был вызван на допрос и Евгений Николаевич. Всех потрясений пожилой профессор не выдержал и после обширного инфаркта, как говориться, ушел из жизни.
Не менее трагичной оказалась судьба и Курносова. В один из дней прибывания в СИЗО он бросил неудачную реплику в среде своих однокамерников, но в отличии от него – заурядных уголовников. Очень неудачный удар в живот, разрыв селезенки и нелепая смерть в больнице изолятора.
Сергею повезло значительно больше. Спустя месяцев шесть «отсидки» его вытащил один из друзей покойного Евгения Николаевича – на тот момент крупный государственных чиновник. В благодарность безвременно ушедшему другу и его дочери, как он выразился. Сначала Серебряный был выпущен под подписку из СИЗО, а затем следствие в отношении него было закрыто с формулировкой «за недоказанностью». Все было повешено на погибшего Курносова. Ну, и естественно, Сергей остался после такой развязки ни с чем. Все имущество, включая деньги на счетах, было конфисковано. Жена ушла, не простив смерть своего отца. Работа утеряна, друзья отвернулись. Был бы полный крах, но, опять-таки, совсем случайно, всплыло одно обстоятельство.
По нескольким последним операциям средства поступали не как обычно на счета открытые в Науру – острове с населением чуть более десяти тысячи человек, прославившемся наличием огромного числа банков офшоров, а на совсем недавно, открытый Сергеем счет в Эстонском банке «Кемпо». И эти средства, около 30 млн. долларов, оказались вне поля зрения интерпола и ФСБ, мало того о них на данный момент знал только Серебряный и требования на них вред ли кто мог предъявить.
Так к тридцати годам Сергей Викторович Серебряный оказался обладателем значительного состояния, не обремененный никакими обязательствами, но без семьи, друзей и близких.