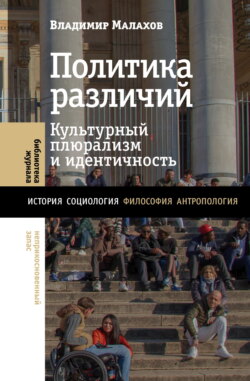Читать книгу Политика различий. Культурный плюрализм и идентичность - Владимир Малахов - Страница 6
Часть I. «Разнообразие» как реальность и теоретическая рамка
ОТ СООБЩЕСТВ К ПРОСТРАНСТВУ: ИССЛЕДУЯ ИЗМЕНЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОД ВЛИЯНИЕМ МИГРАЦИЙ123
ОглавлениеПространственная метафора завладела воображением представителей социальных наук столь прочно, что сегодня трудно найти работу на тему мигрантов в городе, в которой бы не фигурировали слова «пространство» и «территория». Порой эти понятия имеют откровенно мифопоэтический оттенок: «пространство контакта», «пространство надежды», «территория встречи», «территория будущего». Привлекательность такого словаря связана с антиэссенциалистским поворотом, произошедшим в социально-гуманитарных науках в последней трети XX столетия. В ходе этого поворота в категориальном аппарате современного обществознания утвердилось понятие «социальное пространство»124. Последнее, в отличие от пространства географического, или физического, есть пространство социальных отношений.
Между тем многие исследователи миграции, декларативно присягнувшие на верность конструктивистской методологии, на практике остаются внутри эссенциалистской парадигмы. Исходным пунктом их анализа выступают этнические группы. Последние наделяются набором якобы изначально присущих им свойств, не зависящих от социального взаимодействия. Если в ходе рассуждения при этом появляется термин «пространство», то оно мыслится как пустое вместилище для контакта групп друг с другом. Иными словами, группы предстают как субстанции, обладающие некими акциденциями, тогда как пространство есть не более чем пустая оболочка для развертывания этих акциденций125.
Настоящая статья представляет собой обзор исследований, посвященных воздействию миграции на города, с акцентом на эволюции этих исследований от эссенциализма к конструктивизму.
A. СНЯТЬ «ЭТНИЧЕСКИЕ ОЧКИ»: НИНА ГЛИК‐ШИЛЛЕР И ДРУГИЕ
Значимым шагом на пути преодоления эссенциалистской оптики в исследованиях миграций стала публикация в начале 2000‐х годов программной статьи Андреаса Виммера и Нины Глик-Шиллер «Методологический национализм, социальные науки и исследование миграции»126. В ней ученые поставили под вопрос продуктивность теоретической установки, которую они назвали методологическим национализмом. В отличие от национализма идеологического речь в данном случае идет об эпистемологии, благодаря которой общественно-человеческий мир выглядит как изначально поделенный на национальные государства. Отсюда проистекает нерефлексируемый жест исследователей – обращаться с «национальными государствами» и «этническими группами» как с само собой разумеющимися единицами анализа. Первые выступают своего рода контейнерами, внутри которых вторые взаимодействуют друг с другом. Такая оптика, однако, никоим образом не является «естественной», не говоря уже о том, что она не позволяет разглядеть множество важных общественных тенденций и явлений: в частности, то обстоятельство, что выходцы из одной страны, постоянно проживающие в другой стране, ни в аналитическом, ни в эмпирическом плане не «умещаются» ни в одно из этих пространств. Вырабатываемые ими формы самопонимания («идентичности»), равно как и формируемые ими способы коммуникации (как с принимающей страной, так и со страной исхода), носят не национальный, а транснациональный характер. Это в полном смысле слова транснациональные сообщества, члены которых строят свои жизненные стратегии поверх национально-государственных границ. Разумеется, Виммер и Глик-Шиллер не были первооткрывателями, раскрывшими глаза коллегам на существование этого феномена. Соответствующая литература появилась задолго до их публикации127 и множилась независимо от нее128. Стоит, кстати, заметить, что сама Нина Глик-Шиллер была в числе первых адептов транснационализма129. Что касается российской научной среды, то вплоть до последнего времени концептуальные возможности транснациональной парадигмы решались опробовать лишь отдельные исследователи130. Прорывным в этом контексте стал проект под руководством Сергея Абашина «Транснациональные и транслокальные аспекты миграции в современной России», результаты которого опубликованы совсем недавно131.
***
Теоретическая рамка транснационализма в какой-то мере позволила сформировать альтернативу «диаспороведению». Стоит, впрочем, заметить, что само по себе использование лексики транснационализма не является гарантией расставания с методологическим национализмом и укорененной в нем этноцентричной оптикой132.
Итак, социальное пространство есть пространство отношений. Поскольку эти отношения одновременно разворачиваются на разных уровнях – глобальном, национальном, региональном, локальном, – их анализ будет продуктивным только при условии, если исследователи отдают себе отчет во взаимной конститутивности «глобального» и «локального»133. Ученые, конечно, вольны сфокусировать внимание на таком объекте, как Город, но при этом полезно помнить, что «город» есть не более чем аналитическая точка входа. Единицу анализа нельзя принимать за единицу реального взаимодействия.
Социальные взаимодействия сегодня – это не взаимодействия между отдельными «территориальными целостностями» или «территориями» разного уровня, а взаимодействия внутри одного пространства, одной «территории». Эта территория формируется капиталистической глобализацией, современная фаза которой связана с победой неолиберальной модели капитализма над кейнсианской. Неолиберальная глобализация ведет к радикальному реструктурированию социального пространства, в том числе на городском уровне. О теоретических следствиях этого положения для миграциоведения рассуждает та же Нина Глик-Шиллер в соавторстве с Айше Чаглар134. Таких следствий обнаруживаются два. Первое: изучение современных миграционных процессов невозможно в отрыве от изучения процессов реструктурирования постиндустриальных городов, происходящих под воздействием неолиберальной глобализации с 1980‐х годов. Следствие второе: инкорпорирование мигрантов в социальную фабрику города не следует рассматривать сквозь этнические очки – как «интеграцию» представителей неких этнических сообществ («культурных меньшинств») в квазигомогенное «принимающее сообщество» («культурное большинство»). Стратегии, посредством которых мигранты встраиваются в социальное пространство города, определяются не ими самими и не горожанами. Они диктуются логикой капиталистической глобализации, радикально меняющей города. «Нерегулируемый капитализм свободного рынка расширяет классовое разделение, усиливает социальное неравенство и делает так, что богатые регионы становятся богаче, а все остальное все глубже погружается в болото бедности, – пишет Дэвид Харви. – Города становятся все более геттоизированными по мере того, как богатые все сильнее стремятся оградить себя от них»135.
Мигранты приходят вслед за инвестициями в «городское развитие», способствуя джентрификации отдельных районов, и в то же время выступают неотъемлемым элементом процессов прекаризации труда, охвативших постиндустриальный мир в последние два десятилетия XX века и ставших особенно драматичными после финансового коллапса 2008–2009 годов136. Для того чтобы адекватно отразить траектории встраивания мигрантов в эти процессы, исследователям необходимо снять «этнические очки».
Понятно, что излагаемые здесь мысли не возникли в идейном вакууме. Глик-Шиллер и Чаглар опираются, помимо процитированного выше Дэвида Харви137, на целый корпус исследований по социальной географии, социальной антропологии и социологии города, среди которых следует выделить работы Джанет Абу-Луход138, Саскии Сассен139 и Лоика Ваканта140.
Кроме того, интеллектуальное поле для их поиска в большой мере было подготовлено хрестоматийной книгой Герта Баумана «Оспаривая культуру: дискурсы идентичности в мультиэтничном Лондоне»141. Новизна и непреходящее значение этой работы заключаются прежде всего в том, что в ней на богатом эмпирическом материале проанализирована связь между классификациями населения и нашими представлениями о «сообществах». Как выяснил Бауман, эти представления обусловлены именно классификациями. Господствующий дискурс – задаваемый классификациями, принятыми бюрократией, – предполагает, что общество в том или ином городе или городском районе состоит из отдельных «этнических сообществ», каждое из которых является носителем особой культуры. В той мере, в какой сами люди интериоризировали господствующий дискурс, они принимают эти деления за само собой разумеющиеся, рассматривая «этнические сообщества» как отдельные «культурные сообщества».
***
Основные мысли программных статей Глик-Шиллер и Чаглар получили дальнейшую разработку в их недавней книге «Мигранты и производство городов»142. В ней среди прочего сделано три важных теоретических заявления.
Во-первых, дихотомия «местное население» (natives) vs. «мигранты» должна быть проблематизирована, поскольку native – понятие контекстуальное, ситуационное и властно нагруженное. Кого отнесут к этой категории, а кого из нее исключат, зависит в конечном итоге от того, какие агенты социального поля обладают символической властью, позволяющей навязать определенное ви´дение «общества».
Во-вторых, в проблематизации нуждается также понятие мобильности. «Мобильность» – совсем не невинный термин, лишь констатирующий некий факт. Кто сегодня мобилен, а кто – нет, опять-таки определяется диспозициями сил в политическом и экономическом полях. С одной стороны, возможность быть мобильными – это роскошь, имеющаяся в распоряжении высших и средних классов, тогда как представители низших классов такой возможности зачастую лишены по причине отсутствия элементарных ресурсов. С другой стороны, многие из тех, кого сегодня называют мобильными индивидами, вовсе не выбирали эту опцию (располагая возможностью оседлости), поскольку к существованию в качестве мобильных субъектов их вынудили обстоятельства – в частности, упомянутая выше прекаризация. Добавим, что ситуация пандемии COVID-19 еще более обострила фактор неравенства, детерминирующий «мобильность». Если представители средних классов в большинстве своем могли «самоизолироваться», работая удаленно, то рядом с ними существовали люди, у которых такой возможности не было. Им, так сказать, передали мобильность на аутсорсинг, делегировав те функции, которые в менее опасное время люди выполняют сами, – доставку еды и т. п. За выражением «мобильность» скрывается два совершенно разных процесса, которые авторы обозначают труднопереводимыми на русский язык словами emplacement и displacement. Включение в городское пространство одних сопровождается исключением из него других. «Обретение места» (emplacement) теми или иными индивидами идет параллельно с «лишением места» (displacement) других индивидов.
В-третьих, так называемое городское развитие имеет различные последствия не только для различных групп жителей, но и для различных городов. Процесс, именуемый «развитием», в случае мегагородов (мегаагломераций) означает умножение возможностей, увеличение ресурсов, аккумуляцию всех видов капитала – от финансово-экономического до социального. Но в случае малых городов он зачастую предполагает совсем иное – социально-экономическую депрессию и резкое снижение шансов найти работу для большей части жителей. Чаглар и Глик-Шиллер называют эти два типа социальной динамики терминами (опять-таки трудно поддающимися переводу) empowerment и disempowerment. «Обретение возможностей» и «наделение правами» (empowerment) на одном полюсе влечет за собой «изъятие прав», «лишение возможностей» (disempowerment) на другом полюсе. Эта динамика, повторимся, затрагивает как города в качестве географических и хозяйственных единиц, так и населяющих их людей. Есть «пораженные в правах» индивиды и слои населения, и есть «пораженные в правах» города. И то и другое – следствие процессов капиталистической глобализации, которые мы бездумно именуем «развитием».
Книга, о которой идет речь, стала возможной благодаря многолетнему исследованию, проводившемуся под руководством Чаглар и Глик-Шиллер в трех небольших городах трех стран – в Галле в восточной части Германии, Мардине в Турции и Манчестере в американском штате Нью-Гэмпшир. Все эти города считались на рубеже 1980–1990‐х годов депрессивными и в определенный момент стали объектом «политик развития», причем в каждом из них приток мигрантов рассматривался в контексте привлечения инвестиций и ребрендинга. Результаты этих политик оказались, мягко говоря, противоречивыми. Их бенефициарами стали единицы, тогда как «лишенцами» – многие. Особенно важно здесь то, что «лишающая» логика неолиберального капитализма затрагивает все группы населения независимо от того, являются они местными или приезжими. Данный тезис для Чаглар и Глик-Шиллер принципиален. Из него, собственно, и следует их акцент на необходимости преодолеть дихотомию «местные/мигранты» как в теоретическом, так и в практическом плане. В теории это означает выход за пределы бинарной логики, в которой эти «группы» мыслятся как статичные и противопоставляются друг другу. На практике же это подразумевает внимание к вариативности взаимодействия горожан с мигрантами, включающего в себя сотрудничество. Коллектив социологов, работавших в упомянутых трех городах, изучил и описал нарождающиеся формы такого сотрудничества. Звучит как вести с другой планеты? Или российские исследователи просто еще не уделяли подобным темам достаточного внимания?
Специфичность российского случая в контексте миграционной проблематики достаточно очевидна. И все же ее не следует преувеличивать. Будучи полупериферией современной глобальной социальной системы, Россия тем не менее является ее частью. Глубочайшие трансформации городского пространства России, свидетелями и участниками которых мы являемся, прямо или косвенно связаны с миграциями. Ниже пойдет речь об опыте осмысления этих трансформаций в отечественной социальной науке.
B. СОЦИАЛЬНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ ГОРОДСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ: РОССИЙСКИЙ СЛУЧАЙ
Призыв снять «этнические очки» для многих российских социологов и социальных антропологов сегодня неактуален – по той причине, что они никогда их не носили. Усилия по преодолению этноцентризма, долгое время безраздельно господствовавшего в отечественном обществознании, восходят к концу 1990‐х – началу 2000‐х годов143. Именно в этот период российские исследователи, изучавшие процессы миграции, поставили под сомнение «естественный» характер этнических категорий, продемонстрировав, что за ними стоят социальные отношения. То, что внешний взгляд принимает за сообщество, образованное на этнической основе, на деле может оказаться сообществом земляков (скажем, бакинцев) или сетью взаимопомощи, образованной на основе доверия (а последнее, в свою очередь, задается совместно проделанным опытом – скажем, в армейской части или в тюрьме). Высокостатусные выходцы из Азербайджана, реагируя на распространенный стереотип в отношении азербайджанцев на рынках, утверждают, что торгуют там не азербайджанцы, а талыши144. В экономических цепочках, которые представляются обывателю как устроенные по этническому признаку, на практике принимают участие представители многих национальностей, и «свои» для рядового участника таких цепочек – это отнюдь не автоматически люди, разделяющие с ним/ней общее этническое происхождение.
Отход российских исследователей от этноцентризма происходил не через лобовое столкновение с представителями эссенциалистской парадигмы, а посредством смены аналитической оптики. Так, петербургские социологи из Центра независимых социологических исследований, изучая так называемую «этническую экономику», взяли в качестве теоретической рамки теорию повседневности и теорию жизненного мира145. «Блошиный рынок» Санкт-Петербурга предстал в результате как пространство реализации стратегии выживания, избранной жителями постсоветской России и бывших советских республик в первые годы после коллапса СССР. В связи с этим исследователи вводят категорию «повседневной экономики» и демонстрируют, что петербургский «блошиный рынок», равно как и аналогичные феномены в других постсоветских городах, представляет собой именно такой институт.
B1. Базар и город
Феномен постсоветского базара и его роль в жизни российских городов в первые два десятилетия после смены социально-экономического и политического строя – тема, заслуживающая самого пристального аналитического внимания. Она, как говорится, еще ждет вдумчивых исследователей. К числу пионеров в этой области, наряду с коллективом Виктора Воронкова в Санкт-Петербурге, принадлежит коллектив Виктора Дятлова в Иркутске. Последний никогда не ограничивал круг исследований иркутянами, привлекая к своим проектам социальных ученых из других мест, хотя в пространственно-географическом плане исследования группы Дятлова сосредоточены в основном на городах Сибири и Дальнего Востока146. По понятным причинам в фокусе внимания здесь оказались так называемые китайские рынки. В ходе наблюдений за этим феноменом ученые изначально отказались от этноцентричной и, шире, «группистской» логики. Объектом их анализа стали не данности, именуемые группами, а взаимодействия людей, образующих группы. Взаимодействие же происходит в определенной среде и в определенном месте. Отсюда принципиальное значение понятия «локальность», которым оперируют Дятлов и его коллеги. То, что они пытаются описать и понять, представляет собой динамику «локальностей» (одним из вариантов которых и выступают так называемые китайские рынки).
Этническое маркирование для иркутских исследователей миграции есть не что иное, как символ специфического характера пространственной организации, указание на принцип функционирования той или иной локальности. Локальность, маркируемая в этнических терминах («китайский» рынок, равно как «вьетнамский» или «азербайджанский»), на деле отсылает вовсе не к такому «факту», как доминирование представителей соответствующей этнической группы. Она отсылает к особому типу социальных отношений. «Китайскость» рынка определяется вовсе не количеством на нем китайцев – и вообще не наличием китайцев. Он может быть «китайским» и без китайцев. «Китайским» рынок делают выполняемые им – и приписываемые ему – особые функции. Например, это возможность (для посетителей) купить по низким ценам товары относительно сносного качества, возможность (для продавцов) стремительно разбогатеть благодаря торговле контрафактом, возможность оказаться жертвой сверхэксплуатации (для подсобных работников) и т. д.147
Социальные трансформации, связанные с присутствием в городском пространстве мигрантов, столь стремительны, что обыденное сознание за ними не поспевает. В результате складывается специфическое напряжение, которое можно охарактеризовать как противоречие между публичными нарративами и реальными социальными взаимодействиями. С одной стороны, базар как таковой (и «китайский рынок» как одно из его проявлений) де-факто встроен в ткань городской жизни, неотъемлем от функционирования городского общества. С другой стороны, публичный нарратив «китайскости» устроен так, что в его рамках «китайский рынок» выступает как нечто чуждое городу и горожанам148. Это территория, на которой действуют «не наши правила». Кроме того, это место, где, возможно, реализуется угроза «внешнего влияния» на нас.
B2. Мигрантская инфраструктура
Миграционные процессы не могли не повлечь за собой ощутимых изменений в организации городского пространства, частью которых является появление специфически мигрантской инфраструктуры. В журналистских публикациях этот феномен оброс многочисленными мифами. Они так или иначе вращаются вокруг этничности – от «этнических кварталов» и «этнических гетто» до «этнических» заведений общепита, поликлиник и прочих локальностей, якобы свидетельствующих о существовании «города в городе» (а последний, в свою очередь, возникает из «нежелания интегрироваться»). Эти мифы опровергаются социологами и социальными антропологами, изучавшими формы встраивания мигрантов в городскую жизнь.
Исследования российских ученых продемонстрировали, в частности, что в российских городах нет пространственной сегрегации по этническому признаку149. Это обусловлено прежде всего особенностями структуры жилищного фонда, сложившейся в советские десятилетия. Постсоветская застройка привела к тому, что сегодня в одном районе и даже в одном квартале соседствуют друг с другом престижное и непрестижное жилье. А поскольку важнейший критерий при выборе жилья трудовыми мигрантами – это его дешевизна, они селятся повсюду. Квартира, снимаемая в складчину, может находиться где угодно. Главное, чтобы ее хозяин согласился сдать ее мигрантам (что нередко связано с плохим или требующим ремонта состоянием такой квартиры).
Одни из элементов мигрантской инфраструктуры – так называемые этнические кафе. Исследования коллектива Евгения Варшавера показали, что такие заведения и формирующиеся вокруг них сообщества есть не что иное, как место интеграции мигрантов в городской социум150. Заведения общепита, которые представляются внешнему взгляду «этническими» (т. е. создаваемыми представителями одной этнической группы для исключительного или преимущественного использования соплеменниками), на практике являются сложными структурами со множеством функций. В частности, так называемые «киргизские кафе» в Москве могут управляться азербайджанцами и служить местом общения для выходцев из разных стран постсоветской Средней Азии. Важно понимать, что сообщества, складывающиеся вокруг таких кафе, не являются этническими. Они формируются по иному, нежели общая этничность, признаку. Это может быть землячество (например, самаркандцы, среди которых есть и узбеки, и таджики), шаговая доступность от места работы (здесь ведутся деловые переговоры), религия (во-первых, в силу того, что исламская умма по определению должна объединять всех мусульман независимо от национальности, а во-вторых, в силу того, что приверженцы определенной, связанной с регионом исхода исламской традиции получают через кафе возможность регулярного общения с единоверцами). Само собой разумеется, что эти заведения открыты для любых посетителей независимо от этнической принадлежности.
Другой элемент возникающей мигрантской инфраструктуры – «киргизские клиники» в Москве. Данное выражение опять-таки приходится брать в кавычки или предварять формулировкой «так называемые». Речь идет о частных медицинских учреждениях, созданных, как правило, мигрантами из Кыргызстана (хотя их называют «киргизскими» и в случаях, когда их создали выходцы из других среднеазиатских стран). Такие клиники имеют репутацию мигрантских, и именно туда предпочитают обращаться среднеазиатские мигранты в случае болезни. Несмотря на распространенный стереотип, согласно которому эти учреждения обслуживают вполне определенную клиентуру, их целевая аудитория никоим образом не ограничена мигрантами – за лечением сюда приходят горожане любого происхождения151.
B3. Мигранты как участники изменений городской среды
Приезжая в город, мигранты встраиваются в существующую городскую среду и вместе с тем меняют ее. Впрочем, эта среда изменчива по определению, поэтому присутствие и активность мигрантов в городе есть одновременно и следствие, и причина ее изменений. Динамика экономических обменов, система социальной коммуникации, производство и потребление культуры – во всех этих сферах ощущается влияние миграционных процессов. Симптомы текущих трансформаций многообразны. В экономическом поле это среди прочего появление мигрантских бизнесов. Объявления вроде «требуются шаурмист, тандырщик, грильщик, грузчик» говорят о том, что собственник «предприятия малого бизнеса» выступает работодателем и для местных, и для приезжих работников. В числе изменений, происходящих в системе социальной коммуникации, – появление многочисленных «диаспоральных» соцсетей, а также сетевых ресурсов, адресованных мигрантам, но создаваемых и управляемых местными предпринимателями или гражданскими активистами. Отдельная и пока слабоизученная тема – влияние миграции на динамику культурного поля. Как вписываются в культурную среду города его новые жители? Если досуговые практики мигрантов (т. е. их активность с точки зрения культурного потребления) уже не раз становились предметом внимания российских обществоведов152, то с мигрантским участием в культурном производстве дело обстоит хуже. Первые работы на эту тему появились лишь в самые последние годы153.
В каких эстетических формах артикулируется (если это вообще происходит) специфически мигрантский опыт? Как соотносятся «предложение» мигрантской артистической активности и «спрос» на нее? В какой мере характер этой активности определен спецификой российской институциональной среды? Поиском ответов на эти вопросы серьезно занимается Марк Симон154.
Кроме того, миграция привела к ощутимым изменениям в религиозной жизни российских городов. В проповедях, читаемых в московских и петербургских мечетях, стал преобладать русский язык – он, в отличие от татарского, служит lingua franca [общим языком. – лат.] для прихожан из ближнего зарубежья155. Вокруг мечетей и молельных домов везде, где есть мигранты-мусульмане, складывается специфическое пространство, устроенное гораздо более сложным образом, чем это представляется аутсайдерам. Анализом этого устройства на протяжении многих лет занимается Дмитрий Опарин. Помимо Москвы, где полевые исследования ведутся с 2013 года (включенное наблюдение и глубинные интервью), он изучал мусульманские сообщества в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Томске и Иркутске. Результаты недавней (2020 год) работы Опарина в Томске подтверждают выводы, сделанные им в ходе предыдущих исследований. Среди этих выводов – недооцениваемая роль низовой исламской агентности. Рядовые верующие, приехавшие из Средней Азии или с Кавказа, могут становиться религиозными лидерами, вокруг которых группируются локальные мусульманские сообщества. Авторитет этих лидеров формируется не за счет религиозного образования (которого у них обычно нет), а благодаря социальному капиталу. Аккумуляция же этого капитала обусловлена сочетанием множества факторов, таких как индивидуальная набожность, личные качества, миграционный опыт, профессиональный статус, финансовые возможности, навыки в области нетрадиционной медицины и т. д. Избранная исследователем теоретическая рамка (она задается такими концептами, как религиозный индивидуализм, повседневный ислам и тактическая религия) позволяет получить более нюансированную картину происходящего в российском религиозном пространстве, чем те представления, которыми мы вынуждены довольствоваться, если сосредоточиваем внимание на формальных мусульманских организациях и медийных фигурах, репрезентирующих ислам.
B4. Социальные трансформации и административные практики
Одним из актуальнейших вопросов российской социальной политики является готовность образовательной системы адаптироваться к изменениям, которые несут с собой миграционные процессы. Похоже, однако, что на настоящий момент эта система ожидает адаптации от самих мигрантов – точнее, от их детей. Во всяком случае, исследования, проводившиеся Екатериной Деминцевой и ее коллегами в российских школах, показывают, что последние, по сути, лишены пространства маневра в обучении школьников, плохо знающих русский язык156. Директора и учителя вынуждены соблюдать единый образовательный стандарт, не предусматривающий каких-либо отклонений, а это означает, что дети мигрантов не могут не быть для них обузой. Из работ российских социологов мы узнаем, как конструируется и консервируется «проблема» детей мигрантов. Собственно говоря, вся она упирается в недостаточные языковые компетенции. Дети из мигрантских семей, посещавшие детский сад, прекрасно говорят по-русски и зачастую оказываются не просто хорошими, а лучшими учениками. Стало быть, для того чтобы эту проблему решить, нужны систематические усилия по обучению русскому языку детей, им не владеющих, а также определенные коррективы в организации образовательного процесса, направленные на таких детей. Это подготовительные курсы для дошкольников, специальные программы для детей старшего возраста, подготовка учителей к работе со школьниками с недостаточным знанием языка или отсутствием такого знания и т. д. Поскольку ничего подобного не существует, руководство школ категоризирует детей, плохо знающих русский язык и потому неспособных справиться с программой, как «отклоняющихся от нормы» и «отстающих». Из них подчас набираются целые классы.
Кроме того, социологи показывают, как возникают так называемые «мигрантские школы». «Мигрантскими» их делает не число обучающихся в них детей мигрантов, а соответствующая репутация школы. Репутация же эта складывается в силу низкого социального статуса родителей большинства учеников независимо от того, принадлежат ли они к местным или приезжим. Это так называемые «плохие школы» (они же – «проблемные»), где в составе учащихся велика доля детей из «проблемных» семей. Именно в таких школах и оказываются зачастую дети из семей мигрантов. Симптоматично, что высокостатусные мигранты предпочитают не отдавать своих детей в такие учебные заведения. Они не отождествляют себя с низкостатусными выходцами из мигрантской среды, дистанцируясь от «дворников» и «уборщиц» (что, заметим, идет вразрез с представлением об априорной этнической идентичности и национальной солидарности «групп» приезжих).
124
См.: Bourdieu P. Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1984.
125
Критику этой эпистемологической установки см. в: Brubaker R. Ethnicity without Groups. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.
126
Wimmer A., Glick Schiller N. Methodological Nationalism, the Social Sciences and the Study of Migration // International Migration Review. 2003. № 37 (3). P. 576–610.
127
См.: Smith R. C. Transnational Migration, Assimilation and Political Community // Crahan М., Vourvoulias-Bush А. (eds.). The City and the World. New York: Council of Foreign Relations, 1997. P. 110–133; Portes A., Guarnizo L. E., Landolt P. The Study of Transnationalism: Pitfalls and Promises of Emergent Research Field // Ethnic and Racial Studies. 1999. № 22 (2). P. 217–237; Portes A., Guarnizo L., Haller D. Transnational Entrepreneurs: An Alternative Form of Immigrant Economic Adaptation // American Sociological Review. 2002. № 67 (2). P. 278–298; Faist T. The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces. Oxford: Oxford University Press, 2000.
128
См.: Calhoun C. «Belonging» in the Cosmopolitan Imaginary // Ethnicities. 2003. № 3 (4). P. 531–568; Voigt-Graf C. Towards a Geography of Transnational Spaces: Indian Transnational Communities in Australia // Global Networks. 2004. № 4 (1). P. 25–49; Vertovec S. Transnationalism. London: Routledge, 2009.
129
Bash L., Glick Schiller N., Szanton Blank C. Nations Unbound: Transnational Projects, Postcolonial Predicaments and Deterritorialized Nation-States. Amsterdam: Gordon & Breach, 1994.
130
См.: Бредникова О. Е., Ткач О. А. Дом для номады // Laboratorium: Журнал социальных исследований. 2010 (3). С. 72–95; Абашин С. Н. Среднеазиатская миграция: практики, локальные сообщества, транснационализм // Этнографическое обозрение. 2012 (4). С. 3−13; Бредникова О. Е. (Не)возвращение: могут ли мигранты стать бывшими? // Этнографическое обозрение. 2017 (3). С. 32−47; Она же. Мобильная занятость мобильного субъекта // Журнал исследований социальной политики. 2020. Т. 18. № 4. С. 705–720.
131
Бредникова О. Е., Абашин С. Н. Жить в двух мирах. Переосмысляя транснационализм и транслокальность. М.: Новое литературное обозрение, 2021.
132
См.: Bauboeck R., Faist T. Diaspora and Transnationalism: Concepts, Theories and Methods. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010; Amelina A., Faist T. De-naturalization of the National in Research Methodologies: Key Concepts of Transnational Studies // Migration. Ethnic and Racial Studies. 2012. № 35 (10). P. 1707–1724; Amelina A., Faist T., Nergiz D. D. (eds.). Methodologies on the Move: The Transnational Turn in Empirical Migration Research. London; New York: Routledge, 2013.
133
См.: Castells M. The Power of Identity. Oxford: Blackwell, 1997; Brenner N., Theodore N. Cities and Geographies of Actually Existing Neoliberalism // Antipode. 2002. № 34 (3). P. 348–379; Beck U., Sznaider N. Unpacking Cosmopolitanism for the Social Sciences: A Research Agenda // British Journal of Sociology. 2006. № 57 (1). P. 1–23; Roudometof V. Glocalization: A Critical Introduction. London: Routledge, 2016.
134
См.: Glick Schiller N., Caglar A. Towards a Comparative Theory of Locality in Migration Studies: Migrant Incorporation and City Scale // Journal of Ethnic and Migration Studies. 2009. № 35 (2). P. 177–202.
135
Харви Д. Право на город // Логос: Философско-литературный журнал. 2008. № 3 (66). С. 80–94.
136
О феномене прекариата подробнее см.: Стэндинг Г. Прекариат. Новый опасный класс. М.: Ad Marginem, 2014.
137
Harvey D. Spaces of Global Capitalism: Towards a Theory of Uneven Geographical Development. London: Verso, 2006.
138
Abu-Lughod J. New York, Los Angeles: America’s Global Cities. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
139
Sassen S. Cities in a World Economy. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press (2nd edition), 2000.
140
Wacquant L. Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality. Cambridge: Polity Press, 2008; Idem. Punishing the Poor: The Neoliberal Government of Social Insecurity. Durham: Duke University Press, 2009.
141
Baumann G. Contesting Culture: Discourses of Identity in Multi-Ethnic London. New York: Cambridge University Press, 1996.
142
Caglar A., Glick Schiller N. Migrants and City-Making: Disposession, Displacement and Urban Regeneration. Durham; London: Duke University Press, 2018.
143
Воронков В. И., Освальд И. Постсоветские этничности // Конструирование этничности: этнические общины Санкт-Петербурга / Под ред. В. Воронкова, И. Освальда. СПб.: Дмитрий Буланин, 1998. С. 6–36; Бредникова О. Е., Паченков О. В. Этничность «этнической экономики» и социальные сети мигрантов // Этничность и экономика / Под ред. О. Бредниковой, В. Воронкова, Е. Чикадзе. СПб.: ЦНСИ, 1999. С. 47–54; Малахов В. М. Преодолимо ли этноцентричное мышление? // Расизм в языке социальных наук / Под ред. В. Воронкова, О. Карпенко, А. Осипова. СПб.: Алетейя, 2002. С. 9–22; Осипов A. М. Конструирование этнического конфликта и расистский дискурс // Расизм в языке социальных наук. С. 45–69.
144
Эти сведения получены автором из личного общения с санкт-петербургским социологом Виктором Воронковым.
145
См.: Бредникова О. Е., Паченков О. В. Этничность «этнической экономики»; Brednikova O., Pachenkov O. Migrants-«Caucasians» in St. Petersburg: Life in Tension // Anthropology and Archeology of Eurasia. 2002. № 41 (2). P. 43–89.
146
См.: Дятлов В. И. Россия: в предчувствии «чайнатаунов» // Этнографическое обозрение. 2008 (4). С. 6–16; Он же. Этнические рынки в современной России – ускользающий объект исследовательского внимания // Этнические рынки в России: пространство торга и место встречи / Под ред. В. И. Дятлова, К. В. Григоричева. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2015. С. 16–40; Базар и город: люди, пространства, образы / Под ред. К. В. Григоричева, В. И. Дятлова, Д. О. Тимошкина, Д. Е. Брязгиной. Иркутск, 2019 (оттиск).
147
Базар и город: люди, пространства, образы.
148
Тимошкин Д. О. Выживание, экзотика, пустота. Эволюция постсоветского открытого рынка в городских нарративах // Социологический журнал. 2018. № 24 (4). С. 54–74.
149
Vendina O. Social Polarization and Ethnic Segregation in Moscow // Eurasian Geography and Economics. 2002 (3). April – May. Vol. XXXXIII. P. 216–244; Бредникова О. Е., Ткач О. А. Дом для номады; Деминцева Е. Б., Пешкова В. М. Мигранты из Средней Азии в Москве // Демоскоп weekly. 2014. 5–18 мая. С. 597–598.
150
Варшавер Е. А., Рочева А. Л. Сообщества в кафе как среда интеграции иноэтничных мигрантов в Москве // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2014. № 3 (121). С. 104–113.
151
Demintseva E., Kashnitsky D. Contextualizing Migrants’ Strategies of Seeking Medical Care in Russia // International Migration. 2016. № 54 (5). P. 29–42.
152
Вендина О. И. Культурное разнообразие и «побочные» эффекты этнокультурной политики в Москве // Иммигранты в Москве / Под ред. Ж. А. Зайнчковской. М.: Три квадрата, 2009. С. 45–147; Акифьева Р. Н. Досуговые практики и образовательные притязания: взаимосвязь между миграционной историей и ресурсами семьи // Демоскоп weekly. 2014. № 611–612. Онлайн-версия: http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0611/analit04.php (последний доступ: 18.10.2020).
153
Каландаров Т. С. Косточка сладкая, на чужбине я…: поэзия таджикских трудовых мигрантов в России // Acta Slavica Iaponica. 2017 (38). С. 91–119; Малахов В. М., Симон М. Е., Олимова С. К. Творчество мигрантов как проблема социологии культуры: выходцы из Таджикистана в России // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2018. № 3 (119). С. 30–54; Malakhov V. Why Tajiks Are (Not) Like Arabs: Central Asian Migration into Russia Against the Background of Maghreb Migration into France // Nationalities Papers. 2019. № 47 (2). P. 310–324.
154
Симон М. Е. Музыкальная практика как ритуал сопротивления в (пост)-миграционной ситуации // Социология власти. 2017. № 29 (2). С. 133–152; Он же. Репрезентации мигрантов в клипах российских независимых артистов: три стратегии конструирования аутентичности // Неприкосновенный запас. 2020. № 134 (6). С. 199–211; Он же. Инсценируя городское разнообразие: мигранты на театральных сценах Берлина и Москвы // Laboratorium. Журнал социальных исследований. 2020. № 12 (1). С. 15–41.
155
Yusupova G., Ponarin E. Social Remittances in Religion: Muslim Migrants in Russia and Transformation of Islamic Practices // Problems of Post-Communism. 2016. DOI: 10.1080/10758216.2016.1224552.
156
Demintseva E. «Migrant Schools» and the «Children of Migrants»: Constructing Boundaries Around and Inside School Space // Race Ethnicity and Education. 2020. № 23 (4). P. 598–612.