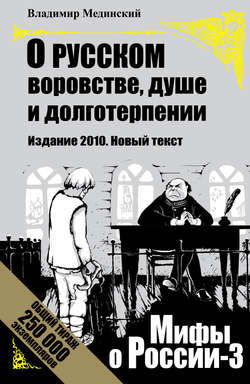Читать книгу О русском воровстве, душе и долготерпении - Владимир Мединский - Страница 11
Часть IX
«Воруют-с…»
Или он украл, или у него украли…
Глава 4
Репутация московских деловых людей и купцов Российской империи
ОглавлениеНе дал слова – крепись, а дал слово – держись!
Русская поговорка
Деловой мир кондовой и дикой Московии
У нас в истории России до XIX века как-то всегда получается, что россиянин прошлого – это или крестьянин-солдат, или дворянин-офицер, он же чиновник – дьяк в московском приказе либо сановник в Петербурге. Словом, или податное сословие, или государев человек.
Ну, поднатужившись, вспомним еще «представителей духовенства»: попов, дьяков… как их там еще, почешем в затылке? А… вот еще – подьячих да монахов. О том, что дьяк и диакон – это не одно и то же, а подьячий – не есть помощник священника в церкви, вообще вспомнят единицы. Только особо интересующиеся вопросами церкви либо любители исторической литературы.
Что же касается старорусских дельцов и предпринимателей, почему-то мы их не замечаем. Хотя было их немало, и роль их в жизни страны и народа огромна.
В XVII веке правительство старалось помогать купцам. На взаимной, так сказать, основе. В случае государственной нужды купцы могли ссудить государству совершенно фантастические по тем временам суммы – тысячи и десятки тысяч рублей. Дойная корова тогда стоила рубль, изба – два или три рубля, так что эти тысячи рублей – деньги неправдоподобные, громадные. Настоящие состояния.
Для удобства взимания налогов и организации самих купцов их объединяли в «сотни», закрепляли за сотнями права торговать определенным товаром, внимательно следили за соблюдением этих прав. Весь XVII век отличается огромным вниманием к торговле, к предпринимательству.
Взять хотя бы Новоторговый устав 1667 года, созданный приближенным царя Алексея Михайловича Афанасием Ордин-Нащокиным. Согласно этому уставу, иностранцы платили сравнительно небольшие пошлины, но только если торговали оптом и в приграничных волостях. По мере продвижения в глубь страны и при переходе к розничной торговле пошлины вырастали и становились совершенно непосильными. Волей-неволей иностранцы продавали свои товары, не углубляясь в страну.
Почему это важно? А потому, что еще Михаилу Федоровичу, отцу Алексея Михайловича, на Азовском соборе 1642 года посадские люди подали такую челобитную:
«…А торжишка, государь, стали у нас гораздо худы, потому что наши торжишка на Москве и во всех городех отняли многие иноземцы, немцы и кизилбашцы, которые приезжают к Москве и в иные города со своими великими торгами и торгуют всякими товары, а в городех всякие люди онищали и оскудели до конца от твоих государевых воевод… и мы, холопи твои и сироты, милости у тебя государя царя просим, чтобы тебе, государю… в нашу бедность воззрить».
Новоторговый устав помогал русским людям. Правительство Руси-Московии в середине XVII века ввело систему, которая во всем мире называется протекционистской. Слово восходит к латинскому слову protectio – защита, покровительство.
Политику протекционизма, направленную на поддержку национального производства и торговли, проводило великое множество различных правительств в разное время, защищаясь от более сильных соседей.
Только не надо говорить, что протекционистская политика была вызвана слабостью Московии. Дело совершенно не в том, что производства московитских предпринимателей были так уж слабы и не могли противостоять иноземным.
Франция, по всеобщему мнению, страна самая что ни на есть «передовая» и «цивилизованная». В этой передовой стране выдающийся экономист Кольбер в своих таможенных тарифах (вторая половина XVII в.) проводил политику жесткого протекционизма, защиты французского производства и торговли от конкуренции бойких иностранцев.
Вариантов два: или Ордин-Нащокин и Кольбер случайно ввели протекционистскую политику одновременно. Так бывает часто: как вы знаете, «хорошие идеи витают в воздухе». Но тогда как же быть с тезисом об отсталости России?!