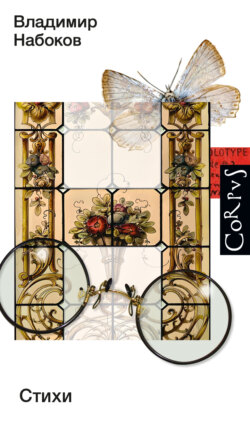Читать книгу Стихи - Владимир Набоков - Страница 1
От редактора
ОглавлениеВ марте 1976 года Вера Набокова предложила главе издательства «Ардис» Карлу Профферу выпустить «томик „патриотических“ стихов» Набокова. «Их всего 15 или 20, и много лет тому назад они были чрезвычайно популярны, но по большей части слишком злободневны, вследствие чего В.Н. не включил их в „Стихи и <шахматные> задачи“[1]. А может быть, сделать солидный том с его русскими стихами <…>?»[2] Первого апреля она вернулась к этой теме:
Стихи. Я еще напишу о них отдельно. Мне будет довольно трудно отыскать их все, а потом выбрать что-то для печати – и я бы хотела заниматься этим при активном участии В.Н. И о «Предисловии». Если его нужно писать, то это, конечно, должен сделать сам В. Н[3].
К осени планы издания итогового сборника стихов Набокова, как следует из нового письма В.Е. Набоковой к Профферу, начали обретать более определенные очертания:
Стихи. У меня есть много стихотворений, не включенных ни в «Возвращение Чорба», ни в «Стихи и задачи». <…>
Я все еще болею, но как только здоровье позволит, попытаюсь начать этим заниматься.
Какого размера сборник стихов Вы предполагаете издать?
Муж все еще в больнице, медленно выздоравливает после долгой и изнурительной болезни[4].
Наконец 4 октября 1976 года она сообщила, что они с мужем приступили к составлению сборника стихов, «в который войдет „Университетская поэма“, никогда не входившая ни в какие собрания»[5].
Книга должна была выйти в 1977 году, однако Набоков, так и не оправившийся после болезни, не успел закончить работу по ее составлению – еще раз оценить предварительно отобранные стихи, проверить их датировки, написать предисловие. Ему оставалось жить меньше года, и после его смерти 2 июля 1977 года подготовкой сборника к печати продолжила заниматься Вера Набокова. «Стихи», последняя книга Набокова, повторившая название его первого поэтического сборника 1916 года (единственной его книги, изданной в России), вышли в «Ардисе» в 1979 году с предисловием Веры Набоковой и без «Университетской поэмы», но с добавлением раздела «Стихи из рассказов и романов».
Ни одного стихотворения из сборника 1916 года Набоков впоследствии не публиковал и в итоговое собрание стихов не включил. В «Других берегах» (1954) он вспоминал о нем как о естественном следствии романтических отношений с петербургской возлюбленной Валентиной (Люсей) Шульгиной (названной в «Других берегах» Тамарой):
В течение всех тех месяцев [1915 года] я не переставал писать стихи к ней, для нее, о ней – по две-три «пьески» в неделю; в 1916 году я напечатал сборник и был поражен, когда она мне указала, что большинство этих стихотворений – о разлуках и утратах, ибо странным образом начальные наши встречи в лирических аллеях, в деревенской глуши, под шорох листьев и шуршанье дождя, нам уже казались в ту беспризорную зиму невозвратным раем, а эта зима – изгнанием. Спешу добавить, что первая эта моя книжечка стихов была исключительно плохая, и никогда бы не следовало ее издавать. Ее по заслугам немедленно растерзали те немногие рецензенты, которые заметили ее. Директор Тенишевского училища, В.В. Гиппиус, писавший (под псевдонимом Бестужев) стихи, мне тогда казавшиеся гениальными (да и теперь по спине проходит трепет от некоторых запомнившихся строк в его удивительной поэме о сыне)[6], принес как-то экземпляр моего сборничка в класс и подробно его разнес при всеобщем, или почти всеобщем, смехе[7].
Возможно, помня об этой литературной неудаче, свой второй поэтический сборник «Горний путь» (он вышел позже сборника «Гроздь», но составлялся раньше из более ранних стихов) Набоков доверил подготовить отцу и Саше Черному (псевдоним А.М. Гликберга), известному поэту и другу семьи. Как следует из письма В.Д. Набокова к сыну от 29 января 1922 года, до выхода книги автору не было известно даже ее название:
<…> Третьего дня у нас обедал и провел вечер Кара-Саша <…>. Мы выбрали заглавие для стихов Сирина, которые с завтрашнего дня поступают в набор. Ты узнаешь об этом заглавии, когда выйдет книга[8], – это во избежание свойственных юным авторам капризов и шершемидиакаторзёрства[9]. Думаю, что оно Тебе понравится, если же нет, то Ты можешь послать письмо в редакции газет и сказать, что не отвечаешь за заглавие. Потом мы установили порядок размещения. Более крупные (по размерам, конечно; по таланту они все одинаковые – если хочешь, можешь это принять за комплимент) вещи будут в середине. Первым будет стих «Поэту», где нечто вроде професион-де-фоа (…не «…грá»)[10], а последним «Жизнь», с чем-то вроде заключительного аккорда. В общем, я ожидаю, что на другой день после выхода книжки Ты проснешься знаменитым. На обложке Кара-Саша предлагал на выбор или ничего, или виньетку, изображающую барышню. Я выбрал ничего. Цвет бумаги (обложки) – крем <…>[11].
Прямо или косвенно указывая в стихах 1920-х годов на Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Блока, Бунина, Ходасевича и других поэтов, Набоков очертил круг своих предшественников, продолжателем которых себя полагал. Причем осознание этой связи становилось тем крепче, чем дальше в прошлое уходила царская Россия его детства и юности и чем больше проникали в его сочинения реалии эмигрантской жизни. В те годы стихи любимых русских поэтов приобрели для Набокова значение невосполнимых сокровищниц образов, мотивов, интонаций, оборотов, метрических особенностей – бесценных в силу их подлинности и чистоты. На фоне серой советской яви, ежедневно описываемой в зарубежной прессе и передаваемой вновь прибывшими экспатриантами, с одной стороны, и непрочного, декоративного эмигрантского существования – с другой, богатый мир русского прошлого окрасился для Набокова особенно яркими, почти сказочными красками в духе «мечтательного ретроспективизма» В. Борисова-Мусатова и мирискусников. Хорошим примером служит недатированное и до сих пор не опубликованное стихотворение «Памяти Некрасова», написанное, по нашему предположению, в начале 1928 года, к пятидесятилетию со дня смерти поэта:
Памяти Некрасова
В его трепещущее слово,
бывало, вслушаюсь, всмотрюсь:
нет, не убога и сурова —
красна некрасовская Русь!
Стоит, насыщена напевом,
нагие руки заломив…
Сияет туча сизым чревом
над тяжким колыханьем нив.
Как это солнце таровато,
как мир горит сквозь дождь косой!
Дубы какие – в три обхвата —
над полноводною рекой!
Что человеческие стоны
пред этой негой бытия?
И только свежий «шум зеленый»[12]
в тумане счастья слышу я[13].
Много лет спустя, уже после переезда в Америку, Набоков переведет несколько стихотворений Некрасова на английский язык[14] и вновь упомянет его в стихотворении «An Evening of Russian Poetry» («Вечер русской поэзии», 1944), снова широкими мазками рисуя русский пейзаж с огромными тучами, бескрайней равниной, дождем и рифмуя «ракиты» и «repeated»:
<…> Amorphous sallow bushes called rakeety,
enormous clouds above an endless plain,
songline[15] and skyline endlessly repeated,
the smell of grass and leather in the rain.
And then the sob, the syncope (Nekrasov!),
the panting syllables that climb and climb,
obsessively repetitive and rasping,
dearer to some than any other rhyme[16].
По воспоминаниям Ханны Грин, студентки Набокова в американском колледже Уэллсли, он нередко читал в аудитории русские стихи в оригинале, чтобы его слушатели могли оценить их звучание, но замечал при этом: «Истинная музыка стиха – это не его мелодия. <…> Настоящая музыка стиха – это та тайна, которая выплескивается за край рациональной фактуры стиха»[17].
Родина – универсальный мотивно-образный комплекс стихотворений Набокова, охватывающий широкий круг тем, связанных с прошлым, с утратой, с памятью, с личным, семейным, любовным, усадебным, гражданским, историческим, творческим, религиозным и даже потусторонним. «Россия» звучит в стихах сборника 1979 года два десятка раз, «родина» – полтора десятка раз, около десяти – слово «отчизна», и около двадцати – «Русь», «русский». Родина для Набокова, навсегда оставленная в 1919 году, становится формой культурного и географического наваждения («Россия»: «Ты в страсти моей, и в страданьях торжественных», 1918), от которого он не может отделаться и в более поздних стихах («Поэты»: «молчанье отчизны – любви безнадежной…», 1939; «К России»: «Отвяжись, я тебя умоляю…», 1939; «Сон»: «„Читай, читай!“ – кричит мне кровь моя:/Р, О, С, – нет, я букв не различаю», 50-е годы; «Какое сделал я дурное дело…»: «тень русской ветки будет колебаться/на мраморе моей руки», 1959).
Ранние стихи 1915–1917 годов за редкими исключениями Набоков относил к интимной любительской лирике и в сборник 1979 года не включил. В третьей главе полуавтобиографического романа «Дар» (1938) от имени поэта Федора Годунова-Чердынцева (стихи которого из романа представлены в сборнике) он описал свое поэтическое становление так:
Вследствие, вероятно, слабой моторности моей молодой роликовой лирики, глаголы и прочие части речи менее занимали меня. Не то – вопросы размера и ритма. Борясь с природной склонностью к ямбу, я волочился за трехдольником; а затем уклонения от метра увлекли меня. То было время, когда автор «Хочу быть дерзким» пустил в обиход тот искусственный четырехстопный ямб, с наростом лишнего слога посредине строки (или, иначе говоря, двухстопное восьмистишие с женскими окончаниями кроме четвертой и последней строки, поданное в виде четверостишья), которым, кажется, так никогда и не написалось ни одно истинно поэтическое стихотворение. Я давал этому пляшущему горбуну нести закат или лодку и удивлялся, что тот гаснет, та не плывет. Легче обстояло дело с мечтательной запинкой блоковского ритма, однако, как только я начинал пользоваться им, незаметно вкрадывался в мой стих голубой паж, инок или царевна, как по ночам к антиквару Штольцу приходила за своей треуголкой тень Бонапарта.
Рифмы по мере моей охоты за ними сложились у меня в практическую систему несколько картотечного порядка. Они были распределены по семейкам, получались гнезда рифм, пейзажи рифм. «Летучий» сразу собирал тучи над кручами жгучей пустыни и неминучей судьбы. «Небосклон» направлял музу к балкону и указывал ей на клен. «Цветы» подзывали мечты, на ты, среди темноты. Свечи, плечи, встречи и речи создавали общую атмосферу старосветского бала, Венского конгресса и губернаторских именин. «Глаза» синели в обществе бирюзы, грозы и стрекоз – и лучше было их не трогать. «Деревья» скучно стояли в паре с «кочевья» <…>. «Ветер» был одинок – только вдали бегал непривлекательный сеттер, – да пользовалась его предложным падежом крымская гора, а родительный – приглашал геометра. Были и редкие экземпляры – с пустыми местами, оставляемыми для других представителей серии, вроде «аметистовый», к которому я не сразу подыскал «перелистывай» и совершенно неприменимого неистового пристава. Словом, это была прекрасно размеченная коллекция, всегда у меня бывшая под рукой.
Не сомневаюсь, что даже тогда, в пору той уродливой и вредоносной школы (которой вряд ли бы я прельстился вообще, будь я поэтом чистой воды, не подпадающим никогда соблазну гармонической прозы), я все-таки знал вдохновение. Волнение, которое меня охватывало, быстро окидывало ледяным плащом, сжимало мне суставы и дергало за пальцы, лунатическое блуждание мысли, неизвестно как находившей среди тысячи дверей дверь в шумный по-ночному сад, вздувание и сокращение души, то достигавшей размеров звездного неба, то уменьшавшейся до капельки ртути, какое-то раскрывание каких-то внутренних объятий, классический трепет, бормотание, слезы, – все это было настоящее. Но в эту минуту, в торопливой, неумелой попытке волнение разрешить, я хватался за первые попавшиеся заезженные слова, за готовое их сцепление, так что как только я приступал к тому, что мнилось мне творчеством, к тому, что должно было быть выражением, живой связью между моим божественным волнением и моим человеческим миром, все гасло на гибельном словесном сквозняке, а я продолжал вращать эпитеты, налаживать рифму, не замечая разрыва, унижения, измены <…>
Стихи: о разлуке, о смерти, о прошлом. Невозможно определить (но, кажется, это случилось уже за границей) точный срок перемены в отношении к стихотворчеству, – когда опротивела мастерская, классификация слов, коллекция рифм. Но как было мучительно трудно все это сломать, рассыпать, забыть! Ложные навыки держались крепко, сжившиеся слова не хотели расцепиться. Сами по себе они не были ни плохи, ни хороши, но их соединение по группам, круговая порука рифм, раздобревшие ритмы, – все это делало их страшными, гнусными, мертвыми. <…> Часто повторяемые поэтами жалобы на то, что, ах, слов нет, слова бледный тлен, слова никак не могут выразить наших каких-то там чувств (и тут же кстати разъезжается шестистопным хореем), ему казались столь же бессмысленными, как степенное убеждение старейшего в горной деревушке жителя, что вон на ту гору никогда никто не взбирался и не взберется; в одно прекрасное, холодное утро появляется длинный, легкий англичанин – и жизнерадостно вскарабкивается на вершину[18].
Примечательно, что одной из собственных покоренных поэтических вершин Набокова стала написанная по-английски и самая его длинная поэма «Pale Fire» («Бледный огонь»), состоящая из 999 строк и включенная им в одноименный роман 1962 года. Ей уступают две его крупнейшие русские поэмы – только недавно опубликованный «Солнечный сон» 1923 года (820 строк), инспирированный разрывом помолвки со Светланой Зиверт, и «Университетская поэма» 1926 года (882 строки), посвященная Кембриджу и английской романтической подруге Набокова студенческих лет, при жизни писателя напечатанная лишь однажды[19].
Несмотря на скептическое отношение эмигрантских критиков к стихам Набокова 1920-х годов, у публики они пользовались неизменным успехом, – вероятно, потому, что многие из них носили урочный, общественно значимый, отчасти даже эстрадный характер, хорошо звучали как со страниц газет, так и со сцены. Поэтический репертуар Набокова при этом менялся мало, одни и те же приемы, интонации, темы и образы без конца следовали по кругу, как орнамент на античной вазе. Однако уже к концу 1920-х годов в его стихах взяла верх внутренняя логика развития лирического переживания, стихи стали менее доходчивыми, но более оправданными с точки зрения искусства.
Процесс набоковского поэтического вызревания проследил критик и историк литературы Глеб Струве:
Если сравнить стихи Набокова позднего со стихами ранними (1921–1925), вошедшими в его две первые книги и напечатанными в газетах, то можно заметить, конечно, и смену тем, и иную систему образов, и новый подход к миру (в ранних стихах, например, очень сильно звучат патриотические – порой сусальные – и религиозные – явно книжные – ноты, в них много сентиментальной тоски по родине, «березок», чистых описаний), но поражает больше всего не это, а смена образцов. Вместо Пастернака, Маяковского, Ходасевича, может быть, иногда Белого и Мандельштама, а то и Поплавского, которые слышатся за поздними стихами, мы найдем в «Горнем пути» в лучшем случае Фета и Майкова, а в худшем – Ратгауза, а в «Грозди» и более поздних стихах 20-х годов – Фета, Майкова, Щербину, Пушкина, Бунина, Бальмонта, Гумилева и… Сашу Черного <…> Ранний Набоков поражает своим версификационным мастерством, своей переимчивостью и своими срывами вкуса. Что-то напоминает в нем Бенедиктова[20]. <…> Молодой Набоков не отдал обычной дани никаким модным увлечениям. Его современники правильно смотрели на него как на поэтического старовера. <…> В более поздних, тщательно отобранных стихотворениях, вошедших в «Возвращение Чорба», подобных срывов вкуса уже почти нет, стих стал строже и суше, появилась некоторая тематическая близость к Ходасевичу (поэту, которого зрелый Набоков ставил особенно высоко среди своих современников), исчезли реминисценции из Блока, явно бывшие чисто внешними, подражательными, утратилось у читателя и впечатление родства с Фетом <…> (сходство и тут было чисто внешнее, фетовской музыки в стихах Набокова не было, он был всегда поэтом пластического, а не песенного склада). <…> стихи в «Возвращении Чорба» – в большинстве прекрасные образчики русского парнасизма <…>[21].
К этим замечаниям стоит добавить, что в стихах, в отличие от романов и рассказов, Набоков, как правило, избегал просторечий, советизмов, неологизмов (богатый эпитет «многодорожный» в «Парижской поэме» не его изобретение, он взят из пушкинского «Стамбул гяуры нынче славят…», 1830) или специальных терминов (одно из исключений – «алембики» в «Формуле»), но нередко использовал устаревшие формы (счастие, воспомнится, ветр, влеком, вотще, стихословить, загрезить, вспрянуть, чресла, замреть) и библеизмы (змий в стихотворении «Мать», зеница в «Оке»).
Что же касается его метрического репертуара, то, согласно подсчетам Джеральда Смита, —
По сравнению со средними показателями по эпохе у Набокова заметно больше ямбов, немного больше трехсложников и соответственно меньше неклассических размеров и хореев. <…> В эмигрантской поэзии мы также замечаем склонность к ямбам и избегание неклассических размеров (особенно у Ходасевича); таким образом, Набоков не одинок в своих тенденциях. <…> Первый сборник Набокова [ «Стихи», 1916] заметно отличается от последующих: в нем больше трехсложников и соответственно меньше ямбов. (В 1929 г. он обращался к Музе: «Мне, юному, для неги плеч твоих/казался ямб одеждой слишком грубой…»). В 1920-е гг. трехсложники у него почти исчезают и вновь учащаются, лишь когда его стихотворчество пошло на убыль. Зрелое же его поэтическое творчество как будто развивает тенденции самого маленького из его ранних сборников [ «Гроздь», 1923][22].
Отдельного рассмотрения требует такая значительная часть набоковского поэтического багажа, как ориентированные на «Маленькие трагедии» Пушкина короткие стихотворные драмы 1920-х годов («Скитальцы», «Смерть», «Дедушка», «Агасфер», «Полюс») и большая «Трагедия господина Морна» (1924), самое его крупное и композиционно сложное поэтическое сочинение, созданное с оглядкой на «Лирические драмы» А. Блока и на Шекспира (белый пятистопный ямб, игра слов, изощренная образность, мастерское использование монолога).
Одно из ключевых высказываний Набокова о поэзии непреходящих достоинств и о том, в чем состоит секрет поэтического совершенства, относится к концу 1930-х годов и содержится в эссе, написанном на смерть В. Ходасевича, – по его мнению, «крупнейшего поэта нашего времени»:
Говорить о «мастерстве» Ходасевича бессмысленно – и даже кощунственно по отношению к поэзии вообще <…> размолвка в сознании между выделкой и вещью потому так смешна и грешна, что она подрывает самую сущность того, что – как его ни зови: «искусство», «поэзия», «прекрасное», – в действительности неотделимо от всех своих таинственно необходимых свойств. Другими словами, стихотворение совершенное (а таких в русской литературе наберется не менее трехсот) можно так поворачивать, чтобы читателю представлялась только его идея, или только чувство, или только картина, или только звук – мало ли что еще можно найти от «инструментовки» до «отображения», – но все это лишь произвольно выбранные грани целого, ни одна из которых, в сущности, не стоила бы нашего внимания (и уж конечно, не вызвала бы никакого волнения, кроме разве косвенного: напомнила какое-то другое «целое», – чей-нибудь голос, комнату, ночь), не обладай все стихотворение той сияющей самостоятельностью, в применении к которой определение «мастерство» звучит столь же оскорбительно, как «подкупающая искренность»[23].
Многолетние усиленные занятия Пушкиным (комментированный перевод на английский язык «Евгения Онегина», 1964), исследования в области русской и английской метрики, комментированный поэтический перевод «Слова о полку Игореве» (1960), «Заметки о просодии» («Notes on Prosody», 1964), статьи и рецензии разных лет позволяют назвать Набокова не только поэтом – историком литературы, но, как и повлиявшего на него Андрея Белого, – поэтом-стиховедом.
Еще до эмиграции из России Набоков обнаружил в сочинении стихов и в составлении шахматных задач некоторые общие начала – вдохновение, изобретательность, точность, экономность средств, композиция, тема, разрешение, – и в своих поэтических тетрадях нередко перемежал стихи шахматными диаграммами. Неизвестно, был ли он знаком с книгой английского шахматного композитора и поэта Джона Майлза «Poems and Chess Problems» («Стихи и шахматные задачи», 1882), с названием и структурой которой имеет разительное сходство поздний сборник Набокова «Poems and Problems» («Стихи и <шахматные> задачи», 1970), но можно сказать определенно, что в начале 1920-х годов он находился под сильным влиянием как английских шахматных проблемистов, так и новых английских поэтов – Руперта Брука, Альфреда Хаусмана, Уолтера Деламара. Добиваясь сколько возможно большего слияния двух родов искусств, Набоков время от времени сочинял стихи, посвященные шахматам («Три шахматных сонета», 1924; «Шахматный конь», 1927; шахматная часть в поэме «Солнечный сон», 1923), и даже описал в стихах решение шахматной задачи для публикации в парижской газете «Последние новости». Приведем начало этого длинного стихотворения, названного «Новогоднее решение задачи Л. Линднера»:
Ферзь на c1 идет, и король его берет?
Не выходит ничего: черной пешки естество
претворить в ладью нельзя (а тем более в ферзя),
ибо белые назад королем идут (чтоб мат
был возможен на d3); что же будет, посмотри,
если двинется ладья: только свяжет пешку зря![24]
По замечанию Э. Штейна, «шахматные композиции Набокова, классической их структурой, почти адекватны его поэзии <…> Шахматная романтическая школа была чужда ему, поэтому в его композиторском творчестве все мотивировано и обусловлено. При всем этом касался он иногда вещей невозможных (хотя отлично понимал, что окончательного решения тут быть не может), не чуждался он и блефа не только в поэзии, но даже и в шахматах»[25].
В предисловии к сборнику 1979 года Вера Набокова охарактеризовала его состав так:
Этот сборник – почти полное собрание стихов, написанных Владимиром Набоковым. Не вошли в него только, во-первых, совсем ранние произведения, во-вторых, такие, которые по форме и содержанию слишком похожи на другие, и, в-третьих, такие, в которых он находил формальные недостатки.
Утверждение не вполне точное: этот сборник прежде всего, – собрание русских стихов Набокова, не включающий его английские стихотворения, но и в этом одноязычном отношении он далеко не полный. В него не вошли многие зрелые произведения Набокова (к примеру, уже упомянутая «Университетская поэма» или «Шахматный конь», 1927), длинные программные произведения 1928 года «Разговор» и «Толстой», замечательный образчик поэтической авторефлексии «Оса» (1928), рабочим названием которой было «Мука»[26], ряд написанных в США русских стихотворений, к примеру «Я чадо мрака. Вам не снится…» (1940-е годы) или «Тюремщика только смешит…» (1956)[27]. Поскольку со всем тем в сборник 1979 года вошло немало ранних и довольно однообразных вещей, можно предположить, что цель Набокова состояла не столько в подготовке наиболее полного собрания его стихов, сколько в подборе самых характерных для разных периодов его творчества произведений, показывающих этапы его поэтической эволюции. Стихи 1917–1919 годов, написанные еще в России (по большей части в Крыму); затем стихи, сочиненные во время учебы в Кембридже в 1919–1922 годах; берлинские стихи двух первых эмигрантских сборников «Горний путь» и «Гроздь» и многочисленных публикаций в газете «Руль» (1922–1928), строго отобранные для сборника «Возвращение Чорба» (1930); затем стихи добившегося признания поэта, написанные в 1930-х годах в Берлине и во Франции (сюда же с одним исключением целиком относится раздел сборника «Стихи из рассказов и романов»); наконец, русские стихи и поэмы, созданные после переезда в Америку в мае 1940 года – лучшее, по его мнению, что он написал в стихах (признание в письме к сестре от 25 октября 1945 года[28]), – и, в завершение, те сочинявшиеся от случая к случаю русские и английские стихи 1950–1970-х годов, которые можно отнести к периоду его всемирной славы.
Несколько важных для поэтической и общей писательской эволюции Набокова поэм 1919–1923 годов, среди которых «Двое», «Легенда о луне», «На севере диком», при его жизни не публиковались и впервые увидели свет лишь недавно в сборнике «Поэмы 1918–1947» вместе с новонайденным английским стихотворением о Супермене «The Man of To-Morrow’s Lament» (1942), долгое время считавшимся утерянным[29]. Настоящее издание сборника стихов Набокова в серии «Набоковский корпус» дополняет материалы и сведения, вошедшие в собрание его поэм.
Поскольку Набоков не успел подготовить предисловие для итогового сборника своих русских стихов, мы приводим в Приложении написанное им в декабре 1969 года и впервые переведенное на русский язык для настоящего издания предисловие к сборнику «Poems and Problems» («Стихи и <шахматные> задачи») – последнее его опубликованное высказывание о собственных стихах, частично процитированное в предисловии Веры Набоковой к сборнику 1979 года. Указанные в этом сборнике датировки в ряде случаев неверны, они исправлены в угловых скобках. Более полные сведения о времени и обстоятельствах сочинения и публикации стихотворений содержатся в наших комментариях, однако датировки, библиографические данные, разночтения и т. п. части произведений все еще требуют дополнительных изысканий.
Сборник печатается по первому изданию с исправлением замеченных опечаток и с восстановлением в нескольких случаях знаков препинания по более ранним публикациям и /или авторским (архивным) рукописям. Переводы иноязычных слов и выражений даются в постраничных сносках, примечания Владимира Набокова помещены после текста сборника 1979 года, в соответствии с его оригинальной композицией.
Приношу выражение глубокой признательности коллегам Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына за предоставление первых и редких изданий поэтических сборников Набокова для сверки текстов и сотрудникам The Wylie Agency и The Vladimir Nabokov Literary Foundation за возможность ознакомиться с архивными материалами писателя.
1
Двуязычный сборник «Poems and Problems» (1970), русские и английские стихи в котором были дополнены шахматными задачами.
2
Переписка Набоковых с Профферами/Публ. Г. Глушанок и С. Швабрина, пер. Н. Жутовской // Звезда. 2005. № 7. С. 162.
3
Там же. С. 162–163.
4
Переписка Набоковых с Профферами. С. 165.
5
Там же. С. 166.
6
Имеется в виду рассказ о смерти Алексея, сына поэта, в автобиографической поэме В.В. Гиппиуса (1876–1941) «Лик человеческий» (Пг. – Берлин: Эпоха, 1922).
7
Набоков В. Другие берега/Заметка, примеч. А. Бабикова. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 249–250.
8
«Горний путь» вышел только в январе 1923 г. Как указал Б. Бойд, собственные названия В.В. Набокова для сборника были «Светлица» и «Тропинки Божия» (последнее, очевидно, и было преобразовано В.Д. Набоковым и Сашей Черным в более выразительное «Горний путь»).
9
Имеется в виду французское выражение chercher midi à quatorze heures – искать вчерашний день, попусту ломать себе голову.
10
В.Д. Набоков шутливо обыгрывает известное французское выражение («исповедание веры», «совокупность взглядов») и название блюда фуа-гра (foie gras – гусиная печень).
11
Цит. по: Три письма В.Д. Набокова к В.В. Набокову 1921–1922 гг. /Публ., вступ. ст., коммент. А.А. Бабикова // Ежегодник Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2023. Отв. ред. Н.Ф. Гриценко. М.: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, 2023. С. 206–207.
12
Отсылка к стихотворению Н.А. Некрасова «Зеленый шум» (1863).
13
Автограф (беловик) с припиской в скобках: «Экспромт, в общем» (The New York Public Library. W. Henry & A. Albert Berg Collection of English and American Literature/Vladimir Nabokov papers/Manuscript box. Album 14, p. 162).
14
Nabokov V. Verses and Versions. Three Centuries of Russian Poetry Selected and Translated by Vladimir Nabokov/Ed. by B. Boyd and S. Shvabrin. Orlando et al.: Harcourt, 2008. P. 308–319.
15
Так называемые «линии песен» (песни австралийских аборигенов, в которых описываются определенные географические ориентиры) совмещаются с русскими дорожными или ямщицкими песнями.
16
Nabokov V. Poems and Problems. N.Y.: McGraw-Hill, 1970. P. 161. «Заросли бесформенной бредины, зовущейся „ракитой“,/громадные облака над бескрайней равниной,/бесконечно повторяющиеся „линии песен“ и горизонта,/запах травы и кожи под дождем./А потом всхлип, синкопа (Некрасов!),/одышливые слоги, которые взбираются выше и выше,/с одержимостью повторяемые и скрежещущие/и кое-кому более дорогие, чем любая другая рифма» (перевод мой. – А.Б.).
17
Green H. Mister Nabokov // Vladimir Nabokov. His Life, His Work, His World: A Tribute/Ed. by P. Quennell. London, 1980. P. 39–40 (перевод мой – А.Б.).
18
Набоков В. Дар/Заметка, примеч. А. Бабикова. М.: АСТ: Corpus, 2022. С. 207–210.
19
Эти произведения опубликованы нами в издании, которое составили шестнадцать поэм: Набоков В. Поэмы 1918–1947. Жалобная песнь Супермена/Сост., статья, пер., коммент. А. Бабикова (Набоковский корпус). М.: АСТ: Corpus, 2023.
20
В одном из поздних эпиграмматических стихотворений Набоков адресовал этот упрек Пастернаку: «Все в нем выдает со стихом Бенедиктова/свое роковое родство» (см. в наст. издании «Пастернак», 1970).
21
Струве Г. Русская литература в изгнании. 3-е изд., испр. и доп. /Сост., вступ. ст. К.Ю. Лаппо-Данилевского. Париж – М.: YMCA-Press – Русский путь, 1996. С. 119–120, 122.
22
Русский стих Набокова // Смит Дж. Взгляд извне. Статьи о русской поэзии и поэтике/Пер. М.Л. Гаспарова, Т.В. Скулачевой. М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 101–102.
23
Сирин В. О Ходасевиче // Современные записки. 1939. Кн. 69. С. 263–264.
24
Houghton Library (Cambridge, MA)/Vladimir Nabokov papers/Box 12, folder 216. Авторское представление о поэтике шахматных задач и этюдов раскрывает публикуемое нами в Приложении предисловие Набокова к сборнику «Poems and Problems».
25
Штейн Э. Литературно-шахматные коллизии: от Набокова и Таля до Солженицына и Фишера. Orange, Conn., 1993. С. 15.
26
The Library of Congress. Collection of the Manuscript Division. Washington D.C./Vladimir Nabokov Archive/Box 13, reel 9. «Оса», опубликованная в «Руле» 24 июня 1928 г., кончается словами: «так, изощряя слух и зренье,/взрезая, теребя, – /мое живое вдохновенье,/замучил я тебя!».
27
Впервые: Бабиков А. Прочтение Набокова. Изыскания и материалы. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2019. С. 102, 746.
28
«Полысел, потолстел, обзавелся чудными фальшивыми зубами, – но внутри осталась все та же прямая как стрела аллея. Лучшее, что я написал в смысле стихов (и по-русски, и по-английски), я написал здесь» (Набоков В. Переписка с сестрой. Ann Arbor: Ardis, 1985. С. 18).
29
Оригинальный текст и два наших перевода (буквальный и более свободный рифмованный) см.: Набоков В. Поэмы 1918–1947. Жалобная песнь Супермена. С. 204–209.