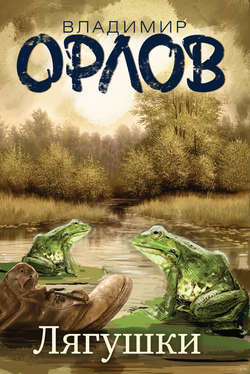Читать книгу Лягушки - Владимир Орлов - Страница 2
2
ОглавлениеНо и через полчаса, закончив светские разговоры с продавщицей Люсей, Белым или Рыжим наливом, неважно каким, но несомненно – Наливом, Ковригин был вынужден убедиться в том, что лягушки не угомонились.
Ползли себе и ползли, скакали, карабкались, и ничто, видимо, не могло их остановить. На тропе и возле неё Ковригин обнаружил следы и факты приведения в исполнение драматических угроз полемиста с пусямимусями Кардиганова-Амазонкина.
Возмущенный Ковригин положил: сейчас же дома он соорудит фанерный транспарант со словами «Осторожно: лягушки!», и даже попытается зеленым фломастером изобразить на фанере тельца хрупких тварей лапками вверх, и с этим транспарантом вернется на шоссе. Единственно засомневался: почему именно зеленым фломастером? Разве они зеленые?
Но никакого транспаранта Ковригин не смастерил. И на шоссе не вернулся.
Он почувствовал себя голодным и усталым (ещё ведь и понервничал в дороге). Разогрел макароны, тушеную (с морковью, луком, чесноком, а по семейной привычке, – и со свежими листьями крапивы) свинину, обставил себя банками с пивом, засунул в морозилку бутыль «Кузьмича», вынул из морозилки же сосуд с «Гжелкой», не забыл и отварные, с солью, способные хрустеть здешние подгрузди – подореховки и чернушки. Подмывало его пустить в ход и всученные ему Люсей кальмары, но их надо было еще готовить, да и корректно ли было вкушать кальмары в столь напряженный, а может, и печальный для лягушек день? «Да причем тут кальмары и лягушки! – чуть ли не выругался Ковригин. – Мало ли какую чушь могла нагородить просвещенная „Миром животных“ Люся!».
На всякий случай он заглянул в Энциклопедический словарь, ещё «Советский», 1980 года выпуска. Словарь он держал на даче исключительно ради кроссвордов. Кроссворды надобились ему для утренних восстановлений словарного запаса, а порой и для простых успокоительных отвлечений. Составители же кроссвордов могли вынуть из компьютера фамилию какого-нибудь основателя правового нормативизма, и Ковригин лез в словарь и находил в нем австрияка Ханса Кельзена. Нате вам! Впрочем, словарь был скупой, в нем, скажем, о толстоноге сообщалось, что это то же, что келерия. И всё. Нынче Ковригин посчитал необходимым прочитать о лягушках. И вот что он прочитал на 715-й странице. Лягушки (настоящие), стало быть, бывают и не настоящие, эти – какие же? ну ладно, настоящие, – семейство бесхвостых земноводных. 400 видов. Бывают (голиафы, быки) до 25 см, этих едят. А вообще они классич. лабораторные ж-вые. Так… Ковригин нашел страницу с земноводными. Они, значит, относились к классу позвоночных, кожу имели голую, богатую железами. Имели сердца и легкие, все как полагается (это только головастики дышали у них жабрами и умели до поры до времени к чему-либо прилипать). А главное – они были первыми позвоночными, перешедшими от водного к водно-земному образу жизни.
Это обстоятельство отчего-то обрадовало Ковригина.
Прочитал Ковригин статью (в восемь строк) и о жабах. О съедобности их или несъедобности указаний не было. Сообщалось об их сумеречном образе жизни. То есть промышляли они, видимо, по ночам. Ковригину сейчас же пришли мысли о сумеречности натур жаб, о мрачных их нравах.
«А-а-а! Это всё их дела! – подумал Ковригин. – Они сами разберутся во всём. И энергетика у них похлеще моей! Перли, как танковая дивизия! Первыми в земноводный образ перешли!»
Он сейчас же представил себе, как он мок на глиняной тропе и на шоссе, и как он, будучи, надо полагать, истинным московским интеллигентом, виноватым перед всеми и перед всем, нравственно страдал, а они все перли и перли, их не заботили земные мокроты, а на него, Ковригина, в их бесстыжести им было вообще наплевать, и он пожалел себя. Набрал полный стакан «Гжелки», помнил и о «Кузьмиче» от Рогожкина и генерала Иволгина, «Кузьмич» потихоньку добирал свое в морозилке. (Наутро Ковригин, а дождь перестал и солнце воссияло, прошелся до шоссе, вышло, что снова и до палатки, и никаких лягушек, ни живых, ни придавленных, ни полемически уничтоженных суровым правдолюбцем Кардигановым-Амазонкиным, не обнаружил. Изошли. Возможно, дошли и до места. Погибших уволокли с собой… Но это было утром.) Теперь же Ковригин сидел в тепле (протопил печку, вытащил головешки), смотрел на последние равномерцающие угли, мирно взглядывал на пустые перебежки игроков «Спартака» и «Зенита», и даже пафосные комментарии с цитатами из корейской поэзии какого-то Кваквадзе его не раздражали. «Надо же какой фамилией наградила его судьба!» – умилялся Ковригин. Пил прекрасные для него сейчас жидкости, подносил вилкой ко рту соленые подгрузди и готов был послать (куда, откуда, неважно) умилительную же телеграмму Кваквадзе. Лишь слово «триколор», ни с того ни с сего произнесенное в эфире, покоробило Ковригина. До него дошло, что в телеграмму придется вставлять соображения вопрошающе-вразумительные. Позвольте, уважаемый Кваквадзе, если у нас «триколор» (хорошо хоть не «трико»), то жевто-блакитный флаг с майдана (то бишь – базара) следует именовать «двуколором», а уж китайское полотнище и вовсе – «одноколором»…
И тут Ковригина сморило.
Часа четыре Ковригин дрых без задних ног. Потом Ковригин проснулся, промочил горло, и уже до утра пребывал в дремотном состоянии.
В дремотном же состоянии посещают видения, оправданные ходом и смыслом бытия и неоправданные.
Совершенно неоправданными вышли для Ковригина разговоры с наглецом Кардигановым-Амазонкиным. В свой дом Амазонкина Ковригин вроде бы не пустил. Амазонкин, а небо как будто бы ещё не почернело, и птички не уснули в саду, тряс перед стеклом террасной двери шахматной доской, и Ковригин предъявил ему кукиш, на что Амазонкин, рассерженный, принялся показывать язык и изображать нечто, подпрыгивая и по-чудному растопыривая ноги, при этом тыкал пальцем в сторону Ковригина: мол, ты теперь не Ковригин, а Лягушкин.
Но сгинули Кардиганов-Амазонкин и его клетчатая доска.
И может, и не в дремотных видениях возникал Амазонкин, а являлся к Ковригину в своём натуральном тоскующем виде.
В дремотных же видениях перед Ковригиным стояли, скакали, двигались куда-то тысячи, миллионы бесхвостых позвоночных, первыми позволивших себе (в угоду развития мироустройства) перейти к водно-земному образу жизни. И прежде подобное (и не раз) случалось с Ковригиным. После удачных хождений по грибы, стоило ему под одеялом смежить веки (красиво-то как!), и тысячи белых, подосиновиков, лисичек в своем разноцветье выстраивались вокруг Ковригина, и он тут же, забывая о гудящих ногах, смирно и тихо засыпал.
И ведь сморило хорошо, и ноги не гудели, и профилактические средства, не позволившие завестись в промокшем соплям и чиху, сняли тревоги, а все равно в голову лезла всякая чушь. Неспроста, небось, хитроумный Амазонкин спросил о медузах. Теперь Ковригин был уверен в том, что в общем ковыляющем массиве (месиве?) передвигались и медузы. Ковригин даже крапивные ожоги ощутил на ладонях. Насчет кальмаров, особенно в собственном соку, уверенности у него не было, а вот медуз точно куда-то гнало. А уж тритоны, какие водились и в здешних лесных бочажках (однажды наблюдал), непременно обязаны были участвовать в мокром походе. Тут мысль Ковригина совершила ещё один загиб. Русалочка была дочкой тритона, пусть и копенгагенского. Стало быть, и русалочки…
Мысль об этом никак не удивила Ковригина. А почему бы и нет? Не русалочку ли он оживлял и бережно укладывал в безопасность травы? Не она ли крапивно обжигала его ладони? Сейчас же Ковригину привидилось личико русалочки. Оно, естественно, было печальное, заколдованное и отчего-то знакомое… Она еще явится, русалочка! Явится! Впрочем, и ещё кого-то из земноводных, бесхвостых подло заколдовывали какие-то сволочи. Ба! Но русалочка-то не входила в семейство бесхвостых… Ну и что? Ну и что?
«Фу ты! Бредятина какая-то! – сумел все же оценить зигзаги своих соображений Ковригин. – Чушь какая! Бред какой!»
Понятно, что в солнечный уже сад Ковригин вышел очумевшим. С неба не капало. Да и не из чего было капать. И утреннее разведывательное путешествие к шоссе, а потом и вынужденное – в палатку, облегчения ему не принесло. Реальность вчерашних наблюдений не отменилась. Продавщица Люся (и нынче – Рыжий налив) тоже слышала о дурачествах лягушек от разных людей, в частности – и от водил. Видя немощность Ковригина, в любезности его не вовлекала.
Дома рука Ковригина потянулась к морозилке. Нет, «Кузьмича» по утру Ковригин приказал себе не трогать. В целебные средства был определен «Старый мельник».
Конечно, проще всего было взять сотовый и набрать номер Стасика Владомирского. В третьем классе Стасик был снайпером по пальбе из рогатки. Голубей щадил по причине их убогости. Особенно же от него страдали воробьи и мухи – косил под китайцев. Теперь Стасик – биолог, доктор наук, знает всё про летающих, ползающих, испускающих дурные запахи тварях, о гадах и паразитах, хотя бы и мучных червях. Выслушав недоумения Ковригина, он, удивившись безмозглости темного человека, произнес бы часовую лекцию, и Ковригину стало бы скучно.
Ковригин относил себя к агностикам. В шутку, конечно. Но ни в коем случае не к атеистам. Упаси Боже!
Не втемяшивал себя безоговорочно в сообщество агностиков (да и какое у них сообщество; ну, скажем, – конгломерат одинаково мыслящих или одинаково упертых). Цепями звенящими будто бы признанных умственных заслуг к ним себя не приковывал. А именно относил. Сегодня отнес. Завтра перенес. Агностики же полагают, что науки способны лишь изучать явления, познать же сущности и закономерности явлений им невмоготу. Да и ни к чему эти познания. А потому и оценочные суждения Ковригина нередко выходили воздушно-лохматыми. Он называл их домоткаными. В них были просторы для фантазий его интеллектуального марева и игры вариаций. Но получалось, что его вольная эссеистика была интересна немалому числу читателей. Причем в своих исторических построениях (даже и с допуском иронической мистики) или гипотезах Ковригин никогда не позволял себе (и в увлечении – «эко занесло») впадать в безответственные авантюры на манер «новых хронологов» или экстреннокоммерческих толкователей катренов Нострадамуса. Всегда опирался на точные факты и судьбы, порой хорошо известные публике.
«Главное – не быть классификатором», – убеждал себя Ковригин. Классификаторы в гуманитарных дисциплинах раздражали его. Помещение личностей, их творений, способов и драм их жизней в какие-либо клетки, временные ли, жанровые, стилевые (упаковка Моне, например, в тару импрессионизма или Врубеля в смальтовые уголки северного модерна и т. д.), вызывали у Ковригина цветение ушей. Да и какой из Ковригина мог получиться классификатор, если он заканчивал безалаберный факультет журналистики! Какие только птенцы не разлетались из гнезда на Моховой! Однокурсник Ковригина, подававший надежды фельетонист, нынче владелец бани в Краснотурьинске. Другой однокашник прокурорит под Курганом. С Моховыми дипломами существовали и кинорежиссеры, и послы, и натёрщики полов, и карточные шулера, и актеры с актрисами, и вышивальщицы по канве, и вязальщицы детективов, а с ними и штопальщицы подстрочников, и воспеватели на ТВ шести соток, и переносчики микробов. Да кто только не стал вблизи взятого в трубу устья реки Неглинной человеком!
Стал ли Ковригин человеком (кандидатом он стал, попал и в докторантуру), сам он судить не брался. Приятели его из технарей и медиков определили его в «балбесы», и это Ковригина не расстраивало.
И сегодня Ковригин был агностик.
Из-за чего и куда произошло хождение земноводных да еще и с одолением погибельного шоссе (кстати, ведь рядом под шоссе была дренажная труба!), обсуждать не имело смысла. Мало ли из-за чего и куда. Тем более что как-либо вмешиваться в это хождение ни ему, ни другим, более разумным, не было дано. Значит, природа или её мелкие исполнители так распорядились. Может, в эту пору и положено было случиться лягушачьему нересту. А может быть, прав Кардиганов-Амазонкин, тварям, от наших привычек далеким, захотелось потрахаться лишний раз, они свободные существа в свободном государстве, а кое-кто из их авторитетов, возможно, и насмотрелся передач Анфисы или «Дом-2». Или же определенное сроками их размножение в нынешнем сезоне не дало ожидаемого урожая, и вышло чрезвычайное предписание удовольствие повторить, но с большим усердием. И нечего Ковригину было разгадывать загадки, какие всё равно не разгадаешь. Тем более что они не из его жизни и не из жизни его отряда млекопитающих.
Забывать шествие земноводных, пусть даже с медузами и тритонами, Ковригин не намеревался, но постановил: держать в голове лишь зрительный ряд вчерашнего дня, в суть его не вникать и со своей судьбой никак не связывать. И при этом мысли о лягушках сейчас же загнать куда-либо в угол или подпол сознания. И следовало плеснуть ещё одну банку «Старого мельника» в пивную кружку, сесть к старенькому компьютеру и заняться делом.
А занимался он тем, что мусолил сочинение о Рубенсе. К сочинению же этому он готовился месяцы. Конечно, полагал Ковригин, для нашего просвещенного СМИями народонаселения, приучаемого к пустоте в мозгах теперь ещё и экзаменами ЕГЭ, какой-то мазила Рубенс – фигура, возможно, даже менее важнозанимательная, нежели существа земноводные, бесхвостые, способные к спорным переползаниям. И все же, не имея в виду какие-либо корысти, Ковригин писал о Рубенсе. И главным образом не о Рубенсе-живописце, тут давно было всё выяснено и разъяснено, а о честолюбивом человеке, склонном к авантюрам, временами по сути – разведчике и дипломате, искусно или артистично-рискованно ведшем себя «с тайными поручениями», скажем, в Испании, Париже и Лондоне. Однако ни строчки не выдавили из клавиатуры компьютера пальцы Ковригина.
Опять полезли ему в голову мысли о лягушках. Теперь они были связаны с соображениями Ковригина о собственном несовершенстве. Он считал себя начитанным человеком, с системным подходом к знаниям. Что-что, а системные уроки МГУ давал. Сейчас же в мысли Ковригина, помимо его желания, врывались обрывки, обмылки каких-то дурацких воспоминаний, в которых так или иначе существовали лягушки. Вот Яхрома привиделась, летние дни у тетушек в Красном поселке. Ковригин-отрок с пацанами лежит на берегу канала, мокрый, сохнет, теплый воздух обдувает крепкое мальчишечье тело, будто ласкает его. Блаженство. Серо-бурая волжская вода (кораблей и плотов нет) тихо и смиренно лижет булыжники береговой вымостки. Доброжелательность мира. Лень. Кто-то сопит на бетоне латка рядом. И будто сквозь сон слышится: «Женька, перестань надувать лягушку! Смотреть противно!» Ковригин открывает глаза. Женька Телёпин с соломинкой во рту надувает лягушку. «Женька, прекрати! – рычит Ковригин. – Утоплю!» Кто-то добавляет: «Мертвая лягушка – к дождю!» А кому охота, чтобы в день каникул шел дождь? И ещё. Слова тетушек: «Не бери в руки лягушек – бородавки будут». В руки лягушек Ковригин не брал. Кузнечиков брал, стрекоз, бабочек, саранчат, коли появлялись, даже птенчиков дурных, свалившихся на землю и не вставших пока на крыло, ершей сопливых брал, а лягушек никогда. Возле воды пришло к нему однажды радостное соображение: «Брассистка – высшая стадия развития лягушек». Соображение это было вызвано Юлькой Лобовой, Ковригину симпатичной. Юльке оно и было высказано. Юлька высокомерно не обиделась, но заявила, что она переходит на баттерфляй, там есть перспективы. «Значит, ты будешь отныне лягушка-бабочка. Или порхающая лягушка»…
«Погоди! – остановил себя Ковригин. – А откуда они взялись, вчерашние-то? Где они жили-поживали прежде-то? Что-то я их не видел…»
Действительно, сидели или прыгали какие-то особи и в его саду, не квакали, а старались быть незаметными, пожирали комаров с мошками, и другую дрянь, порой и наглевших улиток, но и было их всего несколько штук. И в грибных походах, в лесах и рощах, Ковригин лягушек почти не встречал. Откуда же чуть ли не Батыева орда собралась вчера и двинула в поход?
Не в их ли луже сидели они, помалкивая до поры до времени? Впрочем, они и вчера не были шумны и разговорчивы…
Ковригин уже вспоминал накануне о нраве и судьбе здешнего оврага. А история его имела продолжение. Первоустроители огородно-садового поселка были людьми относительно молодыми, громкогласыми, энергичными и с хозяйственными связями. Про таких говорили тогда: «Энтузиасты с задоринкой». На планах новостроя улица, должная проходить по северному берегу оврага, именовалась Набережной (на ум фантазеров приходили набережные Ленинграда со львами и сфинксами). Среди энтузиастов был и член правления Кардиганов-Амазонкин, по рассказам соседей, тогда – первейший горлопан, но и умелец выстраивать ехидные словесные обороты, в свое время, говорят, смаковал выступления министра иностранных дел А. Я. Вышинского на заседаниях ООН. Читал и Цицерона, жалел, что не в подлиннике. Амазонкина и выбрали ответственным за устройство в овраге пруда с купальнями, лодочными причалами, заселенного – ко всему прочему – и приветливыми карпами. Прудоводство, как и разведение картофеля в горшках на подоконниках или загадочная гидропоника, в ту пору процветало, не все гнать шпалы с рельсами к Тихому океану. И за два года пруд был устроен. Соорудили земляную плотину-запруду с бетонной трубой и металлическим засовом в ней для выпуска лишней воды. И всё это – как в фантазиях: хочешь, плавай туда-сюда, выйдет – два километра, хочешь, рассекай талую воду веслами, хочешь, стирай подштанники с досчатых мостков, хочешь угощай тещ и котов карпами и карасями. Но на десятый год общественного благоухания плотину по весне прорвало, бетонную трубу выбило и отволокло бурлящей водой метров на тридцать вниз по оврагу, а шлюзовый засов искорежило. Денег на восстановление пруда, естественно, не нашлось, а большинство огородников к этому и не проявило расположения, уж больно гадили, орали и дрались на южном берегу чужаки, хулиганье из Троицкого, какому еще предстояло стать подольско-чеховской мафией. И осталась под плотиной имени Кардиганова-Амазонкина лужа, правда, не малая, метров пятьдесят на пятьдесят, по ней мальчишки на плотиках (и Ковригин с ними) играли в пиратов, по откосам посиживали с удочками пенсионеры, уверявшие, будто в водоеме завелись судаки, но не клюют, подлецы, ротанов здесь всё же вылавливали. И, конечно, в мае и позже там всё квакало, по ночам – противно и на километры вокруг, и головастики кувыркались. Теперь лужа уж совсем мала, удильщики пропали, бока лужи обросли камышом (откуда он здесь взялся?), а в последние две осени на луже была замечена цапля, задумчивая, с приподнятой над водой лапой, и можно было понять, сколько в луже воды. В канун октябрей цапля улетала.
Стало быть, из нашей лужи такого воинства лягушек, медуз, тритонов, русалочек, даже если их пощадила цапля, в дорогу по глиняной тропе никак не могло было бы заманено или мобилизовано. Откуда же они взялись?
Правда, старушка Феня из ближней деревни Леониха, по привычке носившая в дом Ковригиных мед, как-то уверяла, что, по их легенде, где-то здесь есть бездна, и в ней живет страшный, но не леший и не водяной, а просто лохматый Зыкей (или Закей), он-то в свое время и разогнал пруд с постирушками, с карпами и карасями, он и ещё что-нибудь из озорства ухлопонит. А может, и не из озорства, а со зла и от досад.
А еще Аристофан! Вспомнилось вдруг Ковригину. Какой Аристофан? Тот самый. Но он-то к чему, он-то с какого бока при то ли Зыкее, то ли Закее? А к тому, что башка его, Ковригина, забита всяческими бесполезными сведениями, применение которых при оценке простейших фактов никакого толку не дает.
Аристофан вспомнился потому, что у него есть комедия «Лягушки», и её Ковригин в студенческие годы читал.
Сразу пришла на ум фраза: «Иных уж нет, а те, что есть, – ничтожество». Цитата в «Лягушках» из пропавшей пьесы Еврипида. Её произносит Дионис, он же Бахус, он же Вакх. А где там сами лягушки? Ковригин забыл. Осталось в памяти вот что. Студент Ковригин посчитал тогда, что комедия Аристофана и для его века – литература высокого уровня с сочными текстами для актеров и двумя забавными пикировками: бога Диониса и его слуги Ксанфия (эта – с элементами приземленно-бытовыми) и Эсхила с Еврипидом (тут – дуэль из-за смыслов и способов искусства и его влияния на жизнь человека). Победителем Дионис признал Эсхила и возвратил его из небытия для совершенствования народа (самому же Ковригину тексты и сюжеты Еврипида были симпатичнее). Застрял и надолго в восприятии Ковригина эпизод с кашей. С одним из персонажей Дионис желает поделиться степенью своего томления (ждет встречи с Еврипидом). Томление это ростом с великого Мамона. «По женщине? По мальчишке? По мужчине?» – не может понять страсти Диониса собеседник. «Томление такое душу жжет мою… Но попытаюсь разъяснить сравнением. Тоску по каше ты знавал когда-нибудь?» «По каше, – радуется собеседник, – ну ещё бы! Тридцать тысяч раз… Про кашу? Понимаю все». Собеседника Диониса зовут Гераклом. Собеседнику бы этому соорудить мемориал в имении Баскервилей! Впрочем, если принять во внимание достижения умов «новых хронологов» и примкнувшего к ним известного погонялы слонов и коней по доскам в направлении компьютеров, должно признать, что никаких античных времен не существовало, а имя богатыря, придуманного ради оболванивания неразумных голов, слямзили с рекламы каши «Геркулес». А если и существовал какой-то амбал-здоровяк с легендами и анекдотами, то существовал в условном восемнадцатом веке, и был это – либо купец Овсянкин, либо мельник Овсов. Лягушек же из текста Аристофана Ковригин так и не мог вспомнить. «В Москве посмотрю…»
Фу ты! Опять черт-те что лезет в голову, рваное, лоскутное. Вон из соображений, вон лягушки, и скользкие, с бородавками, и мифологические, всякие там царевны и дочери тритонов! Вон, и навсегда! Брассистка – высшая стадия развития лягушек, с длинными крепкими ногами и впечатляющей грудью, развитой гребками загоревших на сборах рук. Только о таких и стоит думать.
И назад – к Рубенсу!
Но и Рубенс не шел. Не оживал, не пробивался к Ковригину из рам своих развешанных по миру узилищ.
«Тут не в лягушках дело, – сообразил Ковригин. – А в Петьке Дувакине. В нем, стервеце!»
Петька Дувакин был работодателем Ковригина. Не одним, слава Богу, работодателем. Но доброжелательным и заинтересованным. Он выпускал журнал «Под руку с Клио» (название легкомысленное, но легкомысленности в публикациях не было). Ковригин присутствовал в журнале каждый месяц. То с колонкой, то с текстом на пять полос (с картинками). Эссе о Рубенсе было обговорено и ожидаемо, однако в бумагах и решениях Дувакина застряла «заметка» Ковригина (так именовал её сам автор) о костяных пороховницах. Дувакин морщился, хмыкал, и Ковригин стал упрямиться, мол, если не выйдут «костяшки», то и Рубенса вы не получите. И вот теперь задержкой с «заметкой» он готов был оправдать свое пустое сидение над текстом о Рубенсе.
«А схожу-ка я в лес!» – решил Ковригин.
И сходил.
В ельнике нарезал сыроежек, попались ему и солюшки, белые и черные подгрузди, по-местному – подореховки и подрябиновки, стояли на опушках подберезовики, были брошены в пакет два боровика и лисички. Но нынешний лес можно было признать пустым. Лесной подрост был еще зеленый, пни пока не взорвались опятами. В сыром мху под орешником Ковригин заметил лягушат – значит, иные из них никуда и не двинулись. Хотел в расчете на белые перейти на южный берег оврага к дубам и липам, но посредине оврага, где когда-то прокатывал барышень на лодках, провалился в яму, забитую крупными ветками и даже досками (откуда они?), мог и повредить ноги, бранясь вернулся на свой берег. «Зыкей-то лохматый живет в досадах!» – вспомнились слова леонихской Фени.
Дома возился с грибами, не лишней оказалась к ним картошка в мундире, была откупорена и бутыль «Кузьмича». Под одеяло Ковригин нырнул в уверенности, что когда он прикроет (смежит!) веки, как и в прежние времена, увидит грибы, грибы, грибы в траве, во мху, в опавших иголках, и станет покойно и хорошо. Но и нынче вместо грибов тотчас же поползли перед ним лягушки, медузы, тритоны, кто-то слизывал их языком гигантского муравьеда, а потом потянулась строка из Энциклопедического словаря, зачернела, превратилась в транспарант с площадной демонстрации: «КЛАССИЧ. ЛАБОРАТОРНЫЕ Ж-ВЫЕ». Тут кто-то гнусно заорал, но будто бы вдалеке: «Для ловли раков нет лучше приманки, чем жирные лягушки! Пейте пиво „Толстяк“, чрезмерное употребление которого…» И снова поползли слова: «КЛАССИЧ. ЛАБОРАТОРНЫЕ Ж-ВЫЕ».