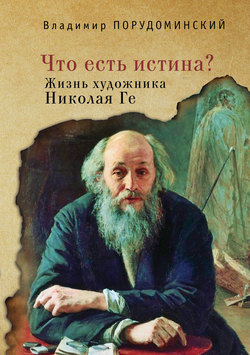Читать книгу «Что есть истина?» Жизнь художника Николая Ге - Владимир Порудоминский - Страница 8
Освобождение
Замысел – сегодняшнее и вечное
Оглавление«Современное брожение», свидетелем которого стал Ге в начале шестидесятых годов, было очень сильно и многообразно. Освободительное движение – русское, итальянское, польское – представляло собой яркую палитру направлений, тенденций, взглядов.
За освобождение Италии боролись и гарибальдийцы, и монархисты. Монархисты вели тайные переговоры и заключали сделки, гарибальдийцы с оружием в руках принесли свободу доброй половине Апеннинского полуострова. Народ шел за Гарибальди; Гарибальди оставался один шаг до республики, но он добровольно передал власть в руки монархии. Король расформировал отряды Гарибальди, а его самого «отпустил домой».
Частыми посетителями голубой гостиной были поляки – завтрашние повстанцы. Богатые паны и безземельные шляхтичи. Теоретики-утописты. И практики, знавшие деревенские кузницы, где холопы по ночам тайно ковали косы. Все эти люди жаждали освобождения Польши. Завтра они вместе сделают первый шаг, но кто из них рискнет сделать второй, третий… Сотни людей, которых видел и о которых слышал Николай Ге, трогались в путь вроде бы по одному тракту, но направлялись до разных станций.
А Россия! И царь был «освободитель», и благонамеренные реформаторы обсуждали проекты «освобождения», и газеты трубили о «новом времени», но слышались и призывы браться за топоры.
Ге листал журналы, жадно ворошил газеты, добывал нелегальные издания: всюду говорили об идеалах свободы – и в отвлеченной научной полемике, и в боевой прокламации. Раскол в «Современнике» показал, что не само слово важно, а кто его произнес. Прекрасные люди Тургенев, Григорович, Толстой – разве они не обличают, разве не пекутся о народном благе? И вдруг оказывается, что «зло» и «благо» для Чернышевского и Добролюбова нечто совсем иное, нежели для Тургенева и Толстого, и им не то что идти вместе, но даже в одном журнале сотрудничать никак невозможно.
К тому времени, когда Ге явится с картиной в Россию, Тургенев будет за границей, Толстой в Ясной Поляне, Чернышевский в крепости, а Добролюбов в могиле.
Кстати, Ге попадет в Петербург в разгар антибрюлловской кампании. Николая Ге станут противопоставлять Брюллову, авторитету и учителю, начнут побивать художника Брюллова художником Ге. Кто знает, может быть, Ге чувствовал себя иногда апостолом, уходящим навсегда от учителя, но уходящим, чтобы идти вперед.
В 1867 году Герцен увидел у Ге авторское повторение «Тайной вечери». Долго стоял перед полотном.
– Как это ново, как верно.
Ге стал говорить, что наступает минута – и уходят друзья, самые близкие, самые верные, уходят, словно часть самого тебя. Он напомнил Герцену о его разрыве с Грановским. Ге знал историю этого разрыва из «Былого и дум». Он помнил стихи Огарева:
И он ушел, которого, как брата
Иль как сестру, так нежно я любил!
Грановский! Кто бы подумал, Грановский сказал Герцену и Огареву, что ему с ними не по пути.
Герцен печально кивал головой перед «Тайной вечерей»:
– Да, да, это глубоко, вечно, правда.
Он рассказал Ге о своем отношении к новому поколению, идущему за ним, о встрече с Чернышевским:
– Я не смог полюбить его…
Вот ведь до чего конкретно задумывал Николай Ге – и его понимали так же конкретно и остро.
Но конкретное, осмысленное и переданное, как конкретное, никогда не приносило миру великих творений искусства. Нужно в конкретном увидеть общее, выразить это общее, не порывая с конкретным, – нужно, чтобы глубина мироощущения и широта взгляда слились со страстной взволнованностью современника и участника событий. Так рождался «Ночной дозор» Рембрандта.
Ге обладал этим подчас загадочным свойством больших художников, этим особым настроем ума и чувства. Много лет спустя в малороссийском селе он спросил крестьянского мальчика, как его зовут. «Меня – Грицком, – отвечал мальчик, – а вон его – Трофимом, а того – Опанасом». Этот ответ поразил Ге. Слова мальчика, на которые сотни, тысячи людей попросту не обратили бы никакого внимания, привели его к мысли о связи каждого человека с другими, со всем человечеством, о связи всех живущих в мире.
Открывать современное, конкретное в творениях искусства не значит снимать аккуратно масочки: «Под видом такого-то скрывался такой-то». «Этой сценой автор хотел сказать…» Открывать современное – значит, не расчленяя произведение, услышать в нем «музыку Времени», почувствовать идею и среду, в которых оно рождалось, увидеть за частным общее.
«Тайная вечеря» Ге – это тайная вечеря, последняя трапеза Христа с учениками; Христос, Иуда, Иоанн, Петр – именно они, а не ряженые. Но множество незримых нитей связывает картину Ге с той реальностью, в которой он жил. Замысел питало Сегодня…
1 августа 1861 года Герцен в частном письме сообщал: «Главные события в Париже – замирение с Львицким, вследствие чего превосходный портрет…»
Сергей Львович Левицкий (или Львов-Львицкий) – двоюродный брат Герцена, в 50-х годах известный парижский фотограф.
На фотопортрете 1861 года Герцен сидит (скорее, полулежит) у стола в большом кресле. Он облокотился о стол, голову положил на руку. Он глубоко задумался о чем-то. Более того: он живет сейчас лишь этой трагически-напряженной мыслью.
Фотография быстро стала знаменитой. Один из ее экземпляров Герцен через кого-то из общих знакомых переслал Ге. Герцен полагал, видимо, что вот-де живет где-то во Флоренции еще один горячий приверженец, молодой русский художник («Как его? Ге? Совершенно французская фамилия!») – ну хорошо, пусть будет у него фотография, коли ему охота!.. Ничего больше в ту пору Герцен о Ге и знать не мог. Ге даже не относили к числу «подающих надежды». Писатель Григорович, посетив его в Риме, пари держал, что «этот Ге» никогда «ничего не сделает». Между тем фотография Герцена оказалась очень важным эпизодом в жизни Ге.
Даже при беглом упоминании о «Тайной вечере» неизбежно отмечается портретное сходство Христа с изгнанником Герценом. Конечно, сходство есть, и не только портретное, даже поза Христа – как бы зеркально отраженная поза Герцена. Фотография подсказала художнику общие черты героя. Ге уже не отступает от них. Не нужно искать прямого копирования (Ге никогда не «вставлял» натуру в полотно), лицо Христа вовсе не лицо Герцена, но, когда в поисках обобщения художник делает карандашный портрет певца Кондратьева, в нем при полном внутреннем отличии повторяются основные внешние черты герценовской фотографии. Но, пожалуй, стоит задуматься не только о внешнем, бросающемся в глаза…
Тут все вместе: и уже отчаянное желание найти свою стезю в искусстве, любыми, пусть самыми решительными способами порвать со старым; и бурный поток впечатлений, тревожные раздумья, попытки осознать Евангелие в современном смысле; традиционно приходящий в голову образ Христа и полное глубокого значения лицо Герцена, его поза, его напряженная мысль, запечатленная фотографическим аппаратом; и поразивший, как открытие, рассказ о разрыве с Грановским, опубликованный в том же 1861 году в отдельном издании «Былого и дум».
Я правды речь вел строго в дружнем круге,
Ушли друзья в младенческом испуге.
И он ушел, которого, как брата
Иль как сестру, так нежно я любил!
Пир, который «приготовлял» Герцен для своих друзей, и неожиданное осознание того, что он расходится с ними, исполнившее его глубокой печалью, идейный разрыв, когда на сердце так тяжело, точно кто-нибудь близкий умер, – вот она межа, вот предел, но надо идти дальше, не оглядываясь, об истине глася неутомимо.
Этот рассказ странно, своеобразно перекликался с переосмыслением евангельской тайной вечери и вместе с тем как бы подытоживал многие беспокоившие Ге впечатления и раздумья.
Фотография, присланная Герценом, оказалась уже не просто внешней подсказкой: она сформировала замысел Ге.