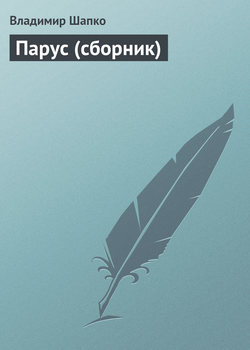Читать книгу Парус (сборник) - Владимир Шапко - Страница 4
Юная жизнь Марки Тюкова
3. А я видел Дядю
ОглавлениеПучками и округлыми букетами на столе стояли цветы в банках и кефирных бутылках. (Маркин букет из пяти белых тюльпанов, смахивающих на стесняющихся чубатых сельских парней, терялся у самого края стола, был последним.) Учительница стояла над всеми цветами, как будто собралась их продавать. Как будто она – торговка на базаре, в цветочном ряду. Она поблагодарила за столь большое внимание к её персоне (то есть, выходило, за эти цветы) и поздравила класс с началом учебного года. Так как все молчали и только застенчиво улыбались, поёрзывая на свежеокрашенных гладких сиденьях парт – сама захлопала, создавая длинными ладонями как бы сильно пущенные лопасти винта.
С жаром дети подхватили и долго не могли успокоиться. Потом Учительница спросила, как они провели лето, что видели интересного, что им больше всего запомнилось. В нетерпении все сразу начали тянуть руки в струнку, подпирая другой рукой локоть. В нетерпении трясли руками, локоть подпирая ладошкой. Целый лес нетерпеливых рук. Я! Я! Меня! Меня! Учительница по очереди разрешала. Маша… Надя… Эдик… Марка было тоже завыдёргивался с рукой со второй парты – и отстал. Потом снова не удержался: руку вытягивал как послание какое-то, как петицию, меморандум – и снова опустил.
– Тюков… – неожиданно разрешили ему.
– А я… а я… – Марка аж задохнулся от такого доверия и своей храбрости. – А я… я видел Дядю.
– Где? Какого дядю?
– Дядю… Возле дома, где молоток и коса…
– Какие молоток и коса! Что ты мелешь опять? Какие?!
– Молоток и коса… Скрещённые…
– Ха-ха! Это серп и молот, что ли? Дети! Слышали? «Молоток и коса!»
Весь класс заливисто смеялся. Ну, этот Лёлин! Ну, Тюка! Ну, сказанёт!
Учительница смотрела на Марку. Длинные колокольные локоны сорокапятилетней женщины были неподвижны, свисали. У неё не было своих детей, своего мужа. Чужие мужья были. Белые сморщенные щёки её походили на пересушенные после стирки скатёрки.
Ну что ты ещё скажешь? – смотрели на Тюкова бесцветные водянистые глаза в красных ободах век. В которых проступала непреодолимая брезгливость к этому… недоделанному мальчишке… Где? Когда видел? Чем поразил его этот… «дядя»? – Темнота-а.
Марка молчал. Он ощущал себя, как будто навалил кучку, а на неё слетелись мухи. Зелёные мухи. А он стоит рядом и наблюдает. Как бы он – и кучка, и ещё – наблюдает. Отделился. От кучки. Рядом стоит. Не кучка как бы…
– Садись! – махала рукой Учительница.
А дети, после досадливой этой задержки, ещё с большим нетерпением завытягивали, затрясли ручонками. Меня! Меня! Я! Я! Вскакивали по одному, бойко докладывали.
Когда весь класс во главе с Учительницей проходил мимо Маркиного барака по дороге вниз – из репейника, как много теста, поднялось много головы изумлённого Толика. Марка сразу отвернулся, стал смотреть в другую сторону. Но никто почему-то не заметил Толика в репейнике, даже Сарычев, новый Маркин сосед по парте, который и жил рядом с Маркой, вон, возле «Винного», через дорогу, и знал Толика…
К слову сказать, Сарычев этот на второй же день стал подбивать Марку подглядывать у Учительницы. Обзывал «бздуном». И ещё другими словами. Тогда Марка залез и добросовестно подглядывал из-под второй парты у Учительницы. Но ничего, кроме тощих, как раздатый хомут, ног, заканчивающихся чёрным тупиком… не увидел. Так честно и сказал Сарычевой голове, которая сунулась к нему под парту. Мол, черно и ничего не видно. Тогда во второй раз начал Марку Сарычев заставлять.
И случился скандал – наверное, почувствовав дыхание Марки, Учительница вскочила из-за стола и страшно покраснела. Стала кричать Марке под парту. А он вылезал и показывал ей ученическую ручку. Мол, упала. Пришлось вот лезть. Стоял в растопыренной гимнастёрке, с уехавшей на грудь пряжкой ремня, что понурый конь с уехавшим седлом.
А Сарычев, преподобный Сарычев, уже откинулся на парте на руку, злорадно смотрел со всеми – мол, каков субчик! Вот такой теперь сосед по парте у Марки оказался. Он и сейчас шёл и уже подталкивал Марку локтем, гыгыкая. Показывал на Шанина и его коротышку-друга, которые застыли, обнявшись, возле «Винного». Как одна расставленная, но очень неустойчивая стремянка. Чтоб, значит, Марка побежал и подтолкнул их там. Чтоб, покачавшись, они упали на землю и оба переломались. А, Марка? Гы-гы! Подбивал, значит, опять Марку… Вредный всё-таки этот Сарычев!..
Когда пришли к болоту, Учительница спросила, с чем можно сравнить крик лягушки (надрывалась там одна, дура), и Сарычев тут же зашептал Марке на ухо. И Марка сдуру, как безумный, сразу задёргался с поднятой рукой. Будто бы это его самого осенило. А Сарычев ещё выкрикивал Учительнице, что Тюков, Тюков знает! Тюков хочет сказать! Учительница разрешила, и Марка начал барабанить, что крик лягушки походит на этого… на Крёстного… ну когда им… значит, это самое… потрёшь, значит… об ладошку… Но никто ничего не понял про Крёстного, все начали кричать, заспорили. И Марка только вытирал лицо платком и поглядывал на хихикающего Сарычева: да-а, Сарычев, подвёл ты меня под монастырь. Как всегда подвёл, гад. А одинокая лягушка сперва свиристела, а затем и впрямь будто бы тёрла в болоте резину. Свиристела и яростно натирала свою ладошку Крёстным.
Пошли всей гурьбой дальше. Вдруг увидели лошадь со спутанными ногами. Перескакивающую за травой, как шахматный конь. Рядом курил хозяин лошади. Крестьянского вида старичок. Хмуро поглядывал на траву. Трава была цвета мочала.
На вопросы сбежавшихся и окруживших лошадь детей – ничего не отвечал. Будто не видел, не слышал никого. «Товарищ конюх, что же вы не ответите детям?» – спросила его Учительница. Старик молчал. «Товарищ конюх, вы слышите нас?» Он и на этот раз не сказал ни слова. И только когда, несколько смущаясь, пошли от него, и Учительница от возмущения то покрывалась пятнами, то бледнела – вдруг вырвал клок травы и плаксивым голосом закричал Учительнице: «На, на, поешь этой травы, сперва поешь! А потом дальше учи своих доцентов! Поешь, сперва. Поешь! Мать твою за перетак!»
– Это ненормальный! Дети! Быстрее! – Класс уже бежал во главе с Учительницей. А старик всё махался пучком и выкрикивал вслед: «Поешьте! Поешьте! Эх, вы-ы, доценты!»
Опомнились только возле остова грузовика. Того самого, в ржавой кабине которого Марка сидел когда-то, как в черепе. Так и покоящегося в почве. Походили вокруг ржавого железа, не понимая, для чего оно, что с ним делать. (Марка хотел сказать, что можно залезть внутрь кабины и потарахтеть, но сдержался.) Экскурсия, собственно, закончилась. Учительница оглядывалась. Так, кусты посмотрели, траву посмотрели, болото видели, лягушку послушали, ненормальный со скакающей лошадью ушёл. Больше на природе делать нечего, можно поворачивать назад, к городу.
Тут, однако, увидели чудо – весь в золотистой пыли спешил комбайн вдалеке. Такой же неожиданный для детей, как лошадь до этого. И от удивления все смотрели на него. Смотрели, как на сельскую избу. Сдуревшую вдруг и быстро поехавшую по полю.
«Овсяные убирает», – пояснила Учительница. И тут, откуда что взялось, Марка Тюков вдруг сказал, что не «овсяные», а Озимые… И добавил, как недовольный старик, что «овсяная» только кашка бывает… (Вот так Марка! Помнит, оказывается, стервец, свой корень! Отбрил-таки!) Учительница вскинула бровь. «Ну да – я так и сказала – озимые…» (Марка ухмылялся в сторону, давай, давай, дескать, заговаривай зубы…) «Ну, всё, всё, дети! Назад, назад – к школе!» Все с каким-то облегчением, как после нелёгкого испытания, заспешили назад, к школе. И вся разбросанно спешащая по кочкам группка детей смотрела только себе под ноги. Словно торопилась к выдуто-громадной сажевой туче, заполонившей небо над заводами впереди, из дыры которой шёл отвесно вниз белый свет. Похожий на освещённый белый лаз наверх. В единственное спасенье. В рай. Длинно-белое лицо Учительницы плыло как несомое слепое знамя. Головёнки по бокам спешили, волновались.
2
Этой же осенью старуха Кулешова, собравшись-таки, поехала в Сибирь, к дочери своей болезной, пожить с ней, помочь чем можно – и Марка оказался беспризорным. Маня на работе изводилась, не знала как быть. Велела, в конце концов, приезжать к ней в кинотеатр. Прямо из школы. Зайти домой, перекусить, и на автобус. И чтобы с учебниками, с тетрадками, с ранцем!
Марка с радостью согласился: дорогу к «Родине» он знал преотлично. Тем более что и Толика можно было брать с собой, тётя Неля всегда разрешала. Они выходили к дороге, влезали в полупустой 44‑ый, садились впереди, по ходу движения. «Ученический», – важно говорил Марка, если в салоне бывала контролёр. У Толика, увидев его большую голову, билета не спрашивали никогда. Так и ехали: один с проездным, другой бесплатно. Неотрывно смотрели в окно.
Трёхзальный кинотеатр «Родина» находился в центре, у перекрёстка двух улиц: Карла Маркса и Чернышевской. Это было довольно величественное здание в стиле, если можно так выразиться, мини-Греции: с гладкими колоннами – вверху, как положено, красиво закудрявленными, на которых покоился треугольный, весь в красивой лепке, портик. Правда, и снаружи и изнутри весь изгаженный голубями. Эдуард Христофорович Прекаторос, директор кинотеатра «Родина», каждый день озабоченно смотрел вверх под портик, откуда от драк голубей постоянно слетало перо, чередуясь с длинной малахитовой дрис…
Эдуард Христофорович шарахался от помёта, всерьёз подумывал вызвать лихих тёток из Санэпидемстанции, чтобы занялись они голубями, чтоб как-то убрали, ликвидировали их, ну, скажем, как мышей, как тараканов…
Какая-то хитрая старушонка повадилась продавать овсянку в маленьких кулёчках (кулёчек – рубль!), на площади, перед кинотеатром, как будто где-нибудь в Риме или, на худой конец, в Москве. Ну, чтоб люди, побаловавшись с птицей, ощущали себя благодетелями.
Голуби бегали, жадно клевали. За струями овсянки – кидались, грудились в кучу, растопыривались крылами, чтобы отвоевать себе хоть какое-то пространство…
Потрясая кулаками, Прекаторос спешил к безобразию. Стаю сдёргивало с асфальта – как плащ. Старушонка с овсянкой улепётывала через дорогу, через трамвайные пути, к памятнику Чернышевскому, который – тоже весь обгаженный – стоял с крутящимся на макушке голубем.
Старушонка присаживалась скромненько на краешек скамьи рядом с Мыслителем. Присаживалась пережидать. А Прекаторос всё грозил ей пальцем. Ему чудилось, что и на проносящихся трамваях – висят голуби. Как болельщики, едущие на стадион!.. Но это уже была, конечно, чистой воды аберрация. Проще говоря, искажалось немножко зрение у Эдуарда Христофоровича.
Площадь перед кинотеатром была небольшая: с одной стороны её отгораживала от квартала высокая кирпичная стена жилого дома, густо закрашенная коричневой краской, куда очень просилась реклама «Храните деньги в сберегательной кассе» (на самом деле позже туда повесили из составных фанер портрет Человека С Лошадиным Черепом и почему-то в тонких очках), с другой – под обрезанными сиреньевыми кустами протянулся ряд скамей с изогнутыми спинками. И наконец, прежде чем пройти к главному входу-порталу или левее и вниз к кассам сбоку здания – можно было полюбоваться цветочной осенней клумбой в центре площади, как свежеиспечённой коврижкой (а летом-то тут настоящий пышный торт из цветов цвёл!).
В хорошую погоду на площади всегда бывало немало людей. Как йоги, с закладной ногой к животу, воспаряли на второй ноге над скамьями молодые парни с раскинутыми руками. Их подруги рядом без конца стягивали юбчонки на коленки, будто на вызревающие дыни. (Так прикрывают от света быстро портящийся товар.) Расфранчённые младенцы талды́кались к протянутым рукам, лепеча, задыхаясь от восторга. Постарше ребятишки или лизали длинное, как язык, мороженое, или стояли цепочкой к железному крашеному ящику на колёсиках с двумя бурыми колбами и выцветшим тентом над ними. (За падающим уровнем в колбах следили очень внимательно, как будто за аппаратом на станции переливания крови скорой помощи… «Мне же с тройным! Тётя!» – «А, чёрт тебя!» Пухлая, склизкая, как медуза, рука доливала из краника.) И возле глухой стены (где потом повесят Главу) стоял на высоком постаменте и задумчиво дул в продольную флейту греческий голый мальчик из бронзы…
Эдуард Христофорович ещё раз строго оглядывал всю свою мини-Грецию и, уже не думая о голубях, шёл к колоннам, к порталу, чтобы взойти по трём ступеням в храм. В Храм Искусства…
Между тем Марка и Толик, не обращая особого внимания на клумбу, на мальчика с флейтой и на колонны… спешили через площадь и вниз по лестнице, к кассам, где помещался Зелёный зал, где была мать Марки. Спешили, чтобы выпросить у неё денег, быстренько вернуться назад, на площадь, и купить два мороженых, длинных, как языки. В крайнем случае пристроиться к аппарату с колбами – и уж там по стакану ядрёненькой с двойным! Уж на это-то мать Марки, надо думать, денег даст?
Не тут-то было! Марку сразу же запирали в конторку учить уроки. А Толика Маня заводила в зальчик (Зелёный зал) на попечение Коли-Бельяши. Толик застенчиво вслушивался в себя, стоя напротив Коли. Голова Толика была как туман. Коля осторожно трогал её пальцами, явно завидуя. У него голова была размером всего лишь с толкушку. Да, всего лишь с небольшую берёзовую толкушку… Спохватившись, вручал Толику беляш. Толик с беляшом взбирался на сиденье. Рядом с дядей Колей.
Перед старинными часами Марка сидел как перед скучающим гробом. С места на место перекладывал на столе учебники, тетрадки. Унылое шло самовнушение: это я уже сделал, это вроде… тоже, по этому наверняка… не спросят, а это – ерунда, запросто.
Когда слышались быстрые шаги матери – хватал ручку. Небрежно этак, запросто выделывал ею какие-то загогулины, каракули. Матери не видел – весь в работе… Маня почтительно прикрывала дверь. Снова висел на ладошке, с тоской смотрел на качающийся маятник часов: ну когда оно там накачается (время)?
Отмучившись ровно полчаса, вылетал в коридор. «Сделал! Сделал!» – всё сметал на своём пути преувеличенной громкости голос. (Так подскакивают и голосят, чтобы их не трогали, на болоте чибисы-петушки, отвоевав себе крохотную территорию.) Сразу нырял в зрительный зальчик, как из-под сонного одеяла выдёргивал Толика наружу, и они торопились по лестнице к колоннам, к центральному входу, чтобы попасть, наконец (и мороженое забыто), в большое единое фойе Красного и Синего залов.
Здесь всё интересней. Гораздо. И натёртый мастикой пахучий паркет, который так и хотелось понюхать (пробовали один раз с Толиком, вставали на коленки и нюхали, но контролёры… в общем, ладно), и кудрявые опять же колонны кругом, правда, квадратного вида, не круглого, как снаружи. И ещё одна – только лепная, белая и с люстрой посередине – пышная клумба, налепленная на потолок. И ряды сидений со зрителями под ней и перед эстрадой, где впереди оркестра всегда встаёт и объявляет музыку дяденька-скрипач, удерживая скрипку со смычком – как Буратино. И сам оркестр, закидывающийся трубами и бабаба́хающий размашисто по барабанам. И читальная раскрытая комната, где всегда над досками присту́кнулись шахматисты и где здоровенные вуалехвосты походили на дворников с мётлами, подметающих в двух аквариумах. И тоже раскрытый, но приподнятый буфет, где ешь и всё видишь: и оркестр, и внимательные головы людей перед оркестром…
А на втором этаже если? По двум мраморным лестницам, с двух сторон вестибюля можно забежать на него – и четыре двери в два раздельных зрительных зала. В одном и стены, и лепные узоры по стенам, и потолок – всё синее (Синий зал), в другом – всё то же самое – только бордово-красного цвета (Красный зал). И там уже стаивает свет, и зрители, как по команде, как один, начинают дружно сдирать шляпы и кепки (до этого – все в шляпах и кепках!)… А если ещё снова сбежать вниз…
Но… но однажды Толика увидел внизу Прекаторос. Одного. Стоящего возле колонны. (Марка забежал в туалет. Толик вдумчиво ждёт.) «Это ещё что за Бомбей тут стоит? – строго спросил у контролёров. – Чей он? Где родители?» Две пожилые женщины в коричневых форменных халатах с шитьём по груди зашептали ему с двух сторон, привстав на носочки. «…Всё равно – вывести и больше не пускать. Пусть они там, внизу, клуб свой устраивают. «Весёлых и находчивых». Есть у них там один – Постоянный Председатель…» Ушёл в кабинет, хлопнув дверью.
Выбежавший из-за портьеры туалета Марка тут же был подхвачен с Толиком тётушками под локотки и выведен за остеклённую дверь. Толик хватался за дверь, дверь нельзя было закрыть, поэтому пальцы Толика тётушки – отдирали…
Постояв, Марка сказал: «Идём, Толик, нечего тут… упрашивать». Взял его за руку, и они пошли вдоль колонн, и стали спускаться вниз, к кассам, в свой Зелёный зал, где им и было место.
Маня Тюкова несколько дней не разговаривала с Прекаторосом. Будто в упор его не видела. Прекаторос спросит её про что-нибудь – ну там о посещаемости, к примеру, – молчит, голову отвернула в сторону. И так несколько раз. Только хочешь… а она в конторку уйдёт, дверью хлопнет. И всё это при сотрудниках, на глазах у всех.
Эдуард Христофорович вынужден был вызвать её в свой кабинет. Официально. Посланной билетёршей. Чего до этого из конспирации никогда не делал. И как теперь с ней разговаривать, как называть: на вы? на ты? Хоть и один на один в кабинете, но телефон вон. На столе. Подзванивает нередко, гад… «…Поймите, Мария Петровна, мы же с вами в кинотеатре работаем, с людьми, здесь же учреждение культуры, а не этот… как его?.. не паноптикум какой, где эти… как их там?.. ну, в общем, нельзя же! Он мне всех зрителей распугает! А если комиссия? (Маня уже отворачивалась, кусала губы.) Ну, давайте, давайте – Беляша ещё вашего приведём. Для букета. Посадим их в первый ряд!.. Ну чего вы так переживаете за них, Мария Петровна! За Беляша этого, теперь вот ещё за одного… Пусть их там, у вас, внизу, там публика попроще, пусть их там… сидят… (Эдуард Христофорович помялся, собираясь сказать сердечно, участливо, от души…) И потом, Мария Петровна (вы только не обижайтесь на меня), что это за дружба такая?.. Вы, как мать – и такие… друзья у вашего сына… Один… этот… Беляш… второй – Бомбей какой-то… Что же, нормальных детей, что ли, для него нет?.. Странно даже, честное слово…»
Из кабинета начальника Маня Тюкова вытолкнулась, глотая слёзы. Долго как-то – точно запечатывая там всё: своё унижение, свою зависимость, обиду, злость – закрывала дверь. Точно боялась, что дверь раскроется – и всё ринется за ней вновь, сомнёт, собьёт с ног, поглотит.
Прекаторос жестоко страдал за столом. Моложавые тётушки в форменных халатах распахивали Мане Тюковой остеклённую дверь, успевая подмигнуть и немо хохотнуть друг дружке. Но… закрывай, не закрывай дверь начальника-любовника, а ничего изменить за ней уже нельзя: все унижения, обиды, вся зависимость от него тянулись уже годы – и Марке с Толиком наверх вход был заказан раз и навсегда. Одному Марке – ещё куда ни шло: могли и пустить иногда. Если Толик рядом за руку – идите, идите, ребята, к маме вашей идите, в Зелёный зал! Да Марка и не рвался вовсе теперь наверх, в чёртовы эти залы. С оркестрами ихними, с аквариумами, с шахматистами. Да пусть их там, раз так! Больно надо!.. А надо было – «больно»…
3
За Зелёным залом, дальше по притемнённому коридорчику, за аппаратной, находилась ещё одна комната, последняя – с низким потолком, но просторная, резко высвеченная с потолка хлопотливым городом из люминесцентных ламп. Аккуратно вдоль стен стояли фанерные щиты под афиши, на маленьком столике у двери разложены были банки и тюбики с красками, торчали пучки кистей и кисточек разных размеров. Здесь работал художник со странным для человека еврейской национальности сочетанием имени и отчества – Фаэтон Кузьмич… (На вопрос Прекатороса, почему так… такое имя-отчество, художник как-то дьявольски рассмеялся, обнажив жёлтые зубы, имеющие вид зубьев различной конфигурации: «Зашифровка, товарищ директор! Так удобней!») Хотя фамилия у него была нормальная: еврейская – Кувшинкин.
С узким белым, каким-то очень революционным челом, над которым стоял путаный лес очень жёстких волос, с глазами, как с изготовившимися запуститься свёрлышками, он выглядел худым, тщедушным. В каких бы брюках ни приходил на работу – смахивал на комбинезонного английского докера из кинохроники, у которого держится всё только на широких лямках-помочах. Но двигался быстро, устремлённо.
Когда́ он работал красками, кистью – увидеть было трудно. Он постоянно печатал. На портативной пишущей машинке. Изогнутый перед ней сутулой курительной трубкой. Печатал очень быстро, всеми десятью пальцами. Перьевые рычаги на машинке летали с треском, яростно, неостановимо. Так, наверное, трещит хвост у токующего тетерева. Или фазана. Если он токует, конечно, когда-либо…
Опять же на вопрос Прекатороса, что он такое всё время печатает, Фаэтон Кузьмич вырывал из машинки пучок листьев, как салат с грядки, совал Эдуарду Христофоровичу, с жаром объяснял. А Прекаторос, прочитав только слова «Генеральному прокурору СССР, копию в Прокуратуру РСФСР, копию в газету «Правда», мало уже понимая, о чём тараторит этот нервный человек, почти не слыша, с тоской только думал, что зря взял этого парня на работу, жестоко – зря; что не избавиться ему теперь от него вовек – по судам затаскает.
Прекаторос отдавал все листы автору и, как заболевший, уходил. А машинка торжествующе взрывалась с новой силой.
В мастерскую приходили три старика-еврея. Похожие на логарифмы. На трёх стульях в ряд сидели, опершись на палки – вытягивали пальцами вьющиеся бородёнки. Потом выгоняли Марку и Толика, горячо втолковывали что-то Фаэтону Кузьмичу. Перестав печатать, Фаэтон Кузьмич, потупясь, слушал. Евреи говорили по очереди. Иногда принимались говорить все. Враз. Как давали по Фаэтону Кузьмичу залпы.
Потом у Фаэтона Кузьмича как-то незаметно тоже выросла бородка, тоже вьющаяся вперёд, как тонкая роспись. Но на машинке он печатать не перестал. И евреи опять приходили – думали, опершись на клюшки. Затем, выгнав Марку и Толика, ещё более горячо вдалбливали что-то Фаэтону Кузьмичу. Даже вдохновенно пели дрожащими голосками.
Когда птичьим шагом шли мимо Зелёного зала на выход, Маня Тюкова всегда предлагала им посмотреть фильм. Документальный. «Обыкновенный фашизм». Старики не удостаивали её даже взглядом. Однако в следующий раз, когда им нужно было пройти к Фаэтону – долго и робко топтались у входа, опасаясь, что у них потребуют (как это сделала однажды Стеблова) входной билет. К досаде Стебловой, Маня стариков всегда пропускала. Без всяких. Старики радостно шли. Царапали даже головы Марки и Толика крючкастыми пальцами. Но посидев и подумав – как всегда, выгоняли за дверь и принимались за Фаэтона. Машинка, конечно, в это время молчала. «Мы же свободные люди! А?..» – точно сообщникам, хитро подмигивал старикам-евреям Фаэтон Кузьмич. И смеялся, обнажая зубы свои, как, по меньшей мере, слесарный цех…
Несколько раз он подбивал Маню Тюкову бастовать. «Это мизер! Мизер!» – картаво выкрикивал он (имелась в виду зарплата). Маня Тюкова отказывалась. Тогда он кидался к Стебловой. «Согласитесь – мизер! Мизер!» Стеблова рушилась от него в уборную. Вместе с рушившейся там водой. «Сюда нельзя! Сюда нельзя! – кричали ему из-за двери две женщины из аппаратной, закрывшись. – Здесь аппаратная!..»
Он брал голову Толика в две ладони. Долго всматривался в неё. Как в эру Мезозоя. «Гениальнейшая будет голова!» – Отпускал. Поручал ребятам сбегать на почтамт, опустить пять писем. Но… в ящик, где написано – «для иногородних». Ясно? А потом будет премия. Марка и Толик с письмами радостно бежали. Премия всегда бывала ровно пятьдесят копеек. Как раз на два сливочных. На два языка!
Всего через десять минут они сидели и лизали развёрнутое мороженое в первом, родном своём ряду Зелёного зала. Коля за компанию наминал свои беляши – кроме них, как известно, он ничего больше не признавал.
Фильм «Обыкновенный фашизм» шёл в Зелёном зале уже не первую неделю. Тем не менее смотрели его с большим интересом. Обсуждали, что-то объясняли друг дружке, на экран показывая пальцами. Бегали на экране, стреляя дымом, автомобили начала века, похожие на этажерки. Шофёры в очках и крагах прыгали на них под самыми небесами, всё время отчаянно надавливая грушу.
Когда движение на экране останавливалось и показывали какие-то старинные дагерротипы коричневатого цвета – все трое разом замирали, точно загипнотизированные. Шли чередой какие-то банкиры, финансисты, предприниматели. Вот показали целую группу. Впереди сидел, нога на ногу, явный немец. Подмороженный крахмальным воротничком. Монокль в глазу – будто прорубь с водой в черепе. Рядом с ним приши́пился то ли старший брат его, то ли отец. Старик с тощей шеей. Торчал из стоячего воротничка – как давнишний выстрел из одностволки. Но тоже с моноклем. И стояли служащие, и лоснящиеся причёски на прямой пробор обливали их черепа, будто чёрные знамёна с белыми древками…
Но вновь на экране начиналось движение, мелькание, что-то куда-то побежало, поехало, полетело, и троица тоже оживлялась. Коля тыкал пальцем: «Гитлер!» Чуть погодя опять: «Гитлер!» А Толик выносил лицо к друзьям, поведывал обоим с уважением: «Фатытты». Второе выученное им слово. Когда видели, как группа немецких солдат, по команде, как один, охлопывается по ляжкам перекрещёнными руками, подготавливая себя к русским морозам – смеялись. Коля и Марка. Толик начинал смеяться позже. Когда уже смеяться не надо было. Зрители, в основном бездельничающая молодёжь, покатывались. Смотрели не столько на экран, сколько на оживлённую троицу в первом ряду, комментирующую фильм. А оттуда доносилось – сначала разъясняющее: «Фатытты». А потом короткое, резкое: «Гитлер! Гитлер поехал!»
На дню несколько раз к троице присоединялся ещё один человек, четвёртый – Фаэтон Кузьмич. Присоединялся как к ученикам своим, воспитанникам. Обняв, придвинув к себе Марку и Толика, в полумраке строго поворачивал к ним лицо. То к одному, то к другому. Как экзаменовал. На экран не смотрел. Что там экран! Вот же – самые жизненные персонажи! У него в двух руках! Громко смеялся. Отдохнув таким образом, уходил печатать. Причём снимался с места по-молодецки, пружинно. И гордая взлохмаченная голова, как театр одной тени, без церемоний пересекала весь экран, удаляясь по нему к боковому выходу из зала. А оставленные ученики, не теряя ни минуты, принимались с новым воодушевлением объяснять друг дружке, тыкать пальцами: «Фатытты! Гитлер, Гитлер! – П-поехал!..»
«Они каждый день срывают показы фильма!» – нашёптывала Прекаторосу Стеблова, показывая глазами на троицу, которая, честно отработав, в перерыве между сеансами закусывала беляшами, там же, на рабочем месте, в первом ряду… Но Эдуард Христофорович только разводил руками, доверительно напоминая Стебловой, что тут, в Зелёном зале – вотчина Марии Петровны. Ничего не поделаешь. Тогда Стеблова начала капать на Кувшинкина, на Фаэтона Кузьмича. Как на главного, истинного виновника всего происходящего. Идейного вдохновителя происходящего безобразия в Зелёном зале… Прекаторос сразу хмурился. Слушал жаркое стрекотанье машинки, вылетающее из темноты коридорчика. Наверху у себя в кабинете – мрачно думал. Нужно было что-то решать. Да, решать. Пока не поздно. Посматривал на телефон. Чёрный телефон подзванивал как-то поперёк. Как болезненные экстрасистолы давал.
А Стеблова внизу садилась обратно на стул с чувством выполненного долга. Складывала руки на груди и поглядывала теперь на Маню, снующую с ведром и тряпкой. Как бы эту ещё свалить? Как выжить эту чертовку? И бегает всё время, стервозка, и бегает! Выслуживается, гадина. Иванову-кассиршу с большой книгой она, Стеблова, свалила. Да, свалила. Но как – эту? Спит с ней Прекаторос – или бросил уже? Вот вопрос! Дряблое стёганое лицо в клоповьей умершей рыжине́ брезгливо наморщивалось…
А Иванову-кассиршу видели летом. И беременную. Вот что удивило! Она несла большой живот в джинсах – как тонконогое кенгуру! Увидев Маню у кинотеатра, хотела свернуть на площадь и подойти, замедлила даже шаг, но разглядела-узнала Стеблову, стоящую с Маней рядом… и пошла дальше, гордо откидывая голову. Тем же перьевым индейцем с раздувшимися отмазанными губами… «Ишь, ты! Гордячка какая! Не подошла даже!..» – гундела Стеблова. «Счастливая…» – умилялась Маня, продолжая смотреть вслед.
Марка не удержался, догнал и пошёл с Ивановой в ногу рядом, закидывая солнечное лицо к ней и что-то говоря. Она положила руку ему на плечо, как старому другу, шла, слушала и смотрела вдаль. На углу купила ему мороженое, потрепала за вихры – направила-подтолкнула к матери, так и маячившей со Стебловой у кинотеатра. Марка побежал, вперебой припрыгивая, разворачивая длинное мороженое.
4
Вечерами нередко Маня с детьми выходила из кинотеатра вместе с Фаэтоном Кузьмичом. По площади вместе шли, и к улице, чтобы там свернуть за дом, к остановкам. Фаэтон Кузьмич вёл Марку и Толика за руки, наклонялся к ним, что-то говоря и смеясь. В вечерней тени через дорогу докручивал эпилептоидный свой танец на голове бедняги-Чернышевского голубь. По выбитым рельсам скакал глазастый, как конь, полупустой трамвай. А от колонн мрачно смотрел на весёлую семейку, пересекающую площадь, директор кинотеатра «Родина» Прекаторос. Смотрел до тех пор, пока семейка эта новоявленная не сворачивала за дом, за угол… Та-ак. Эдуард Христофорович сопел, думал. Нужно что-то решать. Что-то делать. Но – как? Закат был близок, красен, как гипертоник…
…Прекаторос терял голову в темноте коридорчика за аппаратной. Он лапал женщину, бормоча как в бреду: «Через два дня ровно месяц будет, ровно месяц, Маша! Я не могу! Я с ума сойду!» Наблюдалось явное семенное бешенство у мужчины. Женщина отбивалась, как могла, обещала, что придёт, что завтра! Завтра! Господи! Что она может сделать?! Что?! Господи! Ребёнок ведь! Ребёнок!
Вырывалась как-то, одёргивала платье, кофту, быстро шла на свет, косясь на кемарившую на стуле Стеблову. А Прекаторос качался как бык, промазавший по корове, ничего не соображая. И били в голову сзади пулемётные очереди пишущей машинки… Ах-ты-сво-лочь! Врывался в мастерскую художника. «Ты когда будешь работать, а? Писатель чёртов, когда?!» Фаэтон Кузьмич привставал со стула. «Что с вами, товарищ директор? На вас лица нет. Вам плохо? Заболели? Может, «скорую»?» Эдуард Христофорович мотал головой, готовый взреветь, кинуться на ненавистного. «А-а-а!» – Поворачивался и, выходя, ударял дверью так, что рисовались по оштукатуренной обвязке двери мгновенные ветви щелей. Как после землетрясения, как после первого подземного толчка.
«Да ятит вашу!» – шёл, ревел Прекаторос. Стеблова падала со стула и ползла, Маня торопливо заметала, заметала веником в углу несуществующую пыль. Жутко грохала и входная дверь. Да так, что на экране Зелёного зала сбивалась рамка. Женщины из аппаратной скорее её поправляли…
И всё же стукнул на Фаэтона Кузьмича не Прекаторос. Не успел, кто-то опередил его. Видимо, та же Стеблова… К Фаэтону Кузьмичу в мастерскую пришли двое. С университетскими значками на пиджаках. Лысые и вежливые, как филологи. Забрали пишущую машинку, Все Папки С Матерьялами, все бумаги Фаэтона Кузьмича, неотправленные письма, самого автора вывели и вынесли всё за ним (когда выносили – создавалось впечатление, что переезжает канцелярия). И увезли всё вместе на чёрной «Волге». Благо, везти недалеко…
Фаэтон Кузьмич вернулся вечером. Без машинки, без папок, без бумаг. Испуганный, сидел посреди мастерской, точно до конца не веря, что отпущен. По-птичьи приклонял голову, словно слушал щелкающий, трещащий город на потолке. Состоящий из одних люминесцентных ламп…
И в последующие дни так же вслушивался – рука с кисточкой вдруг замирала перед стоящей фанерой. Или над валяющимся на полу бело-красным лозунгом. Перед которым стоял на коленях…
Такое состояние длилось четыре дня. (Старики-евреи ни разу не появились. Пропали. Будто их никогда не было.) На пятый день вечером из-под двери мастерской потянуло дымом. Это сразу учуяли. И Маня, и Стеблова, и женщины две из аппаратной… Заспешили, побежали, распахнули дверь…
Мастерская была полна дыма. Но Фаэтон Кузьмич точно не чувствовал его, не кашлял в нём, не чихал. Совершенно спокойно брал чистые листы бумаги из разорванной новой пачки и кидал их на костёр, разведённый им у стены. За пылающим огнём, словно без конца выходящие из него, как из воды, были нарисованы прямо на стене три старика-еврея. Нарисованные в ряд, в профиль – слепо-лупоглазо смотрели в небо. Все одинаковые – с усложнёнными черепами и вьющимися бородёнками – как один и тот же растиражированный логарифм… Фаэтон Кузьмич подкидывал под них свежие листы.
Маня бросилась. «Что вы делаете, Фаэтон Кузьмич!» – Кашляя, закрываясь от дыма рукой, стала топтать, колотить туфлей огонь. «Когда уходишь – нужно сжигать за собой мосты…» – отрешённо говорил Фаэтон Кузьмич и всё подкидывал чистые листы. В дверях, кружась, боролась с хлещущим огнетушителем Стеблова. Выпучив глаза, лез в разор и дым Прекаторос…
…Потом толпой его выводили. Два санитара вели, придерживая за локти. Портик и колонны кинотеатра, как известно, были обгажены голубями. Приостановив себя и всю толпу, проникновенно, счастливо Фаэтон Кузьмич сказал, глядя наверх, на голубиный помёт: «Мумиё. Божественное мумиё. Долго разыскиваемое мумиё…» Направился к колонне с явным намереньем лезть наверх, добывать это мумиё. Его оттащили, повернули, повели дальше по площади, уже крепко держа за руки. Сопровождающие по одному, по двое оставались на площади. Торчали кто где. По-прежнему вели санитары и вязались с боков Прекаторос и Стеблова.
Его засовывали за тротуаром в тёмный УАЗик с еле угадываемым красным крестом. Солнце замерло между домами. Задумчиво дул в свою флейту в нём греческий мальчик. На крыше, вспыхивая, голуби крутились, как инквизиторы…
«Он был ненормальный, понимаете? Ненормальный, – потный, в саже, шёл обратно Прекаторос. Объяснял всем, старался: – Мне сейчас сказали: он состоит на учёте в психбольнице. Понимаете? На учёте. Ненормальный…»
5
Фотоаппаратик на тонких ножках походил на очень длинноногую цаплю. Ещё три фотоаппарата стояли в разных местах комнаты. Большие. Как амбары. Марка не знал, в какой смотреть. Длинной щепотью, сверху, носатый фотограф больно повернул голову Марки. Так поворачивают гайку. Отступил к фотоаппарату. К маленькому. «Смотри сюда!» Ещё раз прищурился, изучая фотомодель. Взялся за тросик…
– Не двигайся! Сейчас вылетит птЫчка!
Марка испуганно смотрел – птЫчка не вылетала. Вместо птЫчки, внутри аппарата, за линзой что-то чёрно зашуршало, скользнуло и пропало. Будто летучая мышь когтистым крылом царапнула.
– Всё, мальчик… Чего сидишь?
– А где птЫчка?
Фотограф усмехнулся:
– ПтЫчка на улице… Иди, иди, мальчик…
Марка вышел к матери в коридор. Высунувшийся фотограф шмальнул глазом по молодым коленкам Мани. Сам – инкогнито. Еврей. Или грузин. С усами, как моршанская махорка.
– Следующий!
…На маленьких фотокарточках Марка получился как-то колом. Каким-то высунутым. В ожидании птЫчки…
Сквер был подстрижен под бобрик. Как чай. С двух сторон сквер обрамляли пересекающиеся улицы. С двух других – на некотором возвышении – дома. На бугре, над сквером справа стояло здание. Всё – как солнечная батарея с хитрым стеклом. Вот к нему, однажды октябрьским утром, и прошли через сквер трое: уверенно шагающий мужчина в годах, молодая стройненькая женщина на торопящихся каблучках и дёргаемый ею за руку мальчишка с болтающимся за спиной новым спортивным мешочком, как с бутафорской конфетой трюфель.
Через пять минут из здания вышли только двое: мужчина и женщина. Мальчишка остался внутри.
Мужчина и женщина спорили. Женщина говорила, что Он не доедет отсюда, не знает автобуса, что нужно ждать. Мужчина говорил, что Он прекрасно доедет, что знает, что ждать не нужно. Пошли по аллее вдоль ампутированных кустов. Недовольные друг дружкой, словно отчуждённые. Женщина села на край скамьи, упрямо скосив голову. Мужчине ничего не оставалось, как тоже сесть, пустив руки по скамейной спинке.
На пьедестале завис белый пионер. С отломанным горном и частью руки. Фонтан ещё тут был пустой. Как проигравшаяся рулетка…
– Но послушай…
– Он же будет искать! Я же обещала ему! Как вы не понимаете!..
… – Скорее, дети! Скорей! Время! – раздавался голос в сыром, остро шумящем воздухе душевой.
Никогда Марка не мылся в бане, в душе, только в корыте, дома, мыла мать, поэтому душ над Маркой молчал. Марка смотрел вверх на лейку, словно ожидая от неё чуда. Трогал, как уговаривал, скелетно-фигурные железные вертушки́ на двух трубах. Справа и слева от Марки, за кафельными разгородками, сверху вовсю хлестало, и два мальчишки, одинаково закинув головы, весело тёрлись мочалками.
– Время, время, дети! Скорей! – Не переставая командовать, тётенька-тренер, прижав голову Марки грубой матерчатой грудью, вертанула вертушок.
Вода ударила резкая, холодная, Марка подско́кнул, но сразу как залубенел. Розовое мыло было в руке. На отлёте. (Марка словно не знал, что с ним делать, и берёг от воды.) Мочалки не было. Из руки мыло выскользнуло. Марка кинулся за ним и тут же обратно в огородку заскочил, опять выкинув руку с мылом в отлёт. Зубы его уже постукивали.
– Всё, дети, всё! Время!
Дети выключали душ, то там, то здесь обрывалась вода. Маркин душ хлестал. Марка стоял под ним всё так же – пригнувшись, держа мыло в стороне. Грубая в купальнике грудь вновь толкнула, прижала голову его к стенке – и всё, наконец, сверху оборвалось. Марка подрагивал, живот его тужился, когда он быстро шёл со всеми в раздевалку, чтобы вытереть лицо («Только лицо, дети! Только лицо! И сразу бегом в зал!»). И бежал потом в криках со всеми в зал. Неуверенно крича…
Голоногая шеренга ребятишек стояла на кафельном полу в полуметре от бассейна, где сине-зелёная вода в ожидании слегка волновалась. Девочки стояли отдельной командой, женской, в глухих мокрых купальниках казались плотненькими, гуттаперчевыми. Мальчики были в плавках разных цветов. На Марке плавки походили на мокрый длинный сачок. Выглядывая с краю шеренги, он их поддерживал рукой, за завязки.
– Равняйсь!
Дети отвернули лица от Марки.
– Смирно!
Дети вскинули головы. Марка тоже. На потолке ничего не было. Только глазастые плафоны.
– По порядку номеров… рассчитайсь!
Первая-вторая-третья-четвёртая-пятая! – резко вертели ненужными лицами девочки. Потом мальчики так же пошли: шестой-седьмой-восьмой-девятый!.. На Марке всё оборвалось. Марка выглядывал, поддёргивал плавки…
– Ну! Новенький!.. (Марка выглядывал, искал новенького)… Так. Ладно. Дети, слушай мою команду! Дружно – всем – в воду… марш!
С криками дети начали сигать, бросаться в воду. Подскакивали, по грудь, по пояс в воде, баловались, по-прежнему неумолчно кричали – железно-ведёрное эхо металось в гулком помещении. Марка тоже хотел было сигануть. Однако, суетясь, больно саданулся об острый кафельный край бассейна, прежде чем упасть в воду. Коротышка, который стоял с ним в шеренге рядом, тут же открыл по нему водяной огонь, сильно шмаляя воду ладошкой. Марка закрывался локтями, ничего не видел от воды, не слышал, не мог в ней говорить…
– Всё, всё, дети! Хватит! Хватит!
Дальше, под команды тренерши, маленькие пловцы выполняли на воде разные упражнения: как пароход плицами, очень шибко вертели руками («Бойче! Бойче! Дети!»), согнувшись, втыкали в воду острые ладошки, как бы плыли, оставаясь на месте; по одному, оттолкнувшись от дна, щучкой скользили по воде («Щучкой! Щучкой!»), пока не тонули и не вскакивали на ноги, ладошками смахивая, смахивая воду с лица. Были накиданы в воду тренером несколько плавательных досок и широкий надувной матрас. Начали плавать на досках, колотя ногами воду, а на матрасе даже плавать по трое, так же бойко молотя ножонками.
В чёрном купальнике, слегка наклоняясь вперёд, женщина-тренер вдумчиво ходила туда и обратно, поджарая, как гончак. «Веселей, дети! Веселей! Ноги работают! Ноги!»
Медленно Марка переступал, передвигался в стороне. Был как-то отдельно от всех. Изредка имитируя действие – нервно раздвигал, раздвигал пальцами воду. Раздвигал, раздёргивал. Словно водяную паутину. Словно перед тем, как нырнуть. И не нырял. Только когда освободились, заболтались на воде пустые доски, когда дети стали выполнять что-то другое – тоже попробовал. Взял одну и попытался закинуться на неё. Как на лошадь, на коня. Конечно, перевернулся и ушёл под воду, выскочив тут же обратно, протирая, протирая глаза кулачками, плача водой. Ещё попробовал – толканулся и лёг. И вроде бы поплыл, поехал даже, но опять резко опрокинулся на бок и ушёл под воду. И выскакивал каждый раз из воды с облитой сопельной головой. И с хлопающими, хлопающими по глазам ладошками.
Вдруг почувствовал, что на нём нет плавок, что потерял их. Схватился сразу в воде двумя руками за пах, заоглядывался, завертелся, высматривая на кафельном дне плавки, но вода, взбаламученная вода моталась волнами, дно пятнала тенями, всё искажала. Вроде бы увидел, нагнулся, присел, потянулся рукой – нет, ошибся. Снова вцепился руками в пах, готовый уже плакать. Двигался, двигался боком, ощупывал дно ногой. В одну сторону, потом в другую. Тут тренерша крикнула, что минутный перерыв, и все опять как обезумели: закричали, завыпрыгивали, захлопали по воде руками, как из рваных подушек выбивая водяные перья. Коротышка-подлец тут же открыл по Марке водяной огонь. Марка закрывался одной рукой, что-то кричал, плакал…
После того, как урок закончился, и дети, не забыв покричать под гулкий свод, ловко выпуливали из бассейна наверх, с усталым взрослым щегольством вытаскивая за собой одну ногу, как спортивную победу – в воде остался один Марка. Он точно сильно уменьшился ростом. Был точно без рук. Точно потерял их в воде.
Тренер сказала ему – где. Марка побрёл туда, стал шарить ногой. Белые ягодички высвечивали из-под воды, играли, как зеркала. Девчонки прыскали. Коротышка гыгыгы́кал.
– Рукой, рукой возьми! – последовал приказ. Марка достал кое-как, хлебнув два раза воды. Хлорка, вообще-то. Ладно. Отвернувшись от всех, припрыгивая на одной ноге, судорожно пытался вдеть другую ногу в плавки. Разом опрокинулся, ногами создав вулкан из воды. На кафельной дорожке все покатились. Прыжки пошли, крики. Болельщики. Команда. Марка упорно вдевался. Падал. То вбок, то назад. Снова подпрыгивал на одной ножке. Надел-таки! Судорожно затягивал, завязывал на боку завязки.
Нужно было выйти наверх по лесенке с поручнями, сбоку, но почему-то упорно ходил и вспрыгивал на борт, и слетал в воду. То в одном месте, то уже в другом. Ходил, взлетал на борт… и падал с борта. Смех, гвалт, крики стояли неимоверные. Эхо металось в высоком помещении – железное, нестерпимое, будто от тысячи кастрюль, тазов. Такого цирка стены эти не видели никогда.
Марку выдернула из бассейна тренерша. Под мышки. Плавки истекали на кафель водой, сильно удлинённые, будто мотня невода без рыбы. Марка удерживал их, отвернув голову в сторону. Ребятишки досмеивались, облепив тренершу. Со смеющимся интересом в глазах та разглядывала мальчишку: откуда такое чудо пришло? Верхние зубки её торчали из удивлённого ротика наподобие стиснутой скобки…
Из здания Марка вышел последним. От центра сквера весело припрыгивали домой по разным аллейкам ребятишки, по трое-четверо, подкидывая на спине спортивные сумки. Марка прошёл и по одной аллее, и по другой – матери нигде не было. Вернулся к центру сквера, решил ждать. Наверное, в магазин пошла.
Долго смотрел на белого пионера на пьедестальчике. Пионер походил на белый костяной опасный огрызок… Круглым камушком Марка запустил в пустой фонтан – и камушек, пролетев быстрые два круга, вылетел к нему же, Марке. Здорово! Ещё запускал…
Стоял неподалёку от работающего, вертящегося поливателя. Будто ударяясь обо что-то, поливатель разносил по бритой траве дождь. В водяную поднимающуюся пыль забегали радуги – и убегали обратно. На краю поляны курил дяденька-садовник в сером фартуке. Травокосилка у ног его была – как маленькое животное. Сперва Марка думал: зачем дяденька поливает – ведь осень же? А потом: заведёт или нет он мотор травокосилки? Нет, не завёл, потащил куда-то задом наперёд. Будто за хвост.
Марка вернулся обратно к центру сквера. Снова долго смотрел на обломанного пионера. Прошло полчаса, наверное, как он здесь, в сквере…
– Пучеглазый увёл… – сказал себе Марка. И, оглядываясь, запоминая и пионера, и пустой фонтан, и висящую над поляной водяную занавесь с весёлыми бегающими радугами, – пошёл из сквера. (На выстекленную секциями стену здания на бугре справа почему-то даже не взглянул. Как будто её и не было в сквере.)
Через полчаса он был на площади перед Горсоветом. Горсовет он сразу узнал. А вот герб, сквозящий над ним – как он его когда-то называл – не помнил… Вдруг увидел отца!
– Папа! – побежал, бросив мешок. – Папа!
Такой же, как Филипп Петрович, мужчина уходил с площади – пряменькая спина ходко двигалась в великоватом пиджаке, руки по-боксёрски гуляли…
– Папа!
Мужчина остановился – точно на полушаге. Резко повернулся. Конопатое лицо, хлопающиеся белёсые ресницы…
– Обознался, да? Обознался, мальчик?
Марка молчал.
– Ничего… Бывает… – Мужчина почему-то с беспокойством посмотрел по сторонам. Повернулся. Пошёл…
Словно погибший жест руки, вынесло из мешка далеко вперёд на асфальт розовое мыло. Замерли, остановив вращение, две половинки разлетевшейся мыльницы… Марка стал всё собирать.
А поздно вечером над остывающим закатом позади тёмного притихшего барака – почти во весь горизонт – протянулся дымный, словно издохший крокодил. Кирпичные трубы под ним казались мелкими, игрушечными. И как обкурившаяся яга с беспомощной везущейся метлой, сквозь дым тащилась в противоположной стороне пятнистая луна.