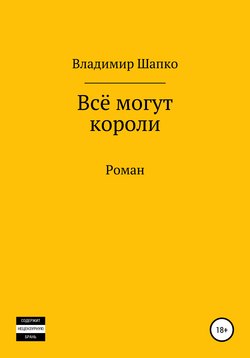Читать книгу Всё могут короли - Владимир Шапко - Страница 9
9. Надменный парень, или А если по высшему счету?
ОглавлениеУ Дылдова был гость. Какой-то парень. Он надменно сидел у дылдовского круглого окна, как у стереотрубы профессор. Не обратив ни малейшего внимания на вошедшего Серова, он объяснял явление: «Допустим, все стоят на переходе. Через улицу. Смотрят – красный. Нельзя. А может, это и не красный цвет вовсе. А может быть, это какой-нибудь другой цвет. Но у тебя в голове – красный, у него – красный, у меня – красный. Все уверены – красный… А кто знает, если по высшему счету брать?..»
Дылдов пожал Серову руку, похлопал по плечу, выдвинул табуретку, приглашая на сеанс. Но чтоб не шумел он только, чтоб тихо было. Чтоб как в кино. Опять оперся на столешницу, опять был весь внимание.
Парень стукал по коленям длинными выгнутыми пальцами. Как клюшками. «…Или – дерьмо взять. Запах. Каждый знает. Однако если по высшему счету – сомневаюсь!»
Серов посмотрел на Дылдова. Потрогал мочку уха. Шизофреник?
Дылдов тронул подбородок. Слегка почесал. Не без того!
Расставленные ноги парня без носков, но в мокасинах, стояли как кривые кости.
«А жизнь человеческую если посмотреть? Положенную на ничтожные гвоздочки годиков-цифр? Ничтожный рядок, протянувшийся в никуда – и всё?.. А может, жизнь-то – вширь раскинулась, пространственно, неохватно? А человек лежит, как йог, ощущает только острые эти гвоздочки. Всем своим телом. И никуда. А? Это как? Правильно?..»
Серову да и Дылдову уже не терпелось приняться за него, не терпелось разделать его под орех, но всякий раз, как только кто-нибудь из них раскрывал рот – парень сердито поднимал руку: «Я не кончил!..» Недовольно стукал по коленям выгнутыми своими клюшками. «А цирк, к примеру? Циркач в нем? Палками кидает… Этими… булавами. Или просто шарики у него гуляют. Белые. В руках. А если по высшему счету – это зачем?.. Но человек кидает. Занят. Пусть… Или БАМ. Это как? По высшему счету?.. Но понаехали, суетятся, соревнуются, тянут там какую-то железную дорогу. Мерзнут, радуются. – Пусть… Для людей надо придумывать бамы, фортепьяны там разные, скрипки, булавы! Пусть кидают, забивают костыли, бренчат… Пусть думают, что работают, что достигают совершенства. Пусть всё – как бы серьезно. По высшему счету жизни… Людей надо жалеть работой. Да. Жалеть… Не человек для работы, а работа для человека. Пусть играет…
Или – человек не справляется там. Бесталанный. Не тянет. Что его – убить?.. Надо жалеть его. Работой. Пусть. Участвует же. Чего ж еще? Каждый за жизнь свою произведет все равно больше, чем проест. Как бы плохо ни работал. Колхозы наши, заводы, конторы – всё построено на жалости к человеку. Может, даже на любви к нему. Пускай играет. Пусть думает, что работает. Ордена там ему, доску почета – пусть. Да! А у Павлова?.. «Работа, человек, инстинкт цели!» То есть что это – конечный результат, что ли? Да фигня! Важно участие в цели. Всем миром чтоб, собором, кучей. А не цель как таковая, не результат ее. Это на Западе – глотки друг другу рвут. Пусть их. У нас – не пройдет. Людей жалеем работой. Люди заняты. Космос? – Ура! На целину? – Ура! БАМ – ура! Булавы кидать – Ура!»
Непонятно было – парень говорит всерьез или всё – мистерия. Мистерия-буфф, мистификация. И, как паяц, он сейчас загогочет со всеми, визгливо закатится на весь цирк…
«Труд примиряет человека с жизнью. Да, примиряет. Единит. А если б так-то человек, без работы – по отношению к ней, жизни-то – ведь зверь зверем тогда! Чего от него можно ждать? – Никто не знает!.. Надо дать ему возможность. Пусть будет это его шанс. Он имеет на него право. Имеет! Умные люди… – парень жестко посмотрел на слушающих, – …умные люди поймут это. А дураки – пусть!..»
Слушающие удивлялись – парень, несмотря на придурь, брал широко. Однако привык слушать, походило, только себя. И надо признать, умел заставить слушать себя. Но было также очевидно, что всё у него ходит на грани. Куда повернет – в разумное, в безумие ли – предсказать было невозможно.
Парень стукал клюшковыми своими пальцами по коленям. Он был спокоен. Он вогнал слушателей в немоту железно. Он собирался с мыслями. «А если сперму взять? Человечью? (Дылдов и Серов переглянулись.) Излитую во все времена? Всеми народами? Да собрать ее всю?.. Это что же было б с землей тогда? С земным шаром?.. Монстр бы в космосе летал, роняя за собой континенты, океаны спермы! Вот что значит по большому счету брать… А вы… копошитесь тут, пишете чего-то…»
– А как? – осмелился спросить Серов.
– Что – как?
– Собрать – как?
– Это неважно. В один выброс – миллион сперматозоидов. На жене там или онанист какой… Миллион!.. А если по большому счету? Во всемирном масштабе? Внутренний микрокосмос спермы и тут же – макрокосмос ее? Если сопоставить их? Вместе?.. (Слушатели начали сопоставлять.) То-то! Космос затопит. Шагу негде будет ступить. Микрокосмос спермы и тут же – макрокосмос ее? Сопоставить? Вот и думайте теперь… А то пишите тут… свои романы…»
Дылдовская налимья шея уже буро налилась, уже потрясывалась, готовая разорваться, однако парень недовольно постукивал пальцами. Парень решил добить слушателей: «А знаете ли вы, вы – писатели, что от того, как стоят в прихожей туфли или сапоги там какие зимние – о хозяине их можно сказать всё? Знаете или нет, вы – писатели? (Дылдов и Серов переглянулись, узнавая: знают они или нет?) Вот так стоят (он показал – как стоят) – это одно. Ладно. Пусть. А вот так (он усугубил положение своих голых кривых ног в мокасинах) – так это разве не хулиганство со стороны хозяина?..»
И все это говорилось совершенно серьезно. Требовательно даже, обличающе. Человек болел своими мыслями, пропуская их через себя. Выстрадал их…
Хохот слушателей был дик, страшен. Это был хохот сумасшедших. Это был не хохот даже – припадок. Они валились на стол, подкидывались на кровати. Серов выскакивал в коридор, вновь появлялся, переламываясь и колотясь. Парень был нормален. Не шелохнулся на стуле. Клюшковые пальцы выстукивали на коленях.
Потом он ел ливерную колбасу, честно заработанную. Нарезанные кусочки – длинной брал щепотью. Как будто молился. Как будто заглатывал молитву. Парень жизнью явно был не избалован. «Его Федором зовут», – пояснял про него, как про великомученика, Дылдов. Парень отдал высоко засученную руку Серову: «Федор. Зенов». Снова брал ливер в троеперстие. Снова как собирал в молитву, нетерпеливо сглатывая. Подносил ко рту, запрокидывал голову, проваливал глаза. «Тебе бы рубашку надо, Федя… – сказал Дылдов. – Да и носки на ноги…» – «Не надо. Тепло еще… – ответил бич. – Потом дашь». Ну, потом – так потом.
Уходил парень каким-то совершенно непохожим на себя. Тихим, смущенным. Ничего не ответил на вопрос Дылдова, придет ли ночевать. Спятился как-то, ужался в дверях, толкнулся и исчез.