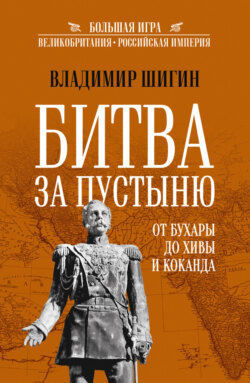Читать книгу Битва за пустыню. От Бухары до Хивы и Коканда - Владимир Шигин - Страница 6
Часть первая
Россия сосредоточивается
Глава третья
ОглавлениеОт западного побережья Аральского моря до устья Амударьи члены миссии добрались на пароходах Аральской флотилии. Капитан 1 ранга Алексей Бутаков свою задачу выполнил, хотя его личные отношения с Игнатьевым так и не улучшились.
Дело в том, что из-за задержки экспедиции с выходом суда подошли к устью Амударьи тогда, когда почти все рукава реки обмелели. Игнатьев винил в этом Бутакова, в ответ тот только пожимал плечами:
– Вы бы еще летом в поход отправились!
Как бы то ни было, дальше экспедиция должна была следовать уже сухим путем. При этом полковник Черняев остался у Бутакова, чтобы возглавить собственную небольшую экспедицию для оказания помощи аральским казахам в их противостоянии с Хивой.
Разумеется, Игнатьеву не хотелось расставаться со столь опытным профессионалом, как Черняев, но дело было прежде всего. Прощаясь, однокашники обнялись:
– Желаю удачи!
– Взаимно!
Судьба в дальнейшем еще не раз сведет этих двух незаурядных людей. Не всегда эти встречи будут приятны, но честное и уважительное отношение друг к другу они сохранят навсегда.
Проводив посольство, пароход «Перовский», баркас и баржи направились в один из рукавов Амударьи к ее притоку Кичкиндарье, а по ней к городу Кунграду. Населенный туркменами-йомудами, Кунград в то время поднял мятеж против Хивы, и его осаждали войска хивинского хана. При виде русского парохода хивинцы сразу же сняли осаду и ушли. Правитель города горячо благодарил Бутакова за помощь, но Черняев с явным разочарованием записал в дневнике: «Йомуды ничем не обнаружили и малейшего желания принять русское подданство. Народ этот, привыкший добывать себе хлеб грабежом и войной, более всего дорожит необузданной свободой и не променяет ее ни на какие блага, если с ними связаны порядок и благоустройство». При всей предвзятости моральных оценок политические выводы Черняева были верны. Не приходилось сомневаться и в том, что йомуды действительно были очень опасны в качестве противника.
На следующий день Черняева разбудил топот сотен копыт, выскочив из палатки, он увидел проносившихся мимо нашего лагеря конных туркмен-йомудов.
– Куда это они понеслись как оглашенные, в этакую рань? – спросил у местного толмача.
– Они поскакали за ушедшими хивинцами. Догонят отставших, отрежут им головы и получат за это хорошее вознаграждение! – с явной завистью сообщил толмач.
Черняев машинально перекрестился: о, племена, о, нравы…
Через день у палатки Черняева действительно появился йомуд, предложивший купить у него несколько отрезанных голов, намекая, что правитель Кунграда обычно платит по 40 рублей за голову. Разумеется, Черняев от подобного «товара» отказался. Отказался от «товара» и Бутаков, к которому сразу же поспешил предприимчивый туркмен. Впрочем, когда один из наших казаков внимательнее рассмотрел одну из голов, обнаружилось, что она принадлежала какой-то старухе, но была выбрита, «дабы походить на голову мужчины».
– Не знаю, чего здесь больше, жестокой дикости или дикой наивности! – сказал Бутакову Черняев.
Тот только вздохнул:
– Была бы возможность, они бы и наши головы перепродали!
Во главе маленького отряда из двух десятков казаков и солдат Черняев отъезжал весьма далеко от реки, невзирая на опасность быть атакованным какой-нибудь разбойничьей шайкой. Во время этих вылазок Черняев делал все, чтобы облегчить тяготы своих подчиненных. Так, по его приказу солдаты ничего не несли на себе, кроме ружей и патронов. Все остальное имущество грузилось на верблюдов. Таким образом, солдаты уставали значительно меньше и отряд двигался гораздо быстрее. Во время дневок по приказу Черняева часовой пускал к воде разгоряченных маршем, казаков и солдат только после часового отдыха. К тому же воду можно было пить только кипяченой. Именно тогда Черняев впервые ввел в обиход солдат головной убор, защищавший затылок и шею от палящего солнца. Благодаря подобным «мелочам» в отряде Черняева за все время экспедиции не было ни больных, ни отсталых. При этом Черняев со всей скрупулезностью не только составлял карты, но и изучал быт, нравы и психологию местного населения, постепенно становясь специалистом по Среднеазиатскому региону. Одновременно занимавшийся гидрографической съемкой берегов Амударьи лейтенант Александр Можайский нанес на карты более шестисот миль амударьинских берегов.
Закончив рекогносцировку дельты Амударьи, суда флотилии вернулись в Аральское море. Что касается Черняева, то за время плавания он также составил подробную карту прилегающих к дельте степей.
* * *
А посольство Игнатьева тем временем добралось до Хивы, где было принято Саид Мухаммад-ханом. Во время торжественной аудиенции посол вручил хану подарки от российского императора, среди которых был даже богато украшенный орган. Вручение даров сопровождалось пояснением, что подарки слишком велики и тяжелы, чтобы их в будущем перевозить через степь, но есть возможность переправлять их через Аральское море, поднимаясь по Амударье. Таким образом, Игнатьев попытался получить разрешение использовать данный маршрут в дальнейшем. Это была типичная уловка Большой Игры, давно применяемая англичанами, которые подобным образом тридцать лет назад получили право на судоходство по Инду. Однако хан оказался не так прост и посадил российских дипломатов под домашний арест, заявив, что делает это для их же защиты от черни, якобы ненавидевшей всех русских.
Взаимное незнание обычаев сказывалось буквально во всем. Так, член посольства ориенталист П.И. Демезон вспоминал, как возмутила хивинцев просьба русских выдать им для известных гигиенических нужд бумагу. По мнению правоверных мусульман, бумага являлась священным предметом, ибо на ней, кроме прочего, написан Коран, а для гигиенических целей вполне годились плоские камешки, полный ящик которых и доставили членам миссии. Под угрозой смертной казни местным жителям было запрещено разговаривать с русскими. В результате переговоры Игнатьева с ханом затянулись, не принося конкретных результатов.
Пытаясь решить вопрос, Игнатьев предложил хану подписать «обязательный акт», провозглашавший установление дружественных отношений между двумя державами, отказ от содействия грабежам русских подданных и гарантии их безопасности, а также разрешение на плавание российских судов по Амударье. Кроме этого, Игнатьев выразил пожелание иметь в Хиве российского агента, через которого хан мог бы постоянно общаться с Петербургом. От себя Игнатьев был готов взять ответные обязательства.
После долгого раздумья хан согласился на выполнение всех условий, кроме пропуска русских судов в Амударью. Дело в том, что хан Саид Мухаммад узнал, что на пароходе «Перовский», занимавшемся картографией местности вблизи города Кунграда, укрылся бежавший персидский раб. Хивинцы потребовали его выдачи, но Бутаков отказался вернуть беглеца, заплатив из своего кармана владельцу выкупные. Известие о беглом рабе вызвало созыв ханского совета, на котором было решено больше не допускать русские пароходы в реку. Впрочем, чтобы подсластить пилюлю, через несколько дней Саид Мухаммад прислал ответные подарки российскому императору.
Затем Игнатьев все-таки убедил хана открыть рынки для российских купцов. Но затем настроение хана изменилось.
Дело в том, что Саид Мухаммад перехватил посланные Катениным письма к туркменским старейшинам, в которых оренбургский генерал-губернатор нелицеприятно отозвался о хане. Теперь Саид Мухаммад пытался задержать Игнатьева у себя как можно дольше, чтобы в случае чего иметь ценного заложника в выяснении отношений с Россией, и поэтому затягивал переговоры. В особенности же хан не желал поездки русского посла в Бухару, боясь создания с тамошним ханом военного союза против себя. Всеми силами Игнатьева убеждали возвращаться обратно в Россию.
В конце концов, встревоженный поведением хивинского хана генерал-губернатор Катенин велел задержать в Оренбурге торговые караваны из Хивы до получения известий о благополучном отъезде посольства. После этого русская миссия все же отправилась в Бухару.
Это надо было сделать хотя бы потому, что стало известно – афганский эмир Дост Мухаммад, примирившись с англичанами, требует от эмира Бухары передать ему город Карши. «Эмир таким требованием, – сообщал в Петербург Катенин, – поставлен в самое затруднительное положение, не знает, что ответить послам». Поэтому появление в именно в этот момент в Бухаре русского посольства могло повлиять на решение эмира Насруллы в наших интересах.
Не дав Игнатьеву прощальной аудиенции, Саид Мухаммад демонстративно уехал в загородный дворец. Таким образом, миссия в Хиву окончилась неудачей. При этом разгневанный хан все же отомстил Игнатьеву, натравив в дороге на миссию несколько разбойничьих туркменских шаек. Впрочем, польза от поездки в Хиву все равно была. За время пребывания в Хиве наши офицеры собрали всю необходимую информацию о состоянии местной армии, городских укреплений и финансах ханства.
* * *
Итак, в сентябре 1858 года отбиваясь от разбойников-туркменов, посольство Игнатьева двинулось по правому берегу Амударьи в Бухарское ханство.
В конце месяца миссия благополучно прибыла в Бухару. Эмир Насрулла, как мы уже знаем, в то время вел войну с Кокандским ханством и отсутствовал в столице, поэтому переговоры велись с его наместником. Требования Игнатьева сводились, как и в Хиве, к уменьшению таможенных пошлин и ограждению русских купцов от местного чиновничьего произвола, разрешению на нахождение в Бухаре торгового агента, предоставлению нашим купцам отдельного караван-сарая, а также разрешению свободного плавания судов России по Амударье и освобождению русских рабов.
– Увы, столь важные вопросы я не могу решать без своего повелителя, – развел руками наместник, выслушав Игнатьева. – Придется набраться терпения и подождать его возвращения.
– Так мы можем ждать до еропкиных заговений, покуда он навоюются! – мрачно констатировал штабс-капитан Салацкий.
– Как будто у нас есть какой-то другой выход, – покачал головой Игнатьев. – Не будем предаваться унынию, а займемся лучше сбором информации!
К счастью, вскоре война действительно завершилась, и в середине октября эмир Насрулла вернулся в Бухару.
Правителем Насрулла был жестоким. Шестнадцать лет назад, без долгих раздумий, он велел отрубить головы двум английским офицерам-разведчикам Конолли и Стоддарту. Возраст отнюдь не смягчил нрав эмира. Когда незадолго до визита Игнатьева недовольство Насруллы вызвал его начальник артиллерии, эмир лично разрубил его топором пополам.
Но наряду с патологической жестокостью Насрулла был дальновидным политиком. В тот момент ему был выгоден союз с Россией, дабы предупредить ее возможный союз с вражеским Кокандом. Доволен был Насрулла, узнав о неудачной миссии русских в недружественную ему Хиву. Поэтому Игнатьев был после возвращения эмира принят незамедлительно. Во время встречи Насрулла был подчеркнуто предупредителен и тут же подписал письменное согласие на все предложения российского посла. Что касается свободного плавания по Амударье российских судов, то в случае противодействия хивинцев (река протекала по обоим ханствам) Насрулла согласился действовать вместе с русскими. Тогда же было учреждено и наше торговое агентство. В довершение всего Насрулла освободил и русских рабов. Это был несомненный успех, о котором англичане не смели и мечтать. Воспользовавшись благоприятной обстановкой, Игнатьев лихо отклонил просьбы бухарских купцов о предоставлении торговых льгот в России и умолчал об уступках ханству, которые были предусмотрены данной ему инструкцией.
Впрочем, от проницательного Игнатьева не ускользнуло желание Насруллы поддерживать определенные торгово-политические отношения с Англией. Поэтому в беседах с сановниками и чиновниками наш посол настойчиво убеждал их не верить коварным англичанам, которые обязательно обманут.
– Я лишь напомню о последствиях английской политики для Индии, где десятки миллионов жителей превращены в бесправных рабов, о бесчинствах англичан в Афганистане, о поставках оружия Коканду, о войнах с Персией и Китаем. Все это противоречит словесным заявлениям Лондона о его миролюбии в Азии.
Слушая русского посла, сановники с чиновниками лишь печально кивали чалмами и закатывали к небу глаза, давая понять, что тоже не любят вероломных англичан.
Настойчиво Игнатьев обрабатывал и самого Насруллу. Особую тревогу у эмира вызвало сообщение Игнатьева о кознях англичан по созданию военного союза Коканда и Хивы. Такой союз представлял бы огромную угрозу для Бухары.
– Проклятое племя! – потряс кулаками Насрулла. – Я выкорчую инглизов, как сорняк с виноградного поля!
– Ваше величество, в этом я готов оказать вам свое содействие! – быстро сориентировался Игнатьев, доставая из кармана список всей английской агентуры, которую раздобыл еще в Лондоне.
Буквально на следующий день взбешенный Насрулла изгнал из эмирата всех английских агентов.
– Я уверен, что англичане снова попытаются вас обмануть, прислав своих послов! – продолжил закреплять успех Игнатьев во время очередной аудиенции.
– Отныне я не намерен даже слышать об их послах! – заявил Насрулла. – А буду иметь дело только с Россией!
Как говорится, дело было сделано… Но у эмира Бухары были и свои планы.
– Не будем останавливаться на полумерах! – заявил он Игнатьеву во время следующей встречи. – Нам следует сообща устранить препятствия со стороны дикой Хивы и заблаговременно договориться о ее разделе. Часть земель заберете вы, а часть – мы!
Решение столь серьезного вопроса не входило в полномочия Игнатьева, и он вежливо отклонил предложение эмира, пообещав, что напишет об интересном предложении в Петербург.
В завершение переговоров эмир дал согласие направить в Петербург с ответным визитом своего посла.
– Я хотел, чтобы мой посол возвратился в эмират через Арал и Амударью на русском пароходе. Пусть это продемонстрирует Хиве и Коканду прочность нашей дружбы!
Разумеется, Игнатьев прекрасно понимал, что обещания эмира – это всего лишь обещания и едва исчезнет кокандская угроза, Насрулла вряд ли будет выполнять большинство подписанных пунктов. Тем не менее большего выжать из ситуации было уже просто невозможно.
31 октября посольство Игнатьева двинулось в обратный путь по направлению к форту № 1 на Сырдарье, куда прибыло 26 ноября. В декабре члены миссии достигли Оренбурга, где многие считали их уже погибшими. Там Игнатьев узнал о присвоении ему чина генерал-майора и награждении орденом Анны 2-й степени с короной. Таким образом, он стал самым молодым генералом в России.
* * *
Если экспедиция в Хиве закончилась неудачей, то миссия в Бухару, наоборот, завершилась весьма выгодным договором. Помимо этого, пребывание миссии в ханствах дало возможность глубже изучить ситуацию в Средней Азии, получить информацию о развитии экономики, расстановке политических сил, режимах правления. Посольство Игнатьева сумело нанести серьезный удар по английской агентуре, вычистив от нее на время Бухару. Миссия имела еще и определенное научное значение.
«Сведения, добытые нашей экспедицией, – писал Игнатьев, – способствовали установлению более правильного взгляда на значение и основу власти… и в особенности на то положение, которое мы должны и можем занимать в Средней Азии». В то же время Игнатьев не верил в прочность подписанного русско-бухарского соглашения. Нестабильность обстановки в Средней Азии убедила его в необходимости перехода от дипломатических методов к военным. Игнатьев считал, что экспедиции в Среднюю Азию – «напрасная трата денег, которые могут быть употреблены для достижения той же цели, но иным образом». В своем отчете о миссии Игнатьев предложил немедленно аннексировать азиатские ханства, пока этого не сделали англичане.
На отчете Игнатьева император Александр II оставил такую резолюцию: «Он действовал умно и ловко и достиг большего, чем мы могли ожидать».
В целом миссия Игнатьева убедила императора Александра II в невозможности мирного установления российского влияния в регионе и стала важным аргументом в поддержку силовых методов. Скоро, очень скоро начнется стремительное наступление российских войск в глубь Средней Азии.
Домой молодой посол возвращался, сидя верхом на слоне, которого бухарский эмир подарил русскому царю. Впоследствии слона передадут в Московский зоопарк. На северном берегу Арала Игнатьев встретил фельдъегеря с приказом императора: оставить посольский караван и срочно спешить в Петербург. В этой спешной скачке по степи Игнатьев едва не погиб, обморозив лицо и руки в снежном буране.
На тексте доклада, поданного Игнатьевым, император Александр II собственноручно начертал: «Надобно отдать должное генерал-майору: он действовал умно и ловко и большего достиг, чем мы могли ожидать».