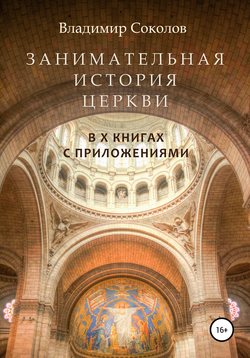Читать книгу Занимательная история Церкви - Владимир Соколов - Страница 41
Книга II. Кровь мучеников – семена Церкви
Глава первая. Империя против Церкви
Свидетели
ОглавлениеНа римские гонения Церковь ответила явлением мученичества. Мученик, по-гречески µàptos, значит «свидетель», то же, что арабское «шахид». В отличие от мусульманства, в «шахидстве» христиан не было никакой агрессивности: быть свидетелем для христиан означало только не отрекаться от Христа, несмотря на пытки, страдания и смерть. За все время преследований со стороны Рима не было ни одного случая, когда христиане попытались бы сопротивляться силой. Они не устраивали восстаний, не защищали свои дома и семьи с оружием в руках, не вредили исподтишка властям, не пытались мстить за своих родных и близких. Нас уничтожают и пытают, писал Тертуллитан, так неужели мы не могли бы хотя бы поджечь ваши дома? «Но не дай Бог, чтобы божественная религия употребила когда-нибудь человеческие средства к отмщению за себя».
Христиан часто обвиняли в фанатизме, но если мы посмотрим на то, как умирали мученики, то не обнаружим ничего похожего на фанатизм. В этих людях видны скорей достоинство, спокойствие, даже рассудительность. Излишнее рвение к мученичеству осуждалось Церковью. Во время гонений в Смирне среди верующих нашелся всего один отступник – некий Квинт из Фригии. Поначалу он с таким рвением стремился к мученичеству, что добровольно отдал себя в руки палачей, но когда дело дошло до «львиных пастей», смутился, согласился отречься от Христа и поклонился идолам. Церковь Смирны осудила его не только за вероотступничество, но и за излишнюю горячность, которая не подтверждалась Евангелием и противоречила поведению самого Христа. Христианин не должен сам спешить на казнь – он должен засвидетельствовать свою веру, если его о ней спрашивают.
Впрочем, нередко пример других мучеников был настолько заразителен, что верующий не мог перед ним устоять и сам обрекал себя на казнь. Вот характерная сценка из жизни римского общества того времени. Жена требует развода, потому что ее муж предается беспробудному разврату. В ответ муж обвиняет ее в том, что она христианка, а заодно доносит и на ее учителя по имени Птолемей. Птолемея вызывают в суд, и префект про имени Урбик спрашивает: «Ты христианин?» «Да». «Казнить». Стоящий рядом Луций возмущается: нельзя же осуждать на смерть человека только что за то, что он христианин! Урбик спрашивает: «А ты христианин?» «Да». «Казнить». Тут подходит кто-то третий, безымянный, и уже сам говорит, что он тоже христианин. Его присоединяют к двум первым и казнят.
В самих мучениях, которые сейчас потрясают своей жестокостью, для римлян не было ничего необычного. Так тогда пытали всех преступников и подозреваемых. Показания рабов, даже ни в чем не виновных, принимались только после пытки, чтобы «развязать язык». Римлян не восхищала стойкость мучеников и не убеждало их мужество. В то время процветала вера в сверхъестественные силы, в колдовство. Они считали, что мученики – это искусные маги, которые натираются какими-то мазями, избавляющими их от страданий. Во избежание таких магических фокусов христиан перед казнью обливали мочой. Христиан вообще подозревали в магии и наказывали именно так, как было принято наказывать магов: их распинали на кресте, сжигали или отдавали на съедение зверям.
Для самих христиан мученичество не всегда было стопроцентным доказательством веры. Скончавшийся в муках еретик оставался еретиком, даже если исповедовал Христа. «Есть много мучеников и в других ересях, – писал Аполлинарий Иерпольский, – но мы по этой причине не придем с ними в согласие и не сочтем их обладателями истины». Если перед казнью православные мученики оказывались в одной камере с мучениками-еретиками, то должны были держаться обособленно и умирать, не вступая с ними в общение. Впрочем, вряд ли такое разделение всегда соблюдалось на деле. В Лионе среди заключенных-христиан был монтанист Алкивиад, отличавшийся суровым аскетизмом: на свободе он питался только водой и хлебом и продолжал придерживаться этого правила и в тюрьме. Никакого отчуждения и вражды с другими исповедниками у него не было: православный Аттал упрекнул его только в том, что он соблазняет других, отвергая пищу, созданную Богом. Алкивиад внял этим словам и стал есть все подряд, не разбирая.