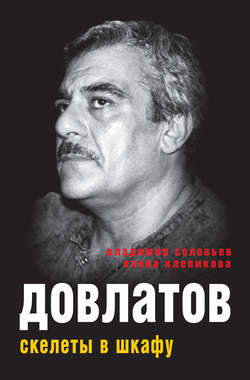Читать книгу Довлатов. Скелеты в шкафу - Владимир Соловьев - Страница 5
Раздел 1. Соседство по жизни
Владимир Соловьев. Скелеты в шкафу
Соло на автоответчике
ОглавлениеВернувшись однажды домой и прослушав записи на автоответчике, я нажал не на ту кнопку, и комната огласилась голосами мертвецов: мама, друг и переводчик Гай Дэниелс, наш спонсор, журналист из «Нью-Йорк таймс» Харрисон Солсбери, писатель Ирвинг Хау, который печатал нас с Леной Клепиковой в своем журнале «Диссент» – в том числе статью, на которую разобиделся наш герой и вступил в печатную полемику, обозвав «шустрой парой», но и наша статья не скажу что была названа безобидно: «Александр Солженицын. Шильонский узник». Больше всего, однако, оказалось записей с голосом моего соседа Сережи Довлатова – минут на двадцать, наверное. Все, что сохранилось, потому что поверх большинства старых записей – новые. Все равно что палимпсест – новая рукопись поверх смытого или соскобленного текста, ввиду дороговизны пергамента. А что экономил я? Нет чтобы вставить новую кассету, а не использовать старую! Тогда довлатовских записей было бы на порядок больше. И все равно, странное было ощущение от голосов мертвецов, макабр какой-то, что-то потустороннее, словно на машине времени марки «Автоответчик» перенесся в Элизиум. Как в том анекдоте про кладбище, где, «знаешь, все мертвые». Или – переводя в высокий регистр – действительно, как в стихотворении Марии Петровых: «Я получала письма из-за гроба». Так я стал получать весточки с того света на автоответчике.
На фоне большей частью деловых сообщений довлатовские «мемо» выделялись интонационно и стилистически, были изящными и остроумными. Голос всегда взволнованный, животрепещущий (иначе не скажешь), слегка вальяжный, учтивый и приязненный. В отличие от писателей, которые идеально укладываются в свои книги либо скупятся проявлять себя в иных ипостасях, по-кавказски щедрый Довлатов – даром что наполовину армянин – был универсально талантлив, то есть не экономил себя на литературу, а вкладывал божий дар в любые мелочи, будь то журналистика, письма, разговоры, кулинария либо ювелирка, которую он время от времени кустарил (даже ходил здесь на какие-то курсы, с отчаяния решив сменить профессию). У меня есть знакомые, которые до сих пор стесняются говорить на автоответчик. Довлатов как раз не только освоил этот телефоножанр, но использовал его, рискну сказать, для стилистического самовыражения. А стиль, прошу прощения за банал, и есть человек. Его реплики и сообщения на моем автоответчике сродни его записным книжкам – тоже жанр, пусть не совсем литературный, но несомненно – на литературном подворье.
Да хоть в литературной подворотне!
Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда…
А что, проза исключение? Налево берет и направо…
Нигде не служа и будучи надомниками, мы, конечно, чаще болтали по телефону либо прогуливались по 108-й улице, главной иммигрантской артерии Куинса, чем отмечались друг у друга на автоответчиках. Тем более на ответчике особо не разгуляешься – этот жанр краток и информативен. Но Довлатов и в прозе был миниатюристом – отсюда небольшой размер его нью-йоркских книжек и скрупулезная выписанность деталей. Если краткость – сестра таланта, то его таланту краткость была не только сестрой, но также женой, любовницей, мамой и дочкой. Касалось это в том числе его устных рассказов – из трех блестящих, чистой пробы, рассказчиков, на которых мне повезло в жизни (плюс нью-йоркский журналист Саша Грант, но я его узнал позднее), Довлатов был самым лаконичным.
Любопытно, что другим так и не удалось переиначить свои изустные новеллы в письменную форму. Вынужден вариативно повторить, о чем писал в моем романе с памятью «Записки скорпиона». Женя Рейн – импровизатор и трепач, а потому органически не способен не то что записать, но даже повторить свою собственную историю: каждый раз она звучит наново, с пропусками, добавлениями, ответвлениями. Камил Икрамов, который вывез свои байки из тюрем и лагерей, где провел двенадцать лет как сын расстрелянного Сталиным партийного лидера Узбекистана, собирал нас в Коктебеле в кружок, сам садился посередке в неизменной своей тюбетейке, скрестив по-среднеазиатски ноги, и Окуджава, Слуцкий, Чухонцев, Искандер, которые слышали его устные новеллы по многу раз, просто называли сюжеты – скажем, про лагерных б****й или про советский паспорт, – и Камил выполнял заказ, рассказывая свои жуткие и невероятно смешные истории. Он был профессиональный литератор, выпустил несколько книг, написал замечательный комментарий к делу своего отца, но когда я спросил у него, почему он не запишет свои устные новеллы, Камил печально развел руками: пытался много раз, ничего не получается.
В отличие от них, Довлатову удалось перевести свои устные миниатюры в письменную форму, но это вовсе не значит, что устный рассказчик в нем превосходил письменного, что он «исполнял свои истории лучше, чем писал», как пытаются теперь представить некоторые его знакомцы, засталбливая тем самым свое одинокое превосходство над миллионами довлатовских читателей. К счастью, не так. Довлатов был насквозь литературным человеком, никак не импровизатором, и «исполнял» обычно рассказы и хохмы уже отлитыми в литературную форму, отрепетированными и литературно апробированными, хоть и не записанными. Свидетельствую как человек, прослушавший сотни Сережиных шуток и острот, некоторые дважды, трижды – он их именно исполнял: без вариаций, один к одному. Его устные рассказы были литературными – в том числе те, что не стали, не успели стать литературой у этого литературного меркантила и user’а. В моем двухчасовом фильме «Мой сосед Сережа Довлатов» герой показан живьем – он выдает перед камерой пару-тройку своих блестящих баек и сам им смеется, прикрывая рукой рот. Пусть ненаписанные и даже незаписанные, но по своей законченной литературной форме они так и просятся на бумагу.
Как-то звоню Лене Довлатовой и спрашиваю, вошла ли в «Записные книжки» история про художника Натана Альтмана, которую я слышал в классном Сережином исполнении. Мало того что нигде не опубликована, но даже Лена ее позабыла. Как же, говорю, жена престарелого мэтра прилюдно упрекает его:
– Ты меня больше не хочешь.
– Я не хочу тебя хотеть, – парирует Альтман.
Было, не было, но оправдательная формула импотенции – гениальная. Вот только кто автор, не знаю – Альтман или Довлатов?
И сколько таких забытых историй, не вошедших в Сережины книги![1]
Из таких именно приколов и реприз и состоят обе части его «Записных книжек», которые он, в нарушение литературных правил, торопился издать прижизненно, словно предчувствуя близкий конец, хотя это, конечно, отстойник либо подкормка литературы. Чуткий к техническим веяниям времени, он назвал одну, ленинградскую, – «Соло на ундервуде», а другую, нью-йоркскую, – «Соло на IBM», хотя на электронной машинке работала Лена Довлатова, а Сережа предпочитал стучать на ручной, и как раз «ундервуда» у него никакого не было.
Вернувшись из армии, он приобрел «Ройал Континенталь» и прозвал за красоту «Мэрилин Монро», хоть это была огромная, под стать ему самому, машинка с длиннющей многофункциональной кареткой. Сережа грохнул эту чугунную махину об пол во время семейного скандала, а вышедшую из ее чрева рукопись разорвал и покидал в печь с зелеными изразцами, главную достопримечательность его комнаты в коммуналке на Рубинштейна, но Лена Довлатова героически кинулась спасать, обжигая руки.
Еще одну иностранку – «Олимпию» – подарил ему отец Донат, а тому прислал Леопольд, родственник из Бельгии, но и ее постигла схожая судьба – уже в пересылочной Вене пришедший в гости Юз Алешковский неловким движением смахнул машинку на пол. В Нью-Йорке оказалось дешевле купить новую – «Адлер», которая до сих пор стоит на мемориальном письменном столе, – чем чинить подранка.
Такова природа художественного домысливания Довлатова: вместо «Континенталя», «Олимпии» и «Адлера» соло были им будто бы сыграны на старомодном, времен Очакова и покоренья Крыма «ундервуде» и ультрасовременной IBM – какой контраст! Так вот, если б у других его приятелей, друзей и врагов, сохранились записи Довлатова на автоответчике, можно было бы, уверен, составить третью часть его записных книжек, снабдив его телефонные реплики соответствующим комментарием и назвав «Соло на автоответчике».
А пока что вот некоторые из его телефонограмм, которые воспроизвожу вместе с междометиями, вводными словами, неизбежными в устной речи, а тем более, когда общаться приходится не с живым человеком, а с автоматом. Зато ручаюсь за подлинность: слово в слово, – ведь ничто так не искажают (поневоле и сознательно) мемуаристы, как именно прямую речь.
Володя, привет. Это Довлатов. У меня, к сожалению, есть к вам просьба, и я бы даже с некоторым ужасом сказал, что довольно обременительная. (Смешок.) Я ее вам потом, когда вас застану, выражу. Ага. Но тем не менее не пугайтесь, все-таки ничего страшного. Всех приветствую и обнимаю.
И в самом деле, это была пустяковая просьба. У Довлатова вышла из строя старая машина, он купил новую (хотя тоже старую) – вот его и надо было прокатить по Нортерн-бульвару к дилеру, а потом на Джамайку, к прежнему владельцу, что я с удовольствием сделал, тем более был у него в машинном долгу: он освоил вождение на несколько месяцев раньше меня и давал мне уроки на той самой машине, что сломалась. Эти уроки я бы объяснил не только его альтруизмом, а еще и желанием лишний раз пообщаться, но какой собеседник из начинающего водителя! Я не оправдал его ожиданий: вцеплялся в руль и больше жал на тормоз, чем на газ, раздражая Сережу своей неконтактностью и медленной ездой.
– Может, выйдем и будем толкать машину сзади? – в отчаянии предложил он.
А потом всем рассказывал, как, делая разворот на его машине, я врезался в запаркованный «роллс-ройс», сильно его повредив, и как потом мы спасались бегством от греха подальше. Это, конечно, преувеличение. Никаких «роллс-ройсов» у нас в районе не водится: Форест-Хиллс – не Москва, где их сейчас, говорят, навалом! Но какая-то машина действительно попалась на моем пути, и при моем водительском невежестве мне было ну никак с ней не разминуться. Здесь как раз секрет Сережиного искусства рассказчика, его литературных мистификаций и лжедокументализма: он не пересказывал реальность, а переписывал ее наново, смещал, искажал, перевирал, усиливал, творчески преображал. Создавал художественный фальшак, которому суждено было перечеркнуть жизнь. Это как в той знаменитой истории, когда Пикассо после многих сеансов заканчивает портрет Гертруды Стайн, а она недовольна, что вышла непохоже. «Будешь похожа!» – говорит Пикассо. И в самом деле, для нас, потомков, Гертруда Стайн теперь такая, как ее изобразил Пикассо.
Так вот, кому из Сережиных слушателей было бы интересно узнать, как я, грубо разворачиваясь, слегка задел жалкий какой-нибудь «бьюик» или «олдсмобил»! Вот оказия – попал в историю! Так и запомнюсь потомках, как крушитель «роллс-ройсов»! Спасибо, Сережа, удружил!
1
См. его оральные рассказы в главе «Tutto nel mondo e burla! Довлатов на проходах».