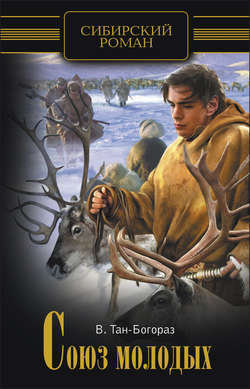Читать книгу Союз молодых - Владимир Тан-Богораз - Страница 3
Часть вторая
Викеша казачонок
ОглавлениеI
– Леший, а леший, возьми этого мальчишку!
Бабушка Натаха, сверкая безумными глазами, выбежала на улицу и взывает к темному, седому лесу, кстати же лес начинается: у самого крыльца. Руки протянула вперед, волосья раскосматила – ведьма-ведьмой…
Викеша немного отбежал, стал на четвереньки, как собака, и ждет, что будет. А сам, между прочим, зудит тоненько, назойливо, как тощий комарик:
– Баба, йисть!
– Ох, йисть просит! – взывает Натаха еще яростнее прежнего. – А у меня нет еды!..
Она хватается руками за растрепанные волосы и рвет их, как кудель. Выдранные волос за волосом улетают по ветру.
– О-о! – воет Натаха. – Дука, дочь, куда ты ушла, на кого нас покинула?..
Воет Натаха, а Викеша подвывает, как маленький волчонок. Дука – это его покойная мать. В прошлую зиму она уехала на устье реки Колымы за нерпями-тюленями, да так и не вернулась с промысла.
Много оставил богатства Викентий Русак своей белой очелинке, когда уезжал на родину: сетей на вешалах, и одежи в сундуках, и муки в парусиновых мешках, собственную упряжку собак из города вернул, сам уехал на сменных, на почтовых. Да одного не оставил Викентий Русак – веселой удачи и легкости, увез свой талант на родину, в далекую Русь, оставил и Дуку и мальчика Викешу в добычу зубастому «уросу».
«Урос», «урок» – это дух неудачи. Он прячется в лесу под корнями и в болоте под пнями и кидается встречным на шею, выедая у них счастье.
О нем стародавние песни поют:
А и горе, горе-гореваньице,
Айв горе жить, не кручинну быть,
Не кручинну быть, не стыдитися…
Но трудно человеку не стыдиться, не кручиниться под игом жестокого лесного оборотня.
Как уехал Викентий Авилов, с того же дня стали Наташонки хиреть и сохнуть, словно бы их подменили.
Сутки пролежала Ружейная Дука в избе, как без памяти. Сестры постучали, перестали. Натаха велела: «Отстаньте!»
Потом выползла Дука наружу, вскинула ружье, крикнула Кровоеда, любимую собаку уехавшего мужа, и ушла в лес. Ходила день и ночь. Слыхали домашние выстрел, только один. А потом воротилась из лесу и чудно: принесла за спиною звериную тушку, не волка, не лисицу, а эту самую собаку Кровоеда.
Ахнула Натаха: «Почто?..»
Собака-то была дорогая.
– Так! – отозвалась Дука и стала обдирать шкуру. Ободрала, слегка просушила и постлала на постель, в собственные изголовья.
За эти две трудные ночи Дука словно постарела. Даже щеки у ней ввалились, и волосы стали жидкие и пестрые, как у сорокалетней.
Нужно было, однако, жить, работать. В первобытных условиях жизни действует основной закон: «Не-трудящийся не ест». Но дело валилось у Дуки из рук. К матери она не вернулась и осталась в Викентьевой стройке. Работать норовила одна, без сестер. Поедет по дрова на собаках, вынет топор, к лесине подойдет и станет, стоит. Словно забыла что.
А в голове долбит одно: «Бросил, забыл!»
Бабушка Натаха смотрела озабоченно и затеяла вдруг заклинать Викентия с ножа, как это водится у колымских присушных мастериц. Нож отрезает присуху и отделяет ненужную любовь.
Для своего заклятия старуха утащила у дочери старый набедренный ножик, оставленный Викентием. Но только что поставила Натаха нож острием на запад и стала выкликать подходящие слова: «Заря-зареница, ясная девица, заря ночная, заря вечерняя, отрежь молодца от сердца, от ума, от печени, от жалости»… – как вдруг выскочила Дука из избы и отняла нож и при этом второпях больно толкнула Натаху.
– Как? Мать! – крикнула Натаха с изумлением.
– Какая ты мать! – запальчиво крикнула Дука. – Ты…
На Колыме господствовал натуральный словарь, и вещи назывались попросту, настоящими именами.
Не могла стерпеть Дука, чтобы отрезали от нее Викентия, даже в пустом воздухе, и невзирая на то что Викентий отрезался сам.
Подравшись с матерью, стала Дука на бегучие лыжи и с верным ружьем и своей собственной сучкой, Губанькой, побежала в лес.
Бежала весь день до ночи, скатываясь с длинных тянигусов (косогоров), выбегала на лысины голых бугров, ныряла в крутые овраги, продиралась в чащиннике, не хуже лосихи с железными ногами. И к вечеру на речке Березовой и густой непроходимой чаще, в яру под ручьем Муруданом, отыскала Ружейная Дука новое чудо. Лиственница, стоявшая пред яром, заиндевела, как будто от дыхания, и вся разувесилась длинными бородами пушистых стеклянистых нитей.
Дука поняла, что под яром в глубине есть кто-то большой, дышущий.
«Медведь! – подумала Дука. – Тебя-то и искала». Спящего в берлоге медведя поречане не тревожат, особенно один на один. Но Дука в этот день была опаснее медведя.
Она дернула из-за пояса свой маленький топорик, без которого северный охотник не выходит из дому, выбрала мохнатую лесину и в несколько ловких ударов свалила ее на снег. Потом поднесла ее к берлоге и дерзко сунула в глубь, в темноту. Послышалось рычание, сперва тихое, словно спросонья, потом громче, сердитее.
Сучья затрещали, и из берлоги показалась голова, увенчанная жесткой зеленой хвоей. Медведь оцарапал себе морду сучьями и был в прескверном настроении. Но Дука не оробела.
– Выходи! – позвала она его. – Мужичина лесной, башка толстолобая!..
Медведь выскочил из ямы с неожиданной силой и мягкостью. Потом подумал и встал на задние лапы. Еще подумал и пошел, переваливаясь, навстречу непрошеной гостье.
– Принимай гостей, – усмехнулась Дука, – брошенную бабу.
Была такая старая сказка, где жена, брошенная мужем-человеком, ушла к медведю и прижила с ним дитя: полтела медведь, полтела человек.
Медведь продолжал подходить. Дука видела его красные бегающие глазки, видела каждый волосок жестких коротких ресниц. И также сразу она подхватила ружье, приложилась, пальнула. И медведь упал, как пораженный громом. Прямо в сердце угодила меткая острая пулька.
– Что, взял? – сказала Дука. Она подошла, не дожидаясь, пока медведь перестанет дергаться, и поставила ногу на еще живое тело.
– Всех бы вас так!
Это относилось не к медведю, а к мужчине. Лесной мужичина поплатился за бегство Авилова.
И тут ощутила Дука, что ей стало легче. Черная кровь, вытекшая из чужого сердца, как будто отворила ее собственное сердце, запечатанное горем… Из брошенной мужней жены она стала опять Ружейною Дукой, вольной лесной охотницей.
После того жизнь Дуки потекла, как три года назад, когда еще не было Викентия Авилова на заимке Веселой. Она выметывала сети на нельму и чира, ставила хитрые ловушки: пасть на лисицу, плашку на зайца, черкан – на горностая, лук-самострел – на оленя и лося. Да мало ли еще…
Было ей вначале трудно. Она привыкла в три года жить за широкой спиной и крепкими руками Русака, а теперь приходилось опять работать за двоих. Но Дука справилась.
Соседи присматривались к ней и дали ей новое прозвище в придачу к прежнему – Мужик-Баба. Дука действительно ворочала за бабу и за мужика. Впрочем, она так и осталась нелюдимой, с сестрами не говорила, а только отвечала на вопросы: «да», «нет», «возьми».
Мальчика она держала при себе и ходила за ним, как умела. Ночью придет из лесу, сварит, поест и мальчика накормит.
В те дни, как уехал Викентий Авилов, Дука сразу потеряла молоко и поневоле приходилось кормить мальчишку мясом. Впрочем, Викеша к мясу относился, как волчонок. На втором году у него был полон рот зубов. И в этом Дука отошла от своих соседок, которые кормили грудью детей до трех лет и дольше.
Покормит ребенка и положит с собою в постель. В изголовьях шкура Кровоеда, занапрасно убитой собаки, шкура медведя на полу. И начнет Дука разговаривать.
– Викентий! – плакала она громко, в голос. – Вернись! Куда ты ушел? Кровоед, кровь мою выпил! Мохнатое сердце!
Она как будто смешивала воедино убитого кобеля с бежавшим мужем.
– Собака, другую завел!
Глаза ее гневно сверкали, и она готова была сдернуть топорик с крюка и выскочить за дверь на поиски дальней соперницы. Долго потом помнил Викеша простоволосую мать свою с ее слезами и диким болезненным криком.
– Мохнатое сердце твое, желчь твоя медвежья! – бранила Дука отсутствующего мужа.
– И ты тоже, волчонок, медвежонок! – обращалась она к сыну. – Русская собака! Сердце мое дорогое!
И она хватала сынишку и душила его поцелуями.
Так шло год и два, а потом Дука утихла. Но мальчик рано начал понимать и разговаривать. Дука разговаривала с ним по вечерам, но более спокойно, и все об отце.
– Русак твой отец, из далекой земли. Пришел, забрал! Не сгодились мы ему. Бросил, утек! Как пришел, так и ушел, как летнее солнце. Русский орел, осилок. Нету другого такого и не будет никогда. Твердое сердце у него, как витое железо. Не здешнего корня, не ровня колымскому народу. Злое сердце. Руки кровяные, убойные.
– Ты тоже русак! – говорила она сыну. – Ты другой такой, Викентий ты, Авилов.
II
И вправду, не только именем, но и всем обликом, и соколиным глазом, и гордой посадкой головы Викентий был весь в чужеродного отца. Но и теперь уже можно было разобрать, что не будет он столь грузен, и выйдет он более тонкий и более гибкий, не лось, а олень. Густое кровяное пиво злого русака смешалось с медовой брагой от вольной лесной пчелки и двойным букетом ударило в голову мальчику Викеше.
Так рос мальчик из года в год, оторвался от маминой сиськи и от маминой юбки и вышел на улицу, т. е. в глухой непроходимый лес, начинающийся от порога избы.
Северные люди телом вырастают медленно, а душою быстро. Ибо в условиях Севера детства почти не бывает. Человеческий детеныш – это двуногий звереныш. И так же точно, как звереныш четвероногий, он научается рано терпению, и хитрости, и голоду, и также убийству. Убийство – это промысел. Если не убьешь, не поснедаешь. И недаром чукотская сказка рассказывает твердо установленными типичными словами: «Сделал себе (мальчик) лук и маленькую стрелку. В первый день убил трясогузку, зажарил, съел. Во второй день убил куропатку, зажарил, съел. В третий день убил гуся, в четвертый день – лебедя, в пятый день – оленя, в шестой день – тюленя. В седьмой день стал убивать всякую живую тварь, сделался великим промышленником, кормил целый поселок, оброс и обложился запасами».
Таким же ранним охотником сделался Викеша Казачонок и так же переходил от малого к большому, умножая и разнообразя добычу.
Шести лет отроду он принес матери первую куропатку, пойманную в силок. Куропатка была живая, так как он и не подумал свернуть ей шею. Впрочем, куропатка замерла от страха и лежала в руке его смирно.
Викеша поднес ее матери и потом ее же упросил не убивать куропатку, а выпустить ее.
– На! – сказала Ружейная Дука. – Пускай летит!
Куропатка охромела от силка. Хромая, пошла по дорожке и нырнула в ерничные[13] заросли, только и видели ее. После того жители нередко встречали ее в кустах на городской площади. Даже прозвище дали ей: Аксинья Хромая. Налетных куропаток в городе было сколько угодно, но местная живая куропатка, с именем, с правами городского оседлого жителя, была в новость. У охотников рука не поднималась убить ее.
Даже собаки держались с куропаткой как бы на почве вооруженного нейтралитета: «Ты не долби меня, и я не укушу тебя!»
Рядом с куропатками и зайцами мысли мальчика постоянно были заняты отцом. Какой был отец? Русак с косматыми руками, огромный, как лесина. Русые волосы и глаза голубые или серые, как у него самого, у Викеши. Он, разумеется, не помнил отца, но представлял его себе явственно.
Мальчик нагибался порою над спокойным ручьем и словно искал в его недвижном зеркале этот загадочный образ.
Видел мальчик такого, как Викеша, прибавлял ему мысленно роста и веса, грудь расширял, привешивал к гладкому лицу пушистую бороду – выходил совсем настоящий отец, как две капли вылитый. Но в то же время, без сомнения, это был мальчик – Викеша. Образ двоился, отходил и просыпался в его собственной груди.
Он перебирал вещи Викентия Авилова, огромную парку, сапоги с подковами, похожими на конские копыта. Непонятные книги, которые не мог бы прочитать даже главный городской грамотей, Олесов Никола. Рассматривал картинки, четкие и мелкие, но понятные без слов.
– Учись! – оказала мать. – Ты от ученого кореню.
И он самоучкой просиживал над толстыми томами, тщетно стараясь подыскать себе ключ к их таинственной мудрости.
Без помощи дьячка, городского учителя, выучился Викеша русской азбуке и уже шести лет мог вычитывать из книги многое простое, крупное, прямое. Азбуку ему прочитал старый одинокий поселенец, Зотей Жареный, и тем и закончилась его грамота.
Но чаще всего Викентий разговаривал с отцом теми же сердитыми словами, подслушанными у матери.
– Оставил нас, собачья морда! – говорил он мысленно отцу. – Тебе хорошо, а нам, небось, маяться!..
– Все равно, я найду, я догоню! Не уйдешь от руки моей! Мой меч булатный прольет твою жаркую кровь! – говорил он сказочными словами, как разговаривали богатыри, украшенно и величаво.
Восемь лет было Викеше, когда мать его погибла на тюленьем промысле.
В тот год на Веселой был опять недолов рыбы, и призрак голода обрисовался над плоскими избами. Рыбаки уходили на дальные озера за чиром, охотники бродили по лесам, на поисках за лосями, но и лоси куда-то исчезли. Скудность стояла по всей реке до самого устья. Но за устьем начиналась новая ожива, охота на взморье на мелких и крупных нерпей, которые подплыли к берегам на обломках ледяных полей, прибитых к берегу северными ветрами.
Вместе с другими ушла за нерпями и Дука и на этот раз взяла расписную нарту своего русского мужа и его резвую двенадцатиголовую упряжку. Упряжку взяла, но домой не вернула и сама не вернулась.
Товарищи по ловле рассказывали: дунул хиус[14]с юго-запада, унесло ледяные поля в голомянную ширь, чуть сами не потонули. С ледники на леднику перескакивали, собак переводили бродом и почти вплавь, все же перевели. А Дука была дальше всех, и она не успела вернуться.
Вот с этого черного дня Викеша перестал думать об отце Русаке и думал о матери. Она снилась ему даже по ночам, в надледной беде, знакомой всем северным промышленникам.
Льдину откололо и вынесло в море. И собаки жмутся на закраине и воют жалобно. А Дука забила в застругу поглубже гарпун, привязала его ремнями спереди и сзади, как мачту, и сама привязалась за пояс к гарпуну, и стоит, крепко держится за эту последнюю жердь, как за якорь спасения. Волны налетают и бьют через льдину и через голову Дуки. Вся она мокрая насквозь. Одежда ее мерзнет, и Дука коченеет.
– Викеша! – зовет она холодными устами. – Мой маленький Викеша!
Она отнимает руки от жерди-гарпуна и протягивает их вперед, и будто летит, и падает, и исчезает.
Так гибнут на страшном океане морские звероловы из году в год, от весны до весны. И так погибла Викешина мать, Ружейная Дука Щербатых.
Викеша забыл ее настоящее лицо и помнил только этот странный мелькающий образ, женщину с протянутыми руками, летящую над бешеной пеной.
После Дукиной гибели Щербатые Девки совсем упали духом.
За упряжку и нарту Павел Матвеич, приезжий торговец с реки Индигирки, давал без спору три тысячи сельдей да три пуда жирной толкуши из отборных сигов, чаек, табачок. Такого запаса хватило бы безбедно до нового лета и нового промысла. Было бы и пить, и курить. Теперь не было у них ни Дуки, ни собак, ни запаса.
Урос пахнул на Щербатую девичью выть, колючая и злая неудача, от которой спасенье в бегстве. Дукины сестры, Чичирка и Липка, бросили избушку на Веселой и сплыли на устье, на низ. Они до того изменили преданиям девичьей семьи, что нашли себе мужиков настоящих, попали в пестуньи к чужому очагу. В избушке остались лишь старая да малый, Натаха и Викеша.
На зиму эти перебрались в Колымскую столицу, Середний, т. е. Средне-Колымск. Оставаться на Веселой было страшно без еды и почти без соседей. Ибо и другие весельчане разбрелись из-за голода кто куда.
Кстати же, и в Середнем у Щербатых была собственная хибарка, такая же утлая, черная, худая, точь-в-точь, как их коренное гнездо на заимке Веселой. Хибарка стояла на самом краю городка, на Голодном Конце, где ютилась городская беднота, хилые «меньшие люди».
Бабушка Натаха совсем не замечала перемены. Она бранилась и в Середнем с Викешей и с лешим, плакалась о Дуке, о своей расстроенной жизни.
III
Викеша смотрел на бабку с недоверием. Вместо еды она могла его накормить разве ожигом, длинной обожженной палкой, которою она мешала дрова в камельке.
Варить было нечего. Уже третий день котел стоял у них на полу за шестком, совершенно сухой и опрокинутый вверх дном, в знак полной пустоты и отказа от кухонной службы. Котел отказался их дальше кормить, и они, в свою очередь, отказались от него.
Натаха вернулась в избу, тяжело хлопнув западавшей дверью. Викеша стоял на дворе. Старая собака, лежавшая в снегу у порога, тускло поглядела на него, лениво подошла и вильнула хвостом.
У них остались три старых собаки, которые уже не годились для дальней езды. Викеша запрягал их в нарту-водовозку и ездил поблизости за хворостом в лес или с ушатом к проруби.
– Ястреб, хочешь йисти? – окликнул он собаку, Ястреб опустил вниз свою кудлатую голову, словно кивнул утвердительно, потом слабо лизнул в щеку своего молодого хозяина.
– Пойдем к речке, Ястреб, – предложил Викеша.
Но Ястреб вернулся на прежнее место, покружился и лег, свернувшись клубком, потом распушил хвост и покрыл себе голову. Он действовал согласно мудрому правилу: голодному сон за обед.
Мальчик пошел по улице, направляясь к речке. На дворе стоял апрель месяц. Это была странная полярная весна. Заря уже торопилась сходиться с зарею, и долгий день не имел конца, и в белую ночь розовая полоса не гасла на горизонте, а только переползала с запада на восток. И на дневном солнцепеке глубокий снег уже таял и садился. От его остеклевшей груди солнце отражалось режущим блеском. В этом блеске люди слепли и собаки бесились особым весенним бешенством. После ужасной зимы этот яркий блеск опьянял, как вино на голодный желудок. Ибо нарядная весна, белая и яркая, приводит с собой голодовку даже для зажиточных и сильных. Зимние запасы кончались, а в реках под толстым льдом еще не было рыбы, и на тундре не было дичи. Надо было ждать, потуже подтягивать пояс.
Речка Серединка, мелкая, лесная, вся в желтых омутах, впадала в Колыму. По обоим ее берегам был завязан полярный городишко. Жители рассматривали оба потока примерно как матку и дочку. И первую просто называли «река», а вторую «речка». Собственных имен не прибавляли. Они подразумевались.
На речке было тихо. Черные колья рыбной плотины торчали из-под снега. Ивовые верши стояли на косогоре в ряд, как солдаты. На низких вешалах висели невода. Легкий ветерок чуть постукивал поплавками, словно играл на огромном ксилофоне. Под косогором несколько тощих собак терзали изгнившие клочья какой-то старой шкуры. Это были живые скелеты. У них заплетались от голода ноги, и их собственная шерсть висела такими же клочьями, как на их жалкой добыче.
Избы стояли под снежными шапками, нахохлившись, как старые совы. Половина печей топилась, и над деревянными трубами, обмазанными глиной, стояли высокие дымные столбы, пронизанные искрами. Но в запахе свежего дыма не было никакой съестной струи, и ничто не щекотало ноздрей голодного мальчика.
Из дверей напротив вышел другой мальчик, по виду Викешин ровесник. Он был в черном балахоне и в шапке с ушами. Завидев Викешу, он подскочил к нему, остановился, подрыгал ножкой, как голодный воробей, и пискнул:
– Сказывай!
– Спрашивай!
– Варили?
Викеша сердито покачал головой:
– Уйди, Андрейка!
– Йисть хочу! – пискнул мальчик мимоходом и тотчас же прибавил: – Пойдем на девчонок посмотрим!
Девчонки сидели внизу под косогором, у самого берега. Они занимались странной игрой. Выкопали в песке небольшие ямки, набрали круглых камешков, похожих на яички. Каменные яйца лежали в песчаных гнездышках, а девочки сидели перед гнездышками и пели тихими и тоненькими голосами «уточку»:
– Утка, утка, утичка, утичка матерая, на яйцах сидит!
Мальчики скатились сверху, как буря, въехали ногами в утиные гнезда и разбросали каменные яйца.
– Будя! – кричал Викеша. – Давайте лучше в ворона играть.
Он совсем забыл про голод, и глаза его радостно блестели.
Девочки быстро согласились. Лика, по прозвищу Сельдятка, вертлявая девчонка, глазастая и черная, как галка, застрекотала радостно: «Я буду матка, я буду матка!»
– А я буду ворон! – говорил Викеша.
– А я кто буду? – переспросил Андрейка. – Ну я буду стрелец с луком.
Он вынул из-за пояса ножик, который поречане носят чуть не с колыбели, срезал хлыст ползучей березы, потом достал из кармана тонкий ремешок из черненой мандары, шкуры пятнистого тюленя, и согнул себе лук для своей роли стрельца. Потом выстругал стрелу. Луки на севере были в ходу даже у взрослых. Станичные казаки били из лука гусей и лебедей, как богатыри в былинах. Лук состязался с кремневым ружьем, ибо стрелы ничего не стоили, а порох и свинец приходилось покупать у купцов за дорогую цену
– Ворона, ворона! – кричали девчонки. Они столпились все вместе, изображая гусенят.
– Ворон, ворон, что ты делаешь? – спрашивала матка, прикрывая гусенят руками, как крыльями.
– Землю копаю.
– Зачем копаешь?
– Камушки ищу.
– Зачем камушки?
– Ногти точить.
– Зачем точить?
– Твоих деток царапать!
– У ворона глазки жадненьки! – крикнули гусенята и бросились врассыпную.
Ворон ринулся вдогонку, но стрелок пустил в него стрелу и попал ему в бок.
– Умер, умер! – кричал Андрейка. Но ворон, не обращая внимания на собственную смерть, догнал самого маленького гусенка, Аленку Романцеву, которая еле ковыляла на коротеньких ножках, и зарылся своим острым носом в ее мохнатый балахон.
Девочки бросились на выручку, да остановились, не добежав.
– Девушки, йисть хотца! – раздалось, как припев, и руки у всех упали.
Только ворон не унимался и немилосердно теребил несчастного птенца.
– Кусается! – раздался писк и плач пятилетней Аленки.
Девочки бросились на выручку и стали щипать хищника так же крепко и бесцеремонно, как щиплются настоящие гуси.
Началась свалка. Аленка вывернулась и с плачем побежала. Показалось Викешино лицо, красное, свирепое, с дикими глазами. Он, кажется, и впрямь вообразил себя вороном, жестоким людоедом.
Девочки, запыхавшись, сели рядом на длинном бревне.
– Давайте сказки сказывать! – предложила Фенька Готовая.
Сказок на Колыме было великое множество. Тут попадались русские, чукотские, якутские, тунгусские и даже американские индейские сказки, которые переплывали Берингово море вместе с китоловами и спиртовозами из Сиэтла и Сан-Франциско. Ребятишки и сами умели сочинять и даже устраивали состязания, кто скорее и лучше расскажет. Но самые лучшие сказки знала Машуха Березкина, короткая широкая девчонка, как будто выпиленная из сосновой доски.
– Какую сказывать? – предложила она, даже не дожидаясь приглашения.
– Едемную! – пролепетала Аленка, которая забыла о трепке и жадно раскрыла рот от ожидания.
– Зили-были старик и старуха, – начала Машуха особым шепелявым, свистящим, низким голосом. – У них были три дочки, Оселочка да Иголочка, да Метелочка. А еды у них было: олений бок, сохачиная голова, фляга жиру, вязка рыбы сушеной, сотня мороженой.
– Нельма, – прибавила Аленка вдруг.
Сказка сочинялась тут же на месте, и слушатели имели право делать вставки по своему желанию и вкусу.
– Не мешай! – огрызнулась Машуха. – Вот они как стали йисти, как стали йисти, съели этот бок, и голову, и жир, и рыбу…
– И нельму, – прибавила Аленка упорно.
– Девки, молчите! – крикнул неожиданно Викеша и вскочил на ноги.
Сказка оборвалась. Девчонки смотрели удивленно на буйного мальчишку.
– Молчите, не дразните. Кусаться стану!
Сельдятка засмеялась.
– Да ты, видно, правду людоед! – бросила она задорно.
– Молчи, зараза! – крикнул Викеша запальчиво. – Уйду я от вас!
– В чукчи иди! – поддразнивала Сельдятка. – Там мяса много.
– Тьфу, проклятая! – Мальчик отплюнулся длинным сердитым голодным плевком и быстро зашагал по улице, проходя сквозь Голодный Конец. Тут обитала вся городская голь, сироты, старухи, сифилитики, городские нищие, двое Егоршей – Егорша Худой и Егорша Юкагир. У многих не было даже настоящей избы, и, несмотря на лютый холод, они ютились в каких-то странных гнездах, выплетенных из ивы, как старая корзина, и засыпанных землей. Другие помещались в хатонах, старых хлевах, сложенных из стоячих плах, замазанных глиной и навозом. В таких хлевах якуты помещаются вместе со скотом, и скот, по крайней мере, греет их своим теплым дыханием и гниющим навозом. Но здесь приютился в хлевах человеческий скот, слишком тщедушный и тощий, чтобы рождать из себя тепло.
На Голодном Конце не было ни одной коровы и даже упряжных собак на дворах было меньше, чем двуногих под жалкою крышей.
Солнце понемногу собиралось всходить. Восточный край неба оделся яркими огненными перьями. Это «заря-заряница» в своей нарядной шубке из красных лебедей открывала дорогу своему золотому отцу. Уже загорелся венец на косматой ее голове, не вычесанной на ночь. Ибо с апреля заря перестает чесать свои алые косы, снимает свой облачный шлык и ходит простоволосая.
Ледяное стекло загорелось на реке, обнаженной от верхнего снега. И вместе с зарей и рекою загорелись глаза и у мальчика Викеши. Но в это погожее утро они горели зловещим волчьим блеском.
Он был страшен, этот маленький комок человеческих мускулов и хищного голода.
«Убить бы кого!» – думал он, разглядывая улицу. Но на улице не было добычи. Свистнул снигирь, каркнула ворона, пролетая. Она тоже искала добычи, не хуже голодного мальчика.
В лесу и на реке не было ни жизни, ни добычи.
«Еда у людей!» – подумал Викеша.
На другой стороне речки, за утлым мостиком, жили богатые торговцы в просторных домах, с настоящими стеклами в окнах, с амбарами, полными рыбы. Тут был запасной магазин с казенной мукою и солью. Но крепкая дверь магазина была замкнута троевинчатыми замками, и их охранял часовой, казачок Алеха Выпивоха.
«Там есть!» – думал мальчик. На него словно нанесло через речку дымным запахом копченой юколы.
IV
В маленькой избушке налево дверь отворилась, и вышел старичок, сутулый, почти горбатый, в парке-балахоне из мешочного холста, туго подпоясанный ремнем. Это был Пака-Гагара из рода Гагарленков[15]. За ремнем у Паки торчал крошечный топорик, сточенный до самого обуха. Железо на Колыме скудное, и даром его не бросают. Топорные обушки, сточенные до самого нельзя, служат для мелких домашних работ. На плече у старика был мешок, вернее, другая парка из такого же мешочного холста, только отороченная красным, должно быть, женская.
«Куда он?» – подумал мальчик с минутным удивлением. Топор говорил о дровах, но в лес за дровами ходят не с мешком, а с санями.
Пака перешел через речку по узкому мостику, дошел до полиции и остановился под окнами у самого исправника, постоял, подумал, даже руку поднял, сперва хотел постучать, потом двинулся по улице вперед, дошел до переулка, где был поворот к казенному складу, опять постоял и вернулся назад, прошел по переулку, ведущему к дому богатого торговца Архипа Макарьева. И тут тоже постоял и опять повернулся и прошел к складу Он сделал это странное путешествие три раза, и наконец Викеша прочитал по петлям его запутанных шагов, как по печатным строкам: «Выбирает! Какое – казенное или макарьевское?»
Пака действительно вышел на улицу с дерзким и злым замыслом против чужой собственности, во как будто не мог выбрать, какую ему собственность нарушить, казенную или частную. Он колебался, но его колебания были всецело вещественного свойства. В казенном складе были мука и соль, а в макарьевском амбаре сладкая пища туземного люда, «жизница», ожива, источник бытия поречан, святая питательница рыбка. Посягнуть одновременно на то и на другое духу не хватило даже у дерзкого Паки.
Время было для предприятия Паки особенно удачное. В этот предутренний час, уже после восхода раннего весеннего солнца, все жители спали наикрепчайшим сном, даже птицы, щебетавшие неугомонно круглые сутки, смолкали на полчаса. Ветер затихал, тоже словно сонный. Казак, стороживший казенную муку, давно вернулся в караулку и спал как убитый, крепко обнимая данное ему ружье, символ его власти и позиции, вместе полицейской и военной.
Наконец Пака решился. Он обошел кругом обширную усадьбу Макарьева. Усадьба была огорожена тыном, но с каждой стороны были пролазы, особо для взрослых и также особо для ребятишек.
Он шел вперед, а Викеша следовал за ним на расстоянии неслышно, как горностай. Пака весьма хладнокровно пролез сквозь забор, подошел к амбару, стоявшему посредине двора, подсунул топорик под ржавый пробой: «Дрык!» – внезапным усилием он выдернул все: и скобку, и накладку, и висячий замок. На Колыме запирались некрепко. Воровать же вообще не воровали.
Правда, исправник и помощник воровали, но они это делали иначе, помимо пробоев и замков.
Сломав замок, Пака раскрыл дверь и вошел внутрь.
– Как в свой амбар вошел! – сказал себе Викеша с восхищением и завистью.
Через минуту Пака уже выходил из амбара обратно. Мешок на плечах его раздулся, потолстел и стал не меньше самого Паки. Из устья торчали два широченных рыбьих хвоста. Святая рыбка победила чужеземную далекую муку. Мука, кроме того, была затхлая, а рыба свежая, мороженая, та самая рыба-строганина, которая составляет лучшее блюдо северного сыроядно-натурального стола. Едят строганину сырьем, нарезав широкими тонкими стружками без соли и без перца.
– Рыба… Чиры!
Двуногий горностай в свою очередь скользнул в амбар, по примеру грабителя, и отколе ни возьмись туда же посыпались снаружи такие же небольшие, проворные, поджарые фигурки. Викеша даже свистнул от удивления. Тут был Андрейка и другой мальчик Тимка, и девочки Хачирка, и Сельдятка, и Шурка Стрела, и Федосья Готовая, и даже пятилетняя ковыляющая Аленка Гусенок. Они нырнули в амбар, как мыши, и тотчас же выскочили вон, прижимая к груди как будто по серебряной лопате.
– А ты что, Аленка? – прошипела с удивлением Сельдятка.
Аленка удовлетворила свою страсть к крупным нельмам и тащила уже не лопату, а целую доску. Но нельма уперлась головой в порог и отказалась выходить. Аленка зашипела и фыркнула, совсем как горностай, и так поддернула упорную добычу, что вместе с ней перелетела через порог и кувыркнулась в снег.
Дети убежали, как волчата, с захваченным куском прямо в лесную чащу, укрывающую одинаково и жертву, и хищника, но Пака прошел переулком, как прежде, и пошел по дороге. Его мешок был слишком тяжел, чтоб тащить его в лес. К тому же его гагарлята ждали не в лесу, а в избушке на Голодном Конце.
Ему приходилось проходить мимо макарьевской усадьбы с другой, лицевой, стороны. Но, дойдя до ворот, он остановился, как будто поперхнулся. В воротах стоял сам старый Архип Макарьев, смотрел на солнце и скреб горстью широкую сивую бороду.
Макарьев был человек неторопливый, насмешливый и хладнокровный. Также и на этот раз, видя такое необычайное явление, как старого Паку с огромным мороженым уловом, спокойствия ничуть не потерял.
– С промыслом! – приветствовал он Паку.
Пака промычал что-то непонятное.
– Где Бог дал?
Наполненный рыбой мешок опасно закачался у Паки на плече, но Пака удержал его и двинулся вперед, собираясь пройти мимо.
– Моя рыба! – сказал Макарьев решительно. Он узнал своих мороженых чиров по виду и по масти, как другие узнают лошадей.
Пака неожиданно рассвирепел.
– Твоя, так бери! – пискнул он голосом, пронзительным, как дудка. – Бери!..
Он шваркнул об землю свою трехпудовую ношу и облегченно выпрямил свою хилую спину. Мерзлые чиры поплыли из мешка по скользкому снегу в разные стороны.
– На, на!
Пака нагибался, хватал чиров и бросал их в Макарьева. Один чир, брошенный особенно яростно, ударил Макарьева плашмя в грудь и прошелся широким хвостом по его окладистой широкой бороде. Даже по носу щелкнул концом плавника. Колымчане вообще рыбою драться мастера, и на летних промыслах порою раздают друг другу здоровых лещей, правда, не лещами, а чирами и пузатыми нельмами. Но Пака затеял драться мороженой рыбой, твердой, как нарубленные доски.
Выбежали собаки и стали, урча к хрипя, растаскивать лакомый груз.
– Поцам, проклятые! Прочь! Поцам!
Макарьев споткнулся и брякнулся грудью на свое погибающее добро. Пака с сердцем дернул свою реднину, такую же тощую, как прежде, и поплелся домой к своим голодным гагарлятам.
Макарьев осмотрел свой замок и даже испугался, несмотря на свое хладнокровие. Сколько ни стояла Колыма, не бывало такого, чтобы бедные ломали замки у богатых и уносили пищу прямо среди белого дня.
Правда, экономика колымская была какая-то игрушечная, вроде игры в бирюльки. Все продавалось, начиная от труда и кончая девичьей честью. Продавалось задешево уже потому, что не особенно ценилось даже основными владельцами. Платили не деньгами, а едой или товаром. Деньги вообще ходу не имели. Колымчане считали, как дикие чукчи, на чай и табак, например, нанимались в батраки – три кирпича чаю в месяц, папуша табаку, ситцу на рубаху, дрели на порты, сары, полусарки[16] и так далее, во всю бесконечную длину потребительского списка.
Более дешевые вещи считали на рыбьи хвосты.
Парни распевали довольно известную песню:
Вот Чичирку за хачирку,
А Аленку за чилим.
Песня эта требует пояснения. Чичирка – женское имя. Хачирка – мелкая сушеная рыба. Чилим, силим – жвачка табаку. Таким образом, характер вышеуказанной торговой операции становится ясен.
«Малые люди», разумеется, были в долгу у «больших», но они не относились к этому очень серьезно. Поймает, например, тот же Пака в капкан неожиданно, почти против воли, хорошую лисицу-огневку, он не несет ее к своему постоянному «хозяину», точнее кредитору, Явловскому, а норовит продать ее из-под полы другому и непременно за наличный расчет.
Каждый из малых людей был в долгу, как в шелку, и его положение было такое: отдашь по закону, засчитают за долг и больше ничего не дадут. Сделки, таким образом, помимо всяких долгов, производились за наличный расчет. Это было, в сущности, начало естественной отмены долгов.
На другой день к обеду исправничий «драбант» Дормедонт привел Паку на суд пред грозные очи его высокородия. Пака не сробел, пошел. Даже вскинул на плечо ту же добавочную двойную реднину – мешок.
– Ты, что ли, сломал амбар у Макарьева? – грозно спросил исправник.
– Не запираюсь, я! – спокойно ответил Гагара.
– Да как же ты смел! – вскипел исправник. – Да я тебя в холодную посажу!
– Посадишь?.. – Лицо Паки сморщилось, как у собаки, готовой укусить. – Посадишь, да?.. А гагарленков моих кто будет кормить? Пятеро их у меня. Вот приведу и оставлю в твоей канцелярии, кормите их, да, вы, начальники!.. – Пака перешел в наступление. – Отольются вам наши слезы! – визжал он своим колющим, как дудка, голосом. – Голодные сидим. Не унес я ничего у твоего мордастого Макарьева. На, смотри, и мешок пустой! – Он дернул реднину и чуть не задел исправника по лицу. – Но вы погодите, мы вам покажем! – Пака повернулся и вышел из двери, волоча за собою свой пустой мешок.
Так и не посадил исправник Паку в холодную. На это было несколько причин. Первая причина: в Колымске не было холодной. Согрешивших казаков и мещан сажали в караулку, к старику Луковцеву, постоянно сторожившему казенный магазин. Алеха Выпивоха, казачок, представлял охрану временную и вовсе бездомовную.
Луковцев был тоже из «малых людей», к тому же он вел дружбу с Павлом Гагарой. Посадить Паку в караулку было не лучше, чем послать его домой. И власть предержащая предпочла отпустить его просто и без затей. Кроме того, арестованным надо было платить кормовые по 98 коп. на человека в день. Таким образом, Пака на двухмесячной высидке мог обойтись казне рублей в шестьдесят. Меньше двух месяцев назначить было невозможно. В расчеты исправника совсем не входило выдавать правонарушителям на реке Колыме хорошие казенные премии.
Так совершилась на реке Колыме первая экспроприация.
V
1914 год выдавался обилием промысла. Рыба, пушнина, олени на тундре и лоси в лесу – всего было вдоволь. Даже ламуты заплатили торговцам свои невероятные долги белками, песцами и горностаями. Природа словно хотела побаловать людей в последний раз перед нависшей грозой. Но о грозе никто не думал. Среди всеобщего обилия Голодный Конец на время перестал соответствовать своему прозвищу. Гагарленки старого Паки набивали отборною рыбою свои ненасытные зобы, и Щербатая выть жевала и мяла еду своими щербатыми ртами.
Ребятишки отбились от дому. Летом в каждом ручье есть еда и можно промышлять рыбу хоть штанами, как в юкагирской сказке. Викеша Казачонок больше не клевал краснощекую Аленку своим вороньим носом, и оба они карабкались рядом на склоны рыжих скал, выбирая из-под папороти крепкую и твердую бруснику, как красненькие бусы. И так настала осень с тихими ночными морозами, с первой, особенно сладкой мороженой рыбой – строганиной.
В октябрьский вечерок Андрейка и Викеша уже пробовали лепить молодые снежки из густо нападавшей пороши. Мало им было дня, так они прихватили и вечер. Как вдруг проступал по звонкой земле скачущий конь своими подкованными копытами. На всей Колыме три подковы, и те завезены с юга и прибиты для счастья над воротами у трех казаков.
Конь проскакал и запнулся у калитки.
Нарочный… Гонец из Якутска.
В 1881 году по сонным улицам Колымска впервые проскакал такой сверхъестественный гонец с воплем и воем: «Убили царя, убили Лександру второго!» И жители заперлись в страхе. Убили царя – все равно что убили Бога.
Вот тогда сразу решили поречане: «Безбожная южная Русь, ежели не побоялась, убила царюющего бога».
В 1894 году другой гонец привез на гриве лошади новую весть: «Царь помер, тоже Лександра, по счету третий».
Но тут колымчане уже осмелели, и чей-то голос из темноты крикнул с простодушным любопытством: «Сам, али тоже убили?»
И гонец объяснил, во избежание недоразумений: «Сам подох».
На Колыме, как сказано, вещи называются естественными именами.
А еще через десятку, в 1904 году, гонец принес на уздечке коня хлесткое слово «война». Теперь на четвертую десятку новый гонец принес новую войну. Две царских смерти и две войны – вот был итог новостей, приходивших с далекого юга за сорок лет в заброшенную Колыму.
Война Колымы не касалась. Там не было рекрутчины ни раньше, ни теперь. Туда забегали порою беглые солдаты, дезертиры-новобранцы, да там и оставались, укрытые тяжелым бездорожьем от воинской комиссии, – даже семьи разводили и пускали новый корень. От них на Колыме и Индигирке пошли такие имена, как Солдатовы, Забегловы.
Но все же наутро весь город говорил о неслыханной войне. С целым светом задралась мудреная южная Русь. С нами четыре державы, а то пять, а то шесть. А с «ними», с «теми» – три, а то четыре. И хотя 4–6 больше, чем 3–4, но колымские политики, вспоминая недавнюю русскую встречу с азиатским японцем, решили беспристрастно: «Отдуют опять».
По-прежнему жила Колыма. Собачники ездили на тундру к чукчам за оленями, и на зимних посиделках парни бросались с размаху к девицам на колени, чтоб крепче притиснуть к скамье, и смачно целовались с ними, и «корогод» (хоровод) выпевал посредине избы:
Кинуся, бросюся,
Кинуся, бросюся.
Маме Маше на ручки,
Маме Маше на ручки,
Я на Маше посижу, я на Машу погляжу,
Поцелую, обойму, надеждушкой назову.
По-прежнему пришел конский караван из Якутска, навьюченный чаем, мукой и сахаром и разными припасами и даже, к удивлению, спиртом, в плоских, трехведерных бочонках, несмотря на строжайший запрет. Правда, спирт продавался впятеро дороже, чем прежде. Но не все ли равно. В сей год Колыма была богата. Ей было чем платить. Ничего не изменилось.
Но мало-помалу, из обрывков газет, из темных неясных и ползучих слухов сложилось суждение: светопреставление на юге. Всякие народы, и «наши», и «не-наши», ум потеряли и режутся, грызутся хуже волков и медведей.
Однажды солдат, искалеченный, безрукий и навеки перепуганный, забежал в Колыму, прямо с далекой польской Равы, за десять тысяч верст.
Левая культяпка служила ему вместо отпускного билета. Но он чувствовал себя дезертиром, беглецом и порою просыпался по ночам с криком: «Идут, зовут!» Свое настоящее имя он тщательно скрывал, и называли его поречане Егорша Безрукий.
Был он иркутянин, сибиряк, хотя из семьи новоселов. На Раву попал сейчас же из телячьего вагона с надписью: «Сорок человек, восемь лошадей», – угодил под пулемет, под завесу огня, под буханье тяжеловесных прусских «берт» и видел в сущности один короткий бой, но все же каким-то чутьем он знал самое безумное и страшное о битвах и потерях, и осадах. И он рассказывал чуть слышным голосом, зажмурив глаза, как прячутся люди месяцами в земляных окопах, а потом бросаются вперед и рвут свое тело о колючую проволоку и колют друг друга штыками, а сверху железные птицы, с пулеметами на спине, поливают их бомбами, а птиц этих снизу стреляют и бьют на лету.
И простодушные колымские люди ахали и ужасались: безбожная, немилостивая Русь, хуже диких зверей, злее убийственных чукчей!
– А за что они бьются? – спрашивали бабы.
И солдат объяснил, как умел, по-своему:
– Не хватает им земли.
Егор, сибиряк-новосел, еще понимал про российскую нужду в земле.
– Столько народу развелось на Руси, что негде пахать, а кое-которую землю получше разобрали купцы да начальники. Опять же и у них, у «не наших», скажем, у германцев, тесная земля, куренка негде выгнать. Вот и отнимаются и режутся все вообще.
– А чего это – куренок?
– Птица!..
И еще большое дивовались простодушные поречанки:
– Зачем же выгонять куренка, когда можно убить его и съесть.
Мало земли!.. А в Колымском обширье о поселок от поселка стоит на тридцать верст, и в поселке два дома и только, и столько земли, что хватило бы сразу на всех, и наших, и не наших. И каждый человек на счету. Человек – это богатство.
– Дети – богатство наше! – говорит Колыма.
Ребятишки ходили за Безруким табунами. Викеша, и Егорша, и Андрей, и Савка Якутенок, из старого шаманского рода. Имя его было Прокофий, но его называли не Пронька, а Савка, по деду-шаману. И Пака Гагарленок, – тоже Пака, по отцу, – острый, суматошливый, кудлатый, похожий на сорокопута. И еще двое братьев. Имя обоим было Микша[17], одного называли Берестяный, другого Крутобокий. Берестяный был крепкий, веселый и гладкий, как белая береста, а Микша Крутобокий был кожаный, жесткий, похожий на чукотского бога, каких выставляют на праздничных санках и мажут им губы салом. У Микши Крутобокого, кстати же, была и привычка постоянно облизывать губы языком, как будто он слизывал чукотское жертвенное сало.
И девчонки, Хачирка, и Сельдятка, и Машура Широкая, и Фенька Готовая, и Аленка Гусенок, и Лика Стрела. Все они подросли за последние годы. Коноводу всей партии, Викеше, уже миновало двенадцать. Они держались в стороне от больших и от очень маленьких, устраивали особые игры, например, начали играть в войнишку.
Они делились для этого на две партии: «наших» и «не наших». Дальше этого в своих обобщениях они не пошли. Вообще же в распределении побед и поражений они были вполне беспристрастны. Например, «не наши» частенько нападали на «наших» и давали им здоровую трепку.
Японская война на севере не выразилась играми. Но эта вторая война, таинственная и ужасная, задела фантазию даже у колымских подростков. А тут был живой источник, из которого можно было почерпнуть заманчивые знания об этих беспричинных, жестоких и вполне непонятных делах.
Они смотрели Егору в рот и задавали вопросы без счета: «Чем дерутся и зачем дерутся? И куда они девают убитых и что они едят на войне?» Последние вопросы задавали девчонки. Возможно, что они подозревали жестокую Русь в смешении войны с охотой, то есть в людоедстве.
VI
Однажды на обрыве над речкой Егор стал рассказывать. В сущности, это не был рассказ, а отрывочный ряд воспоминаний, и то, пожалуй, не личных, а общих солдатских, навеянных Егору массовым ощущением войны.
– Крыли нас немцы, почем зря. Нос высунешь – нос отстрелят. А голову – так голову. Зарылись мы в землю, как змеи. Лежим, шипим. Яд наш при нас. И вдруг подходит ко мне юнкирь.
– Вставай, сукин сын! – А мне встать неохота. Так он меня кнутом. – Ух ты! – А мне встать неохота. Так он винтовку схватил, да штыком меня, штыком. – Вставайте! Всех переколем!.. – Тут мы встали, пошли. А немец и почал поливать. У него пулемет-отгонялка. Что жиганет, то полоса. Сунулись назад, а у наших пулемет-погонялка. Все та же смерть. От своих еще обиднее.
Хачирка всплеснула руками:
– От чужих, от своих!.. Народы, народы немилосливые.
– Некуда нам деться, побегай. Добегай до окопов, а там проволока в три ряда повешена, как сеть. Мы давай рубить да резать. Кто и застрянет на проволоке, как жук. Тут, там, везде вопят да бьются. Которые прорвались, тех немцы покололи. Тут мы назад повернули вполне.
– Как гуси в сетях, – промолвила Фенька Готовая.
Люди, повисшие на проволочной сетке, напомнили ей птичьи охоты. Колымские охотники жердями и камнями загоняют в губительные сети тысячи линялых гусей, а потом бьют их палками, или душат руками, или еще проще – перегрызают им горло зубами.
– А кто это юнкирь с кнутом, – спросил неожиданно Викеша, – русский?
– А то кто, чужой? – жестко ответил Егор. – Русский, конечно. Русский что лошадь – без кнута не возит.
– Не путай, сибиряк, – сердито отозвался Викеша. – Русский бьет, и русский возит?.. Врешь ты! Русский, конечно, стегает челдонов.
Они успели узнать про Егора, что он «сибиряк-дурак», из тех самых сибирских челдонов, которых некогда завоевал Ермак.
Новоселы упрекают староселов, сибирских челдонов, что это их собственных предков завоевал Ермак, а совсем не одних полевых кругоходов татар.
– У, какой вострый, – сказал хладнокровно Егор. – А ты сам кто, русский?
– Русский! – сказала за Викешу Аленка с известной гордостью. – Политика русская. Его отец на царя бонбами бросался.
– Важное кушанье, – сказал презрительно Егор. – Мы на войне сами бонбами бросаем… А российским попадает поболее сибирских. Сибирского достанешь либо нет!.. Всех больше на свете битые русские.
– Кто с кнутом? – настойчиво спрашивал Викеша.
– Известно, начальство, офицер!..
– А какое ему имя? – негромко спросил Викеша. Ему почему-то представилось, что Егор ему скажет: Авилов.
– Какой имена!.. Мы разве спрашиваем? Он тебе имя свое пропечатает на морде…
– А я бы его бонбой, – сказала Аленка Гусенок своим сладким, слегка шепелявым голоском.
– Кого? – спросили ребята, заинтересованные.
– Того, который бьеть – сказала Аленка спокойно и упрямо.
Безрукий пожал плечами.
– А может, и мы?! – сказал он загадочно.
Викеша молчал, в душе его двоилось. Русь бьет, Русь бьют… Бывают различные Руси.
– Я бы убежала, не пошла, – воскликнула Хачирка.
– Быват, убегают которые в леса, – согласился Егор.
О, в леса – это было знакомое.
– Есть нечего в лесах, – объяснил Егор, – на волчьем положении.
Дети молчали, словно взвешивали, которое положение лучше, человечье или волчье.
– Трудно идти на войну, – сказал Егор. – Когда уезжали на машине, жонки с ребятами ложились под машину: задави нас, машина, до смерти, чем с милым разлучаться!..
И это было знакомое. Горечью внезапной разлуки была напоена кочевая колымская жизнь. Хачирка даже пропела тихонько:
Прощай, радость, жисть, веселье,
Слышу, едешь от меня.
Нам должно с тобой расстаться,
Тебя мне больше не видать.
А потом помолчала и вздохнула:
– Какая ваша русская жисть…
– Такая, – ответил Егор… Он долго молчал и вдруг затянул тоненьким, чуть слышным голоском:
Из-за речки, за быстрой,
Становой едет пристав.
Ой, горюшко, горе, горе,
Становой едет пристав.
– Чего это ты поешь? – спросили дети.
– А это русская песня. Вот там, где война была, там и поют. А вы не молчите, подпевайте.
За ним письмоводитель,
Сущий вор-грабитель.
И дети подхватили с привычной певучей ухваткой:
Ой, горюшко, горе, горе,
Сущий вор-грабитель.
Самая несчастная, злая российская жизнь!..
VII
Якутскую торговлю словно отрезало ножом. Не стало ни привозу, ни отвозу. Словно Якутск переехал на луну или прямо на тот свет.
Худосочный Колымск неожиданно стал задыхаться от обилия ненужной пушнины, готовой одежды, даже драгоценной белой юколы, которую зимою возили в Якутск по морозу. Никакой осетровый балык не может сравниться с юколою из колымского чира. Но теперь приходилось колымчанам самим потреблять свои рыбные лакомства.
Главная беда – не стало чаю, табаку, сахару, ситцу, железа, не стало ничего.
Что было у купцов, они припрятали в подполья или прямо закопали в подземных тайниках, чтоб люди не нашли и не отняли.
С удивлением и гневом Колымск, раньше полунезависимый от южной Руси, которому главное – была бы святая рыбка, наглядно ощутил, какая крепкая пуповина соединяет его с культурой. Но теперь в этой пуповине кровь перестала пульсировать.
Без русского прядева и нити не было сетей и нечем было даже ловить святую рыбку. Приходилось плести кое-как ивовые верши. Без пороху и дроби приходилось приниматься за дедовский лук.
Но от сознания этой тесной связи с югом еще более негодовал Колымск.
– Не пропущают, ничего не пропущают. Чаю ни маковой росинки, сахару ни зернышка. Злая Русь!
Раньше в Колымске говорили: «Мудреная Русь» и этим отдавали дань почтения всем выдумкам культуры, старой и новой, от церковной восковой свечи до граммофонной пластинки. Ведь был и в Колымске граммофон.
Но теперь колымчане были готовы пуститься походом на Русь и силой отнять задержанные богатства.
Вестей и гонцов из Якутска тоже не бывало. Доходили, неизвестно откуда и как, тяжелые, мутные слухи: режутся, воюют.
Тут где-то воюют, под боком, в самой Якутской губернии.
– Вот так на! – судили колымчане. – Апонцы или кто иные пришли. Столько народов воюют. Мог какой-нибудь добраться и до Ленского угла.
Другие слухи, более неопределенные, но вместе и более понятные, разъяснили:
– Никто не пришел. Сами воюются, режутся, режут друг дружку.
Собственно о революции, о революционном правительстве в Колымске не слыхали. Однако как раз через год, в июле 1918 года, в Колымске, вообще привыкшем ничему не удивляться, случилось новое чудо.
Съехал исправник из полицейского дома, так неслышно и скромно съехал, словно рассчитанный приказчик. Конечно, никто его не рассчитывал. Он сам рассчитался, рассчитал, что пора уходить, и съехал на квартиру к своей «экономке» Палаге. «Экономка» – по-колымски любовница. Очевидно, подход экономический. С собою исправник не взял ничего, ни казенных бумаг, ни вещей. Из собственных вещей взял самое необходимое, носильное платье и две колоды новых, неразодранных карт. Даже мундиры свои и шапку с кокардой, орленые пуговицы и шашку с портупеей оставил на квартире при полиции, как достояние казны.
У Палаги был собственный невод, справленный, конечно, на исправничьи деньги. На другой день после своего отречения от власти, колымский Цинциннат[18], вместе с Палагой и ее косоглазым братом, сели в неводный карбас и выехали за сто верст на рыбную заимку.
На колымчан это дезертирство исправника произвело впечатление гнетущее. Главное, вслед за исправником сбежал и помощник, и дежурные казаки, и писцы – и тоже бросили бумаги и пуговицы. Полиция осталась как будто чумовая, запустелая.
Последним оставался престарелый Олесов Никола. Ему было семьдесят лет. По имени он звался совсем не Николай, а именно Никола, по святому Николе Мокрому, и имел серебряный крестик за выслугу лет. Он просидел три дня совершенно один, но оторопь взяла и его. И он ушел.
Дошло до того, что даже те грозные двери, куда колымчане ходили на поклон и носили посулы, стали заплетаться паутиной.
Городу, однако, нельзя было оставаться без власти. Была казенная пушнина, хлебный и соляной магазины, боевые припасы, да мало ли что.
«Как бы не ответить за это», – подумал Колымск.
И как-то само собой составилось новое колымское правительство, деловое и нейтральное.
Оно составилось тоже из чиновников, но преимущественно из опальных, отставных, отстраненных от власти – за что? Разумеется, за взятки, воровство и так далее. Они состояли многие годы под судом. Но как только ушло настоящее начальство, эти подсудимые его заместили по праву.
Они себя назвали: «Народное правительство» – почему же народное? Очевидно, неопределенный дух демократизма, даже при отсутствии вестей, как-то сообщился с юга на Колыму.
Возглавляли это правительство два отставных подсудимых. Трепандин, бывший заседатель, отданный некогда под суд, но отказавшийся ехать в Якутск на разбирательство. Судили его заочно, приговорили к лишению прав состояния и к ссылке на поселение в отдаленнейшие места Восточной Сибири. Но так как достать его из Колымска не удалось, то ему и назначили ссылку в этом самом Колымске. Колымск, без сомнения, и был отдаленнейшим местом Восточной Сибири.
Был он человек пожилой, зажиточный и по-своему весьма уважаемый в городе.
Другой отставной подсудимый был Бережнев Екимша, иначе Екимша Качконок из девичьей семьи, не лучше, чем девки Щербатых. Корень этой семьи пошел от бабушки Катьки. И оттого эту ветвь Бережневых звали Качконки, Катериничи, Бережневы, Бережные – на Колыме, это очень ветвистый корень. Есть Бережневы Ростопыри, и Бережневы Лапкины, и Бережневы Брехуны. Но Бережневых Качконков стали отличать особо. Екимшу всегда называли вместо батюшки по матушке: Еким Катеринич Бережной. Насколько Трепандин был маленький, тощий, корявый, с якутскою редкой бородкой, настолько Еким Катеринин был высокий, белявый, сырой, весь слепленный из славянского белого недопеченного теста. Он был казачьим командиром и под суд угодил за растрату казачьей муки. Растрату произвел в Верхоянске, а в Колымск сбежал, как в убежище преступников.
Знамя восстания против этого странного правительства поднял макарьевский батрак, Митька Ребров.
VIII
Митька Ребров писался «из якутского рода», но, в отличие от других колымчан, по-якутски говорил плохо. У него были светлые волосы и ужасные монгольские широченные скулы. Был он здоровый, плечистый, работал за двоих. А если устанет, закладывал за щеку черную жвачку из накипи табачной, выскребленной из его же собственного трубочного мундштука. Накипь была горькая, как желчь, и на жвачку годилась отлично. От нее пропадала усталость, как от крепкого вина.
Митька собственного хозяйства не заводил и с детства ходил в батраках у того же Макарьева. Получал он одиннадцать рублей на макарьевском чае и табаке. Пища на Колыме не считается. Жалованье Митькино было собственно двенадцать рублей, но Макарьев высчитывал рубль.
– Уж очень беспощадно изводишь табачишко, – говорил он в объяснение.
Митька помалкивал, и если в промежутках работы добудет какую лисицу или песца, сдавал их тому же хозяину. Плату выбирал портяным, т. е. тканями, из которых, как известно, шьют порты, и готовой меховой одеждой. У него были рубахи из серого сатина, что на Колыме считается щегольством, варваретовая куртка, подбитая лисьими лапками. Варварет, т. е. плис, на Колыме дороже наилучшей лисицы-огневки.
И так одевался Ребров лучше многих колымских казаков. Пил он крепко, раз в год, весною, когда приходил главный зимний караван. Но ума он не терял и даже по-настоящему не пьянел.
13
Ерник – ползучая береза.
14
Ветер.
15
Пака – Пашка. Гагарленок – гагарий птенец.
16
Обувь.
17
Микша – от «Николай» (Миколай), как Якша от «Яков», Кирша от «Кирилл».
18
Цинциннат – римский диктатор, покинувший власть, для того чтобы пахать землю на собственном участке.