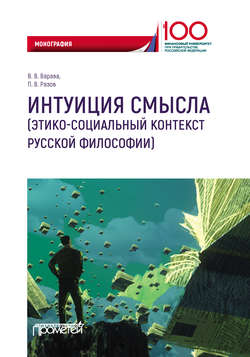Читать книгу Интуиция смысла (этико-социальный контекст русской философии) - Владимир Варава - Страница 6
Глава 1. Поиск смысла в литературе, религии и культуре
1.2. Особенности русского философского языка
ОглавлениеМария Безобразова почти что случайно в своем тексте об этическом идеализме обронила одну драгоценную мысль, мысль-откровение, мысль-озарение: «Русский философский язык мог бы быть прекрасен, насколько наш язык богат и гибок» [2, 343]. Она как бы сетует по поводу отсутствия такого языка, обвиняя В. С. Соловьева в том, что тот отказал в праве русской философии на существование, объявив, что русской философии нет. В этом утверждении проницательная женщина-философ усматривает скорее желание того, чтобы не было русской философии, нежели фактическое положение дел. По правде говоря, здесь она попала в точку: спустя столетие ситуация мало изменилась.
Но важна здесь даже не постановка «вечного» вопроса о бытии русской философии, сколько вопроса о связи языка и философии, и конкретно, о русском философском языке. Само словосочетание «русский философский язык», оброненное в недрах исследований, или как она сама выразилась «мелочах» (таково название последней книги Безобразовой «Исследования, лекции, мелочи» (СПб., 1914), во многом предвосхищает ту гигантскую дискуссию о языке философии, которая возникла в XX веке. Здесь важно не путать две принципиально различные вещи: речь идет именно о языке философии, а не о философии языка. Последняя является магистральной линией аналитической традиции, в которой исчезает вся та глубочайшая проблемность, связанная с языком философии, которая к тому же ранее вообще не замечалась и не воспринималась.
До XX века в самой философии собственного говоря и не было проблематизации языка философии. Существовали проблемы философии, в том числе и проблемы языка, но не было проблем, связанных с языком философии. Философы, как правило, не задумывались о самом языке, на котором излагали свои построения, используя стандартный язык схоластики, который представал в двух ипостасях: сначала религиозной, затем научной. Эту ситуацию П. Слотердайк назвал историей обеднения и оскудения языка, которую долгое время представляла собой история философии. Анализируя мысли Лукача о романе, современный немецкий философ говорит о возрождении, которое принесли с собой Ницше, Шопенгауэр, Маркс, Мишле, Кьеркегор. «От этого возвращения языка в философию, – говорит Слотердайк, – зависит почти все, что в XX веке возникло в виде мышления, запечатленного в тех книгах, которые читаются и перечитываются» [7, с. 147].
Здесь правда Слотердайк не упоминает Гоголя, Толстого и Достоевского, о которых говорит другой видный немецкий философ Г. Гадамер, связывая их с появлением философской литературы, которая потеснила притязания университетской философии [3, с. 116]. Но дело здесь не в персоналиях, а в проблеме языка философии, которая, зародившись в XIX веке параллельно и в России, и на Западе, в XX стала одной из самых притягательных философских тем, породив новые формы философского мышления.
В этом контексте слова Безобразовой о том, что «русский философский язык мог бы быть прекрасен» приобретают особый интерес и остроту. Значит ли это, что все русское словесное творчество, в котором ярко прорисована традиция философичности литературы (или литературоцентризма философии) не воспринимается как полноценное философское явление, самобытное и органичное именно русскому национальному мировоззрению? Тогда о каком языке говорит (мечтает) Безобразова? Ведь сама она всегда утверждает самобытность русской философской мысли. Например, она пишет: «сколько переведено иностранного во все эпохи истории философии в России! Я не настаиваю на том, что не следует переводить – приобщение России в общей культуре великое дело, но и знать свое – та другая обязанность, которую у нас слишком часто забывают» [2, с. 222]. Это, можно сказать, ее кредо.
Конечно, женщина-философ, гениально сформулировав тезис о русском философском языке, а вернее об его отсутствии, просмотрела то «возвращение языка в философию», которое во многом и было совершено русскими писателями-философами XIX – начала XX века, о которых она естественно не могла не знать. Но ее формулировка о русском языке обладает бесконечно завораживающей и притягательной силой, заставляя вновь и вновь углубляться и в проблему языка русской философии и уже в саму русскую философию, в ее онтологическую субстанциальность, в которой всегда неразрешимо сочленяется «родное и вселенское».
Важно и то, что сам русский язык, язык как таковой М. Безобразова оценивает достаточно высоко по шкале его лексико-семантических возможностей («наш язык богат и гибок»). При этом она как бы исподволь предполагает наличие органической связи между естественным языком и языком философским. Но парадокс здесь в том, что из «великого и могучего» языка, согласно логике самой же Безобразовой, не появляется такой же великой философии. Поэтому вся наша история философии – это сплошь заимствования и переводы, неразбериха с терминами, отсутствие своей собственной, органичной прекрасному языку, такой же прекрасной философской лексики.
Здесь одно из двух: либо русский язык как таковой не так уж хорош; либо неверна мысль о связи между естественным языком и языком философии. Кстати говоря, несмотря на то, что большинство творцов русской культуры высказывали однозначно апологетическое отношение к русскому языку в духе Ивана Тургенева, не все творцы русского литературного языка восторженно отзывались о его естественных свойствах. Вот хотя бы одно, но крайне показательное мнение К. Н. Батюшкова из письма к его другу Н. И. Гнедичу: «И язык-то сам по себе плоховат, грубенек, пахнет татарщиной. Что за ы? что за щ, что за ш, ший, щий, при, тры? О варвары! А писатели? Но бог с ними! Извини, что я сержусь на русский народ и его наречие. Я сию минуту читал Ариоста, дышал чистым воздухом Флоренции, наслаждался музыкальными звуками авзонийского языка…» [9, с. 12].
Конечно, эти слишком щепетильные, отдающие брезгливостью слова сторонника «легкой поэзии», сказанные за сто лет до того, когда писала Безобразова, вряд ли могут отражать полную картину. Тем более, именно за эти сто лет русская литература и совершила тот гигантский рывок, вставь вровень с вершинами мировой культуры. И все-таки определенная правда в словах К. Н. Батюшкова есть. Это правда неверное не по поводу красоты и богатства русского языка как такового, а по поводу неправомерности идеи генезиса философского языка из естественного. Ведь если из такого языка, каким его ощутил Батюшков, все же смогла родиться впоследствии великая литература, то почему-то именно из такого языка великая философия родиться так и не смогла.
Или смогла? Тогда мы должны искать иных оснований для философского языка, не связанных непосредственно со стихией обыденной речи, как например это делает С. С. Аверинцев. В одной из своих работ он пишет: «Рождение философии из не-философии – это рождение философского языка из житейского языка, перерождение слова в термин» [1, с. 111]. Философский термин становится наиболее стабильной конструкцией языка, чья семантическая однозначность репрезентирует инвариантные свойства самого бытия. И этим философский термин отличается и от просторечия, и от художественного образа, которые лишены таких критериев строгости.
Это принципиальное положение, высказанное выдающимся русским ученым. Но оно справедливо по отношению к греческой философии и выросшей на ее основе западноевропейской рационалистической философии. Правда в том, что из естественного русского языка («житейского» в терминологии С. С. Аверинцева) русская философия так и не появилась. Но не появилась философия западного, то есть схоластического, рационалистического, академического, трактатного, научного типа. Есть в самом языке органичные препятствия именно для такой философии. Здесь важными являются мысли Лейбница о природе немецкого философского языка, вообще о сравнительно позднем развитии философии в Германии из-за долгого доминирования в ней схоластики.
При этом не менее важным является рассуждение Лейбница о философской природе славянского языка: «Я не говорю здесь о славянском языке, потому что он недостаточно богат в реальных понятиях и большинство вещей, связанных с механическими искусствами или привозных, называет немецкими словами» [4, с. 73].Но далее, ссылаясь на Т. Гоббса, немецкий философ делает важнейшее признание: «у тех народов, которым свойствен постоянный эллипс глагола-связки «есть», как это имеет место в восточных языках, значительная часть варварской философии или вообще не может быть выражена, или излагается с большим трудом, хотя эти народы не менее других способны к философии и их язык в общем-то достаточно богат и развит в выражении самих вещей» [Там же].
Здесь важно иметь в виду, что Лейбниц под «варварской философией» понимает схоластику. Все это имеет самое непосредственное отношение к русскому языку. Как и немецкий русский язык долгое время находится под гнетом схоластики, и поэтому не может развить свои национально органичные формы философии; но, в отличие от немецкого языка, русский «недостаточно богат в реальных понятиях». Именно последнее обстоятельство позволило немецкому философскому языку, освободившемуся от схоластики, преуспеть на философской ниве. Немецкая классическая философия – алиби этого.
Но в России этого не произошло. И возможно не из-за недостатка «реальных понятий», сколько из-за постоянного эллипс глагола-связки «есть». Что впоследствии сделало нас учениками именно у немецкой философии, в которой нам принадлежат вторые роли переводчиков и комментаторов. Все это говорит о том, что естественный русский язык в равной мере не пригоден ни для схоластической философии, ни для рационалистической в ее немецком идеалистическом варианте.
Здесь нужно вспомнить известные слова А. С. Пушкина о том, что «…ученость, политика и философия еще по-русски не изъяснялись; метафизического языка у нас вовсе не существует» [6, с. 14]. Защищая «неоспоримое превосходство» славяно-русского языка пред всеми европейскими, Пушкин попадает, вольно или невольно, в самую суть его природы: неспособность к философской учености в европейском смысле. И дело тут даже не в том, что «леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны», сколько в органической природе самого языка.
И слова Пушкина: «метафизического языка у нас вовсе не существует», и слова Безобразовой: «русский философский язык мог бы быть прекрасен» звучат как некий вызов русской философии. Но если первые были произнесены в 1825 году, то последние уже в первом десятилетии двадцатого века. Оба представителя русской культуры, как ни странно мыслят в одном смысловом регистре. Оба радетели самобытности отечественной культуры, так или иначе, ищут этой самобытности, по крайней мере, сравнивают ее с иноземной. Но парадокс в том, что именно Пушкин и стал тем самым основателем органического «метафизического языка», на котором смогла себя выразить самобытная русская философская мысль.
Пушкину принадлежит еще одно известное высказывание, показывающее вероятностную трансформацию лингвистических констант, иначе языковой индетерминизм: «Грамматика не предписывает законов языку, но изъясняет и утверждает его обычаи» [6, с. 180]. В данном случае это означает, что изначально неспособный к метафизике западного типа язык оказался способным создать (а точнее зафиксировать уже ставшее в языке явление мысли) беспрецедентную национальную метафизику. Она нашла свое выражение в русской философской литературе как особой жанровой разновидности, несводимой ни к чистой художественной литературе, ни к рациональной философии.
Язык, породивший такой тип философии, не вырос их стихии естественного языка, он произрос «из миров иных», не связанных с определенной национальной почвой, но выразивший всечеловеческие искания истины. На русской почве в XIX веке это прозвучало отчетливее, и поэтому именно здесь и появился Достоевский как наиболее полный выразитель этого искания. Язык нашелся сам собой, и он, согласно Пушкину, утвердил обычаи. Но не лингвистические обычаи языка, а метафизические интуиции духа.
Здесь нельзя не сослаться на А. З. Штейнберга, который очень точно и как-то бесспорно выразил идею о том, что Достоевский есть философ по преимуществу. Многие об этом говорили, но вот ему удалось это выразить с предельной достоверностью и очевидностью. В книге «Система свободы Достоевского» он пишет: «У каждого исторического народа – своя философия. Философия эта сказывается всегда и во всем, она проявляется всегда и везде: в языке и в религии, в искусстве и в общественности, в народных нравах и бытовом укладе. Но рано или поздно все это великое многообразие, развивающееся как непрерывное откровение национального духа в его истории, должно само осознать себя как органическое «целокупное» единство… Тогда-то нарождается национальная философия. В лице Достоевского национальная философия в России стала историческим фактом. Яд привился – наступило развитие» [10, с. 12].