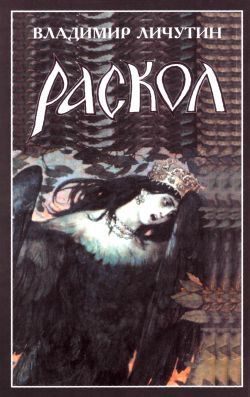Читать книгу Раскол. Роман в 3-х книгах: Книга III. Вознесение - Владимир Владимирович Личутин - Страница 2
Часть первая
Глава первая
ОглавлениеЦарица Марья Ильинична запомирала.
Знать, послабли обручи, рассохлась утробушка, занедужила от многих родин; ведь каждое дитятко, напитываясь под грудью материнским соком, один за другим потиху испили из нее жизненные силы. Вроде бы только давече выкрикнул рында от переграды Красного Крыльца сердечную радость: де, восьмой дочерью Евдокией пожаловала матушка великого государя, и тем же днем выкатили на Ивановскую бочки с пивом и медом да раскинули по цареву тесовому помосту, что тянулся через волглые снега от Дворца к Успенскому собору, обильный кривой стол со всякой снедью, чтоб всякий простолюдин мог попотчеваться и принять чару на грудь; еще вроде бы и колокола не утихли на Иване Великом, и звоны, вплетаясь в воздушный аер, покойно потекли в дальние укромины Руси с благой вестью, – а уж ныне зеркала завешаны черными портищами, и свечи возжены пред младенцем; едва продрав глазенки, отплыла безгрешная в райские кущи…
К матери с худой вестью не прихаживали, чтоб не всколебать ее горем, но огневица, восьмая иродова дочь, змеей-медянкою втянулась в прорешку Теремного окна, вроде бы плотно затянутого в частую медную ячею, и улеглась в Марьюшкиной родильнице, смертно прокусив боевую жилу. Дворцовый лекарь Данилко Жид потчевал немецким аптекарским зельем, полагал льду на живот, поил и корнем барбариса, и настоем кровохлебки и зверобоя, но не смог унять точащуюся кровицу. Лекаря Давыдку Берлова из Немецкой слободы срочно скликали на Верх: тот давал царице вернейшего снадобья от кровотечи – вкладывал в хладеющую влажную ладонь государыни египетскую яшму, серо-зеленый в красных брызгах камень, потуже сдавливая в безвольной царицыной горсти. Но и самохвал Давыдко не помог. Тогда поскочили верховые боярыни к дворцовым нищенкам, что жили в нижней клети под Красным Крыльцом, притащили их в спальный чулан к Марье Ильинишне. Богомольницы поили хворую освященной крещенской водою с серебра, да трижды окатывали накрест из чудотворного жбанчика, да смачивали грудь против сердца заговорной ключевой водою, нашептав на нее и вкинув в мису горячих угольев, печины и щепоть соли. Но… пришла беда – отворяй ворота; воистину от смерти не убежишь; и коли Господь попустил, своею кровью умоешься. Обложили царицу хлопковой бумагою и послали юного стольника звать государя.
Алексей Михайлович прошел в царицын Терем тайным переходом через домовую церковь; этим путем почасту бывал государь, чтоб любить супружницу; он вступил в опочивальню с какой-то дрожкой опаскою, так вкрадчиво, что не скрипнули жиковины неприметной дверцы, обтянутой обойной кожей. Встал у задней грядки кровати, ухватившись за резную соху полога, и сквозь пенное облако цветастой кисеи вгляделся в призрачное лицо жены, глубоко утонувшее в наволоке. Когда-то смуглое, кровь с молоком, скуластое лицо жены вдруг скоро вытончело, заострилось, и смертная белизна щек сравнялась со сголовьицем. Прежде изумрудистые, такие любимые глаза жены стали какого-то крапивного, перестойного цвета, и в них застыла смутная талая полуулыбка. Царица вроде не видела мужа, она не снимала взгляда с подволоки, где художной рукою были выписаны страстные муки Христа; вялые, горестно полуопущенные губы пришептывали беззвучно Исусову молитву. Сердце государя вздрогнуло и облилось кровью. Он любил супругу, даже когда изменял ей мимолетно с верховыми боярынями (ведь матушка так часто ходила на сносях), и сейчас Алексей Михайлович устрашился тому, что Марьюшка навсегда покидает его.
Царь сделал знак рукою, и верховая боярыня Анна Петровна Хитрова, низко поклонившись, с постно поджатыми губами удалилась из чулана. В золоченой клетке свистнула канарейка, сердито заворчал папагал; Марьюшка очнулась, выплыла из забытья, ласково вгляделась сквозь кисею в родное лицо. В голове как-то странно прояснилось то ли из песни, иль из старинного домашнего причета: «Прощай, милый, не горюнься, уезжаю навсегда; уезжаю-отплываю, не забудешь никогда…»
Еще подумалось неторопливо: снова солоненького поел, родимый, огурцов да грибков тяпаных гретых откушал, а после и опился квасов. Нисколько, сердешный, не бережет себя. И кто за ним досмотрит без меня?..
– Ишь ли, батюшко, помираю я, – выдавила слабым мерклым голосом, словно бы из груди вовсе выкачали воздух. В черевах пекло негасимо, этот жар проливался в подвздошье, и вся телесная мочь медленно вышаивала, как уголье в печи.
От жалости у государя слеза навернулась. Он, не чинясь, не доставая из зепи шелковой фусточки, надушенной французскими вотками, смахнул влагу тыльной стороной ладони, хлюпнул носом. Но тут же пересилил слабость. В горле так пережало, что и голос захряснул.
– Подымешься, государыня. Вот те крест. – Перекрестился, добавил скрипуче: – Вспомни… И не так прижимало. Бог-от пасет. Неровен час и всякого загрызает немочь, да после и отпустит. Оклемается человек и снова как яблочко наливное.
Царица лежала, глубоко, бесплотно утонувши в постели, будто покоенка в белой домовине, покрытая смертными пеленами; из подушки выпячивался наружу заострившийся птичий нос. Две приступки, опушенные брусничным бархатом, вели к ложу; давно ли на руках нашивал жену в кровать и там горячо тешил ее, податливую и охочую до ласки.
– Нет, не подымуся, – помедлив, с тихой улыбкой возразила царица. Эта улыбка снова испугала государя.
– Не бери в ум, – горячо зашептал Алексей Михайлович. – Очнися от туги, душа моя. Все будет хорошо, слышь? Чего хоронишь себя допрежь времен? Почасту смерть за нами присылывает, другорядь и отступного вроде не даст. Да не всякого к себе забирывает. И она не вольна… Судьбы-то не перескочишь… Тебе, Марья Ильинична, помирать не время. У тебя детки по лавкам мал-малы, – бормотал государь, не решаясь выступить из-за кисейной завесы, будто хоронился за нею.
Вечер наплывал на Москву, и стрельчатые оконницы, взявшиеся морозным инеем, уже темно посинели. Свет паникадила загустел, пряно запахло воском и кровцою. Они вдруг замолчали, каждый думая будто и о своем, но мысли их сплетались. Нет, не смерти страшилась царица, но разлуки с благоверным… Тепа, ой тепа… Всяк тобою закусит да и выплюнет. Как без меня станешь?.. Грешна, ой грешна, богоданный, что отправляюсь не вем куда ранее тебя. До какой страсти приневолят архангелы, в какое место прикуют Тамотки? и коли взаболь не свидеться нам, вот и будет тот самый Страх, коего никакими медами не усластить…
Нутряной жар вдруг устремился из брюшины в гортань, забил голову, но зубы, плотно стиснутые, застучали в лихорадке, и неутолимый озноб скрутил сердешную. Словно бы льдом обложили Марьюшку с макушки до пяток, так стало студно ей. И поняла тут христовенькая, что часы осталось ей жить.
– Может, детей позвать? – спросил царь, невольно отхватился от сохи и вытаился из-за полога.
– Нет-нет, – спохватилась Марья Ильинична, приподнялась в подушках, выпростала из одеяльницы покатые полные плечи, прикрытые полотняной сорочкой. – Согрей меня, Алексей Михайлович. Муж богоданный, может, и сглупа что примолвила… Морозит, ишь ли, всю, а внутри жар баенный. Спеклася, как сдобная перепеча… Князинька мой, я была тебе женою верною, любила тебя, мое счастие. И ты пас меня без острастки, с охотою. Уж не похулю. Уж тут тебя не ославить, и помнить буду и по скончании века, и ждать Тамотки стану. Куда деться, милый? Куда мне деваться без тебя, Алексеюшко?! – вдруг вскричала государыня истлевающим нутряным голосом, едва распахивая жеваные в родильных муках белесые губы. – Не смотри на меня! Ой и страшная я! Вели, батюшко, гасить свет. К чему свет? От лампадок глаза щемит, водою смертной заливает…
Но не успел Алексей Михайлович и рта раскрыть, как что-то сдвинулось в государыне, будто махнули по лицу колонковой кистью, и по впалым щекам из серебряного бочоночка мазнули румян. Ах, да то ангел прилетел, прощаться пора. Марьюшка оживела, стала вовсе юной обличьем, будто на нее снизошла благая весть, дарующая долгой жизни; царица сшевельнулась в подушках, пытаясь приотодвинуть растекшееся беспомощное тело и уступить место. Ей казалось, что богоданный стоит где-то за тыщу поприщ от нее и не слышит сердечного зова. А государь действительно застыл истуканом у приступки, плечи, прикрытые лиловой епанчою, сникли, отекшие ноги налились свинцом; Алексею Михайловичу хотелось присесть, невидимая сила притягивала его к постели. Царь прислушался, ему почудилось, что в сенях хихикнула постельница; в неплотно притворенную дверь сквозило, стоявший у порога в медном коробье цветной ночник, недоправленный мовницей, угасал, пламя свечи меркло, заливалось воском… Все творилось вокруг государя как-то не по-Божески, по воле распустихи, злой молвы, сглазу и напуску; позавидовали лихие супостаты государеву счастию и взгромоздили на его дороге медяную гору, кою не обойти, не объехать… Надо комнатным боярыням дать встряски, чтоб не забывались: вишь вот, двери полы и всякому обавнику в опочиваленку прямой путь.
– Алеша, где-ка ты? – вдруг простонала царица потерянно, замрелое тело снова выгнулось рыбкою, подпруживая дыханье, и взялось крупной дрожью; Марьюшке показалось, что ее развалили саблей наполы, в подброшье у самой родильницы стало так тяжко, словно насовали туда дресвяных окатных каменьев, раскаленных в печи.
– Тут я, матушка, – прошептал царь. – И взаправду, знать, ты взялась болеть?
Алексей Михайлович грузно поднялся по ступенькам к ложу, откинул кисейный полог и с охотою опустился на край пуховой постели, стараясь не утонуть в ней; что-то подтолкнуло царя, и он, скидывая всякую чинность, порывисто принагнулся к жене, слепо нашаривая напухшие губы. Они оказались холодны, неотзывчивы и шершавы, как бы осыпанные дробным пашеном. Но царь пересилил мгновенную брезгливость, подтыкнул ладони под сголовьице, приподнял голову Марьюшки, прижал к груди.
– Але-ша, ой, Але-ша-а, – повторяла царица, уливаясь кроткими слезами. – Куда ты подевался, Але-ша?..
– Здесь я, Марьюшка. Эко тебя распалило. И куда лекаря-пройдохи смотрят?.. Я люблю тебя, княгинюшка, я тебя никуда не спущу…
– И не спускай… Веком бы так.
– Отдам нехристей в разбойный приказ… Считывают с черных книг лекаришки, да насылают, алгимеи, всякой призеры и напуску. А я вот не доглядел. Ты прости меня, государыня, и грехи мои отпусти.
Царь гладил болезную по тяжелым, каким-то остывшим, негнучим волосам; когда-то шелковые, с каштановым отливом косы он так любил распрядывать, а после расплескивать по плечам, погружая в их глубину ладони.
– Ты, батюшко, не страшись. Ты в рай прямо. Куда мне до тебя… А где и спотыкнулся ты, так не с осердки и не по распутству… Блазнило, и ты чурался, бежал прочь. И спотыкнулся. Это я грешница, прелюбодеица. И в смертный-то час охапила тебя, завистница, висну на шее…
– Очнися, матушка. Не клепли на себя понапрасну. Бог не оставит без призору твоей плодильницы, опечатает в свое время. Проснешься поутру, а уж здорова, как пасхальное яичико…
– Алеша, ты по мне шибко не убивайся. Хоть и была тебе пряником медовым… Долго не вдовей, не горюнься. Не насылай на царство печали и скорби. Веселися не натужно, коли нужда придет, и не постися через край. И Христос того завещал: де, чтоб не смел мирской человек напрасно плоть мучить… Гли, милый, на кого стал похож? – шептала государыня, водя тонким влажным перстом по мужней узловатой руке, по набухшим до черноты росстаням жил. – Солоного абы прокислого много не ешь, с того на воду позывает, – подсказывала государыня, как истинная домовица-большуха, отъезжающая накоротко по монастырям с богомольем. И ни тени печали в просветленных, уже не здешних глазах. – Да бери, Алексей Михайлович, в жены девку здоровую, непорченую, несглазливую, не из розлива московских шептунов, что видом агнец, а нутром волк. Да Ивана-то Мусина не обижай, блудня, далеко от себя не отсылывай парничка; хоть и сколотыш, но твоих, царских кровей. Не бойся, что люди скажут, но бойся, как Господь на то взглянет…
От последних слов смутился царь, кровь кинулась в лицо, и чтобы скрыть стыд и внезапные жалостные слезы, уткнулся в сголовьице, пряно пахнущее женою. Марью Ильинишну от долгих наставлений как бы опрокинуло в короткий сон, она забылась на миг, даже потеряв дыхание; и царь боялся сшевельнуться, чтобы не потревожить болезную. Он дышал в щеку супруге, и блазнило ему, что их слезы, так угодные Господу, сливаются в единый родник печали. Ах ты, Боже наш, помилуй нас.
А Марьюшка вдруг ясным голосом, будто и не задремывала, сказала государю, слегка колыбнувшись головою:
– Алексей Михайлович, приотодвинься от меня. Ты живой, а я смертью пахну… Попрыскай на меня из ароматника розовой водицей абы укропной. Ско-ро с трав-кой смешаю-ся… Посеюсь цветочком лазоревым под твой сапожок. Да ты не соступи на меня, слышь?
Государыня разжала кулачок, в нем, как в скудельнице, покоился запотевший камень египетской яшмы. Держалась за него до последнего, как за якорь спасения, да ишь ты, не пособил родименькой, но увлек на самое дно. Прислушалась к себе: кровотеча прервалась, да и откуда было взяться кровце, коли из самых глубинных боевых жил, омывающих сердце, источилась она по капле. Глаза у царицы округлились, а обочья свинцово посинели. Дыханье стало пресекаться, и больших усилий стоило выдавить каждое прощальное словцо.
– Детей позвать? – снова тревожно спросил государь, уже зная верно, что светлый ангел прилетел за женою. Марья Ильинична слабо улыбнулась, не ответила на вопрос.
– Сбрызни на меня французской воткою, – попросила настойчиво, едва шевеля языком, облизнула губы: ей и на смертном одре хотелось выглядеть перед благоверным приглядчивой. Вдруг боль покинула тело, льняной белизны лицо разгладилось, стало прозрачным, как стень; тонкая жилка, почасту, замирая, билась на впалом виске. Крупная, тельная, дебелая, государыня как-то скоро теряла очертания, погружаясь в крахмальную наволоку, в копешку хлопковой бумаги, невидимой для царева взгляда. Марьюшке еще что-то хотелось сказать важное, и она, уставя взгляд на подволоку, где Сын человеческий терпел крестные муки, вдруг добавила:
– Алеша… Алексей Михайлович… Государь… Простил бы ты всех бессловесных. Кто окромя тебя простит? Не гони на заклание, не пять под себя силком, милый. Втихую-то и ольху согнешь… Иль не слышишь, как стенает люд? Родницу свою, Федосью Прокопьевну, пощади. Пусть и дура баба, но никто из земных не властен душе ее…
– Я бы радешенек, да… – торопливо воскликнул государь и всхлипнул обиженно, по-детски, не в силах унять новых слез.
– Вот и хорошо. Вот и ладно…
Марья Ильинична устало смежила веки. Египетская яшма выкатилась из горсти на одеяльницу. Царь вздрогнул, решив, что отошла благоверная; взялся за шнур звонка, чтобы звать постельницу, но удержался. Торопливо подобрал камень, подул на него, протирая ладонью красные, холодно мерцающие искры, и зачем-то спрятал за пазуху в зепь. Марьюшка покоилась недвижная, тихо остывая. Царь скользнул взглядом по малахитовому прикроватному столику, в растворенном зеркале-складне увидал чье-то набухшее, усталое лицо с мешками под глазами, каштановую бороду клочом, на голове бархатная шапочка вздыбилась еломкой, будто под волосами прободились рожки… Ах, что же за зверь такой подглядывает за плечом? Государь даже обернулся с тревогою на сердце.
… Чего-то тебе втемяшилось, царь-государь? Знай, это Свет Божий вылепливает из потаенных сумерек твой истинный лик, коего ты страшишься. Почуй же, сердешный, самого себя сокровенного и ознобись от ужаса; озеночки багровы от кровавой росы, а в зеницах сам дьявол угнездился, злорадно усмехаясь…
Облик в зеркале, опушенном синим сукном, вдруг расплылся, утонул в сиреневой глуби, и понял Алексей Михайлович, что плачет нынче уж в который раз. Сквозь слезы высмотрел на столике хрустальные очки, когда-то подаренные им сыну Алексею, и, приставя к носу, сквозь шлифованные грани взглянул на жену; и увиделся ему алмазный сверкающий купол и внутри его крохотная невинная девочка с изумрудными глазами. Царь торопливо отнял очки, из костяного ароматника отлил на ладонь пряного травяного настоя и прыснул на жену. И Марья Ильинична вдруг сшевельнулась, открыла глаза; еще хотела что-то сказать, но язык не послушался ее…
Царь позвал комнатную боярыню и, поцеловав жену в губы, тайным переходом ушел к себе в Теремные покои. В опочивальне у него стоял сосуд каменный нефритовый, оправленный золотом. Египетскую яшму опустил в кубок, налил белого ренского вина, принесенного спальником, и выпил.