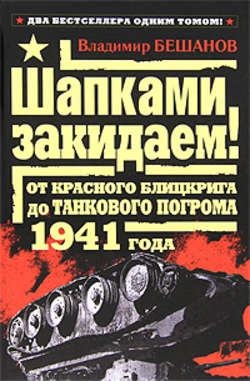Читать книгу Шапками закидаем! От Красного блицкрига до Танкового погрома 1941 года - Владимир Бешанов, Владимир Бешанов - Страница 8
КРАСНЫЙ БЛИЦКРИГ
УКРЕПЛЕНИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ ГРАНИЦ
Прибалтика под дулом пистолета
ОглавлениеНесмотря на то что советская и германская стороны обязались хранить «в строгом секрете» статьи дополнительного протокола к пакту о ненападении, слухи о состоявшемся в Москве разделе Восточной Европы возникли почти сразу, вызвав понятное беспокойство у руководства прибалтийских стран. Все они обратились за разъяснениями в представительства Германии и СССР. Сталинские и гитлеровские дипломаты дружно отрицали наличие каких-либо тайных договоренностей «на счет Прибалтийских республик».
В частности, германский посланник в Эстонии Х. Фровейн в беседе с министром иностранных дел Карлом Сельтером, состоявшейся 28 августа, сообщил: «Слухи о том, что будто бы при заключении пакта о ненападении между правительствами Германии и Советской России велись в какой-либо форме переговоры или заключались сделки в ущерб или за счет Эстонии и других государств Балтийского моря, не имеют никакой основы. Договор Германии и Советской России никоим образом не затрагивает и не наносит ущерба интересам Эстонии». Более того, именно пакт Молотова – Риббентропа «способствует устранению возможностей конфликта между прибалтийскими странами и их соседями», превращая Балтийское море в «регион мира». Красные полпреды, в свою очередь, ссылались «на выступления руководства и печати Советского Союза, на мирные традиции нашей внешней политики, на постоянное стремление Советского Союза помочь малым странам сохранить свое самостоятельное и независимое существование». Через два дня после немца Сельтера, с целью его правильной «ориентации», посетил советский полпред К.Н. Никитин, с возмущением заявивший, что «утверждения эстонских газет о красном империализме СССР и о том, что СССР желает оккупировать Эстонию, оказались вздорной, ничем не оправдываемой клеветой на СССР», и посоветовал министру приструнить ретивых газетчиков, «в ложном духе ориентирующих народные массы» и порочащих «мирное значение пакта и мирные намерения» Советского Союза.
Оценивая сложившуюся ситуацию, политические деятели сходились во мнении, что в силу непримиримости противоречий между большевистским и национал-социалистским режимами «заклятые друзья» скорее всего не заинтересованы в создании общей границы, а значит, странам Прибалтики предстоит играть роль некоего буфера между Германией и СССР. Как сообщал 5 сентября госсекретарю временный поверенный в делах США У. Леонард, «Министерство иностранных дел и начальник Генерального штаба Эстонии считают необоснованными слухи о секретном германо-советском соглашении, предусматривающем оккупацию Эстонии; они не верят, что нынешние перемещения советских войск на западной границе указывают на это». В обществе наблюдались самые противоречивые настроения: часть правящих и состоятельных кругов ориентировалась на сближение с Германией и даже на союз с ней, часть – симпатизировала Англии и Франции. Существовали группы, настроенные в пользу тесного сотрудничества с СССР. Но также несомненно, что основная масса населения, не возражая против того, чтобы заручиться поддержкой сильного союзника, желала бы сохранить и нейтралитет, и независимость собственной страны.
Начало войны в Европе усилило опасения прибалтов быть втянутыми в события и побудило ввести в действие законы о нейтралитете. Одновременно эти страны стали рассматривать возможность экономического сближения с СССР, предложив переговоры о расширении товарооборота и возможности транзита грузов через Беломоро-Балтийский канал и северные советские порты, ввиду вероятности превращения Балтийского моря в театр военных действий. 13 сентября в Москву для консультаций по этим вопросам выехал директор эстонского Департамента внешней торговли Мери.
17 сентября 1939 года Красная Армия перешла польско-советскую границу. В тот же день государствам, состоявшим в дипломатических отношениях с Советским Союзом, в том числе и прибалтийским, была вручена нота, в которой подчеркивалось, что «в отношениях с ними СССР будет проводить политику нейтралитета». Разгром и раздел Польши, продвижение советских границ на запад, явно продемонстрировавшие советско-германское взаимопонимание, поколебали уверенность эстонцев в прочности своего положения. Встревоженный Сельтер снова встретился с германским посланником, чтобы поделиться своими сомнениями. «Учитывая непредсказуемость поведения русских, – доносил Фровейн в Берлин, – невозможно предвидеть, не будет ли экспансия этого государства в Европе направлена также против прибалтийских государств. Возникает важный вопрос, захочет ли и сможет ли Германия в этих условиях оказать им помощь. Затем министр прочитал выдержку из турецкой газеты, в которой приводилось сообщение из Москвы, что будто бы Германия признала необходимость присоединения прибалтийских государств и их портов к Советской России. Я немедленно заявил, что это сообщение исходит от английских агентов и имеет ярко выраженный провокационный характер».
Между тем в Кремле Сталин и Молотов уже тщательно прорабатывали сценарий «территориально-политического переустройства» Эстонии и Латвии: им планировалось сделать предложения, от которых они просто не смогли бы отказаться. «Железо было горячо», и Вождь «ковал», куда там Гитлеру. Первой на очереди была «маленькая миролюбивая Эстония».
Формальной причиной для оказания на нее политического давления стал инцидент с польской подводной лодкой «Орел».
С началом боевых действий все пять субмарин ВМС Польши вышли на боевое патрулирование в выделенные им сектора Данцигской бухты с задачей воспрепятствовать высадке германских морских десантов в районе Хеля. Подводникам, поставленным собственным командованием в самые неблагоприятные условия, пришлось действовать на ограничивающем возможности маневрирования мелководье при полном господстве сил противника на море и в воздухе. При этом полученные командирами инструкции запрещали им торпедировать не имеющие вооружения немецкие транспорты без предварительного уведомления. В итоге, подвергнувшиеся неоднократным атакам и получившие повреждения, никаких боевых успехов польские лодки не добились, а 14 сентября им было приказано по исчерпании ресурсов прорываться в Англию или идти к берегам Швеции.
Ночью 15 сентября в Таллинскую гавань под предлогом неисправности механизмов вошла подводная лодка «Орел». На самом деле причиной тому послужили признаки тифа, выявленные у командира лодки капитана 3 ранга Х. Клочковского. Однако, согласно международным правилам, только авария либо бедствие могли служить достаточным основанием для захода боевого корабля одной из воюющих сторон в порт нейтрального государства, позволяя при этом избежать интернирования. Клочковского немедленно поместили в госпиталь. На следующий день, несмотря на протест польской дипломатической миссии, эстонские власти, стремясь к неукоснительному соблюдению своего нейтралитета, объявили, что лодка будет интернирована. На борт поднялись жандармы и военные моряки, приступившие к разоружению судна. Были изъяты замки орудий, артиллерийские снаряды, часть торпедного боезапаса, навигационные приборы, карты и книги; выставлены эстонские часовые. Экипаж с этим решением не смирился и под руководством старшего помощника Яна Грудзинского и минера Анджея Пясецкого разработал план побега. В ночь с 17 на 18 сентября «Орел» вырвался из плена и скрылся в неизвестном направлении, имея на борту шесть торпед, которые эстонцы не успели выгрузить.
Скандал разразился грандиозный. В Таллине началось громкое расследование с поисками виновных. Берлинские газеты писали о замученных и утопленных коварными поляками эстонских часовых. Но больше всех за свое судоходство «перепугался» Советский Союз. Москва обвинила власти Эстонии в попустительстве бегству «Орла», а также объявила, что, по данным достоверных источников, в гаванях Балтийских стран, пользуясь тайной поддержкой правительственных кругов, скрываются не только польские, но и подводные лодки «других известных государств».
19 сентября Молотов заявил эстонскому посланнику Аугусту Рею, что СССР возлагает ответственность за происшествие на Эстонию и Красный Балтийский флот будет искать эту лодку по всему Финскому заливу. Тем самым была установлена морская блокада Эстонской республики, в ходе которой в ее территориальные воды неоднократно вторгались советские эсминцы, увлеченные охотой за подводными лодками и, видимо, с той же целью обстреливавшие побережье. Советская авиация в поисках укрывшихся субмарин совершала обширные полеты над территорией Эстонии. Эстонские военные получили приказ огонь по нарушителям ни в коем случае не открывать, а политики всячески демонстрировали лояльность и выражали удовлетворение действиями ни с кем вроде бы не воюющего Советского Союза «во ограждение безопасности своего судоходства».
«Здесь опасаются, – телеграфировал 21 сентября из Таллина итальянский посланник, – что под предлогом этого факта советские корабли больше не (именно не) покинут эстонские воды и установят строгую блокаду берега, что может стать подготовкой последующей оккупации страны. Демонстрация флота и осуществляемая концентрация пограничных войск служат цели окончательно убедить эстонское правительство в бессмысленности любого противодействия. Эстонский министр иностранных дел сказал мне, что оценивает положение как серьезное, но не думает, что существует опасность советской оккупации».