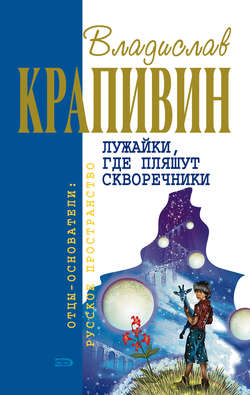Читать книгу Бабушкин внук и его братья - Жан-Батист Мольер, Владислав Крапивин - Страница 1
ДОСКА НА СЕДЬМОМ ЭТАЖЕ
ОглавлениеКогда я родился, бабушка хотела, чтобы меня назвали Алешей. Но это было никак нельзя. Мама и отец решили, что я буду Александром. И я стал Сашей.
Но бабушка, если мы были одни, часто называла меня Аликом. Алик ведь может быть и Александром, и Алексеем – одинаково…
И в летнем лагере меня стали звать Алькой. Услышали, как бабушка, когда она приезжалаодительский день, называла меня так, и многие это подхватили. Может, потому, что и без меня в отряде было восемь Саш, Сань и Шуриков.
Я не спорил. Мне и самому это нравилось.
И ребята нравились. И лагерь. Здесь было совсем не то, что в школе.
Можете считать меня кем угодно: злодеем, психом, садистом, но я понимаю тех молодых солдат, которые вдруг хватают автомат и – веером по своим обидчикам. По всей этой дембельской и дедовской сволочи, которая издевается над первогодками. Над теми, кто слабее.
Потому что я знаю по себе, как могут довести человека. И не в какой-нибудь там казарме, а в нашей замечательной школе-гимназии номер шесть – такой английской и такой джентльменской, такой музыкальной и такой танцевальной, такой знаменитой на весь город…
Первые три класса я проучился там нормально. Крепких друзей не завел, но и не приставал ко мне никто. Четвертого класса, как нынче водится, в гимназии не было, после начальной школы – сразу в пятый. В этом пятом люди оказались уже не те, что прежде, появилось много новеньких. Среди них – Мишка Лыков, которого все почему-то звали Лыкунчиком. Говорили, что папаша Лыкунчика ворочает делами в каком-то банке. Не знаю. Дорогими игрушками Лыкунчик не хвастался, в гимназию приезжал не на папиной машине, а на трамвае. И богатыми шмотками не выделялся.
Выделялся он другим – подлым характером. Любил повыделываться перед тем, кто не может дать сдачи. Самым таким неумеющим в классе оказался я. Потому что по натуре своей я – трус, никуда не денешься.
Лыкунчик это почуял быстро.
У него была компания приятелей, человек пять. Вот с ними-то он и начал меня изводить. А остальные помалкивали.
Изводили подло. Бить почти не били, только изредка дадут по шее или поваляют в сугробе. Но все эти щипки и тычки, подначки, дразнилки… Соберутся вокруг и давай припевать:
Милый мальчик, съешь конфетку
И утрись скорей салфеткой… -
и тряпкой, которой вытирают доску, по губам…
Потом деньги стали с меня трясти. Ну, я один раз отдал, сколько было:
– Подавитесь, только не лезьте!
Но они снова. Тогда я не выдержал, рассказал дома.
Бабушка пошла к нашей директорше. Лыкунчика и его друзей поругали. Даже папашу Лыкова вызывали, и был слух, что он дома Лыкунчику крепко врезал. Больше эта шайка денег с меня не требовала. Но изводить меня они стали еще пуще. То дымовуху мне в парту сунут, а потом вопят, что я сам принес. То в спортивной раздевалке одежду спрячут или брюки завяжут тугими узлами. То обступят на улице и опять:
Милый мальчик, съешь сосиску,
А не то отрежем …
И это на весь квартал.
Я старался уходить из школы крадучись, выбирал окольные переулки, чтобы не заметили, не догнали. А для них это – новая забава. Охота. Выслеживали и гонялись. А я убегал…
А что делать-то? Если бы честная драка, один на один, я бы как-нибудь скрутил свою боязливость. Но ведь их целая свора.
У Лыкунчика было круглое лицо и серые глаза с длинными, будто кукольными ресницами. Если не знать, то можно подумать: вполне нормальный пацан, славный такой.
Но я-то знал, какой он “нормальный”. Ох и ненавидел же я его! И всех его “шестерок”. И появись у меня автомат, я бы не дрогнул.
Так, по крайней мере, я думал тогда.
Автомат у меня, конечно, не появился. Говорят, на черном рынке можно добыть, но стоит это полтора миллиона. Я бы, наверно, не пожалел, но где возьмешь такие деньги? Да и не продадут мальчишке.
Но все же судьба сделала мне подарок. Не хуже автомата. Однажды, в начале апреля, они опять стаей погнались за мной.
Милый мальчик, съешь сосиску,
А не то …
И я бежал, всхлипывал и задыхался, а рюкзак с учебниками колотил меня по спине. И я думал, что скорее сдохну, чем завтра опять пойду в гимназию. Но до завтра надо было еще дожить. Я бежал к своему кварталу. И решил – напрямик через площадку, где стоит недостроенная кирпичная многоэтажка. А там до родного дома рукой подать.
Я оглянулся. Лыкунчик далеко опередил своих дружков. Те постепенно замедляли бег, а Лыкунчик мчался, как гончий пес. Видимо, гнал его повышенный охотничий азарт. Если догонит, то один…
И здесь на бегу обожгла меня (или наоборот – холодом обдала!) убийственная мысль. Я испугался ее отчаянно и в то же время – подчинился ей. Сразу!
В недостроенном корпусе мы с ребятами из нашего двора играли не раз. Работы были там остановлены, забор вокруг повален, сторожей – никаких, лазай кому не лень. И я знал, что на седьмом этаже есть доска. Толстая, широкая, перекинутая через верх квадратной кирпичной шахты. Шахта эта была пустой сверху донизу. Этакий широченный колодец, уходящий в подвальную глубину. Зачем она, мы не знали. Может, в ней собирались смонтировать грузовой лифт или какой-нибудь эскалатор. Говорили, что в этом доме собираются устроить почту.
Мы с мальчишками иногда ложились животами на кирпичное ограждение, смотрели в квадратную черноту и вскрикивали:
– Эй!..
В глубине отзывалось ленивое эхо.
Зачем через шахту перекинули доску, тоже никто не знал. Может, по ней с края на край перетаскивали какой-то груз, например, носилки с цементом или кирпичи. Но она была не закреплена. Просто лежала концами на барьере – он поднимался над полом седьмого этажа на полметра.
Однажды Семка Расковалов (тоже пятиклассник, но из другой школы) потрогал край доски и задумчиво так сказал:
– Интересно, есть на свете человек, который мог бы пройти по ней?
– Цирковой канатоходец – запросто, – отозвался Семкин друг Вовчик Матвеев.
– Я не про циркового, а про нормального человека, – недовольно сказал Семка.
Тогда я вскочил на кирпичный край. И увидел широченные глаза маленького Ивки. Он открыл рот, будто хотел сказать “не надо”, но потерял голос.
Я вообще-то трус, но высоты не боюсь ничуточки. Правда, меня укачивает в самолете, но это не от боязни падения, а от чего-то другого. Бабушка говорит – от перепадов давления.
Ну, вот я вспрыгнул и пошел. Доска прогибалась, но не очень. Да и длина-то – всего семь шагов! Я прошел их, можно сказать, играючи. Даже никакого замирания не почувствовал. Вернее, почувствовал, но уже после, когда прыгнул на пол.
Прыгнул – и опять увидел Ивкины глаза, большущие и со слезами. Ивка был без шапки, и волосы его, светлые и легкие, были странно приподняты. Наверно, про это и говорят “встали дыбом”.
Ивка вцепился в мой рукав и шепотом сказал:
– Ты больше никогда… Ладно?
– Ладно, – пообещал я, чтобы он не заплакал.
– Ну, ты герой, – выдохнул Семка.
Я сказал:
– Герой – это когда боишься и все равно идешь, назло страху. А если не страшно, какое геройство?
Семка и Вовчик замигали, обдумывая такую мысль.
– Давайте скинем вниз эту доску, – насупленно предложил Ивка.
– Грохот будет, взрослые прибегут, – рассудил Вовчик.
– Ивка, не бойся, я правда больше не буду, – снова пообещал я.
Но теперь я знал, что нарушу обещание. Меня толкала ненависть и… радость. Сейчас ты добегаешься, Лыкунчик!
Я взлетел по лестничным пролетам на седьмой этаж. Лыкунчик не отставал. И я понял – не отстанет. Обогнуть шахту было нельзя: слева мятая арматурная сетка, справа нагромождение лесов.
Я проскочил доску с лету, в один миг. И сразу обернулся, замер.
Да, Лыкунчик не остановился. Азарт, видать, был сильнее ума. Или он просто не понял сгоряча, над ч е м этот мостик. Лыкунчик вскочил на доску – и за мной. Но… то ли доска прогнулась чересчур (он был тяжелее меня), то ли он как бы ударился о мой встречный взгляд. Замер посреди доски. Покачнулся и встал очень-очень прямо. И смотрел на меня во-от такими глазищами. И рот разинул…
А я упирался каблуком в конец доски.
Видимо, кто-то недавно двигал ее – конец, что лежал на кирпичах, был совсем короткий, сантиметров пять от края. И не надо никакого автомата. Чуть нажал – и…
Никто не заподозрит меня. Я убегал, а он гнался! Я проскочил по доске, а он не сумел! Ни один человек не подумает, что я виноват, когда его, Лыкунчика, подберут внизу на груде битых кирпичей.
Я смотрел на него неотрывно. Он все сразу понял.
“Что, Лыкунчик, не хочется падать, да? А может, ты надеешься, что это не насмерть? Не надейся, здесь двадцать метров…”
Да, ровно двадцать. Мы мерили, капроновый шнур специально принесли для этого. Он и сейчас здесь, в тайнике между двух кирпичей, мы спрятали для игры…
Небо в оконных проемах было уже синее, весеннее. И солнце яркое-яркое. Но это было не его, не Лыкунчика, небо и солнце. Его была только черная квадратная глубина над доской.
Лыкунчик беззвучно заплакал. Он не морщил лица, не жмурился, просто слезы побежали струйками из его вытаращенных глаз. И стали падать с подбородка.
Потом он качнулся и замахал руками.
– Сядь, дурак! – громко сказал я. – Сядь, схватись за края!
Он сел. Захлопнул рот, закусил губу. Но из глаз все бежало. Куртка его была распахнута. Я вдруг увидел, как на серых брюках спереди, между ног, разрослось темное сырое пятно. Лыкунчик всхлипнул, уперся в доску руками и заерзал: наверно, хотел таким образом добраться до края.
– Замри, балда!
Конец доски опасно шевелился. Еще чуть-чуть – и вниз. Потянуть на себя? А если не справлюсь, только хуже сделаю? Или дерну – и сорвется другой конец?
– Не двигайся!.. Не смотри вниз, закрой глаза!
Он послушно закрыл.
– Сиди и жди! Я сейчас…
Отбежав, я выхватил из-за кирпичей моток шнура.
– Сейчас брошу, ты поймаешь… Только без дерганья!
Он открыл глаза и закивал.
– Не дрыгайся! Лови!..
Лыкунчик правой рукой поймал конец.
– Теперь обвяжи себя под мышками. Осторожно…
Пришлось Лыкунчику отцепить от доски и вторую руку. Он опять зажмурился, но все же обмотал себя на уровне груди, завязал два узла. Трясущимися пальцами.
Я отступил, слегка натянул шнур и намотал его на штырь, торчащий из крепкой балки лесов. Теперь, если Лыкунчик сорвется, то не страшно – повиснет и поболтается, а я его вытяну. Веревка выдержит.
– Ну, давай. Ползи.
И Лыкунчик заелозил вперед, упираясь руками. При этом наверняка всаживал занозы в штаны и глубже. Но я не злорадствовал. Мне надо было одно – чтобы Лыкунчик остался жив. Потому что непонятнее всего на свете – если человек только что был живой и вдруг сразу мертвый. Даже такой гад, как Лыкунчик… Да и не был он сейчас гадом – перепуганный, зареванный, с мокрым пятном на штанах.
Да, я не злорадствовал и не геройствовал. Правда, мелькнула все же мысль: “Больше не будешь петь про сосиску…” Но мелькнула и пропала. Лишь бы выбрался…
Наконец Лыкунчик упал животом на кирпичную кромку. Я вцепился в его куртку. Вот тогда конец доски сорвался, и она с гулом ушла вниз, грянулась там.
Но никто не прибежал. И дружки Лыкунчика были неизвестно где. Видимо, они не знали, куда мы подевались.
Лыкунчик полежал, отдышался. Встал.
– Идем, – сказал я.
– Куда? – Он посмотрел вниз, на штаны: сырость достигла колен.
– Там внизу лужа. Упадешь в нее будто случайно. С кем не бывает…
Он посмотрел на меня, кажется, с благодарностью. А как он еще должен был смотреть?
Мы спустились, выбрались наружу из окна первого этажа. Вокруг серели груды талого снега, хотя на припеке уже расцвела мать-и-мачеха. У железной бочки с остатками извести скопилась мутная вода.
– Толкни меня, – сдавленно попросил Лыкунчик.
Я толкнул. Надо сказать, от души постарался. Лыкунчик ненатурально взмахнул руками, упал на колени, а потом животом – прямо в воду.
– Вставай! – почему-то испугался я.
Лыкунчик встал, с него текло. К штанам, куртке и рубашке прилипла грязь, глиняные ошметки.
– Папаша меня за это изничтожит вконец, – глухо признался Лыкунчик. – За куртку он пол-лимона высадил. Французская…
“А по виду и не скажешь. Самая обыкновенная”,– мелькнуло у меня.
– Пошли ко мне. Постираешь, отчистишь…
Лыкунчик глянул удивленно.
– Пошли, – повторил я.
– А дома у тебя что скажут?
– Ничего не скажут. Родители на работе, бабушка в гостях, никого не будет до вечера.
Конечно, во мне уже копошилась этакая горделивость: недавно еще убегал, как заяц, а теперь стал благородным спасителем, помиловал своего врага. Но копошилась она так, слегка. А главное было то, что мне было просто жаль Мишку Лыкова, который сделался совсем непохожим на прежнего Лыкунчика.
Дома я нагрел в газовой колонке воды. Жилье наше было старое, деревянное, поэтому ванна с таким вот несовременным устройством. Дал я Мишке мыло, чтобы он выстирал одежду. Потом посоветовал и самому ему забраться в ванну, потому что заляпался он здорово.
Лыкунчик не спорил.
Горячим утюгом мы высушили и отгладили брюки и рубашку Лыкунчика. С курткой было хуже, ее ведь не выстираешь. Как могли, мы посушили ее у горячей колонки, потом почистили, но все же местами она осталась замызганной.
– Может, обойдется, – вздохнул Лыкунчик.
Пока он мылся, я сходил наверх, в мезонин, достал из бабушкиного комода банное полотенце и заодно включил магнитофон. На полную громкость. Запись группы “Левый локоть”. Вообще-то я не очень ее люблю, но решил, что для нынешнего случая в самый раз. Не Спивакова же ставить для этого Лыкова!
Лыкунчик, когда выбрался из ванной, поднял к потолку голову:
– Кто это там у тебя?
– Не слышишь разве? “Левые локти”, новые знаменитости…
– А слушает-то кто? Ты же говорил, что никого нет!
И тут меня словно толкнуло:
– А! Это брат пришел, пока ты там барахтался!
– Какой брат?
– Какой-какой! Старший. Алексей… Да ты не бойся, он сюда не спустится. Он если музыку слушает… его от колонок за уши не оттащишь.
– Парни говорили, что у тебя нет никакого брата, – неловко выговорил Лыкунчик. – Мол, ты один у бабушки…
– Как это нет! Да ты его зимой видел! Такой высокий, с веснушками…
Лыкунчик мигнул. Видать, вспомнил. Зимой они пихали меня головой в заснеженный газон, а тут подошел “высокий с веснушками” и шуганул их. Но это был не мой брат, а Ивкин. Митя. Только Лыкунчик этого, конечно, не знал. Поверил.
Но все же он спросил:
– А чего ж тогда… – И осекся.
Я понял: “А чего ж тогда он заступился всего один раз и больше не вмешивался, когда мы тебя изводили?”
– Он в Москве учится, в декабре приезжал на пару дней, повидаться. А сейчас у него преддипломная практика, ему разрешили писать диплом дома.
Ловко я вывернулся, да? Быстро так и правдоподобно.
Мы оба снова посмотрели на потолок. “Левые локти” пели, как глупо устроены люди: все время убивают друг друга.
– Ты не бойся, – снисходительно повторил я.
– Да я и не боюсь, – сказал Лыкунчик не очень уверенно.
Когда Лыкунчик уходил, на пороге он посопел и неуверенно протянул руку.
– Ты… это… Про то, что было раньше, забудь, ладно?
– Чего там, – сказал я и мысленно добавил: “Главное, что ты живой”.
Потом я до вечера думал про то, что случилось. Даже размечтался: может, Лыкунчик вовсе не плохой парень и мы сделаемся друзьями…
Ну, ладно, друзьями там или нет, но уж лезть ко мне он больше не станет.
На следующее утро я шел в гимназию, как говорится, “со свободным дыханием”. Без всякого страха и уныния – чуть ли не впервые за весь учебный год. Лыкунчик мне кивнул довольно дружелюбно, хотя в разговор и не вступил. Ну, это и понятно. Все же неловко ему за вчерашнее. Дружки Лыкунчика меня будто не замечали.
С последнего урока нас отправили в медицинский кабинет – делать прививки от энцефалита. Уже вторые в этом году. Кто-то заныл и заспорил. Но я спорить не стал: в июне я собирался в летний лагерь, а там клеща подцепить проще простого. А Лыкунчик пробовал упираться: это, мол, дело добровольное – не хочу и не пойду. Но наша классная пообещала позвонить отцу и узнать, как тот относится к принципу добровольности. Лыкунчик поежился и пошел…
Мой укол к вечеру заболел, даже температура слегка поднялась. Утром я объявил, что “болит по-прежнему” и по этой причине в школу я идти не могу. Бабушка меня поддержала.
Весь день я с удовольствием провалялся в кровати с книжкой про пиратов Карибского моря. И порой для видимости постанывал. Пока бабушка не сообщила, что ничего у меня не болит и что она это прекрасно знает, а на уроки не ходить разрешила потому, что в детстве сама была не прочь прогулять школу.
– Да, мы с тобой понимаем друг друга, – с удовольствием сказал я.
В шесть часов пришел отец. Я и бабушка на кухне пили чай с ванильными сухариками и смородиновым вареньем. Отец посмотрел на меня как-то очень внимательно.
– Ольга Георгиевна, могу я поговорить с сыном один на один?
– Кто же вам не дает? Странно даже…
Отец поманил меня в их с мамой комнату. Я ничего не понимал. Струхнул даже. Отец откинулся в кресле, помолчал и сказал:
– Непонятное дело. Меня вызывали к вашему директору. Она говорит, что ты позавчера избил своего одноклассника Лыкова…
Меня – будто подушкой по голове. Даже пошатнулся.
– Я? Избил?!
– Так говорят.
– Кто говорит? Да ты видел этого Лыкова? Он сильнее меня в два раза, бугай такой! Он тот гад, который ко мне все время прискребался!
Отец поморщился.
– Оставь эту… терминологию тинейджеров. И послушай. Вчера он разделся для прививки – и у него спина в следах от побоев. И он сказал, что вы подрались на улице, он упал в лужу, а ты испугался и повел его к нам домой, заманил в ванную, а потом… вот тут самое непонятное. Он утверждает, что вы били его ремнем вдвоем с братом. С высоким веснушчатым парнем по имени Алексей.
– Ну и скотина… – выдохнул я. – Подонок! Я его спас, а он…
И тут я заревел. Как первоклассник.
– Перестань, – потребовал отец. – И расскажи, что было на самом деле.
Реветь я перестал не сразу, не так-то это просто. И рассказывал сквозь слезы. Но все откровенно. А чего скрывать, если не виноват!
Хотя кое-что все же скрыл. Не сказал про свои мечты об автомате и про то, зачем заманил Лыкунчика на доску. Объяснил, что просто хотел оторваться от погони.
– Думал, он не решится… там, через шахту…
Отец не перебивал. А потом сказал, что трюк с доской – это идиотская выходка и чтобы я больше не смел так глупо рисковать. Но в глубине души, по-моему, он был доволен, что я не совсем трус. Помолчал и признался:
– Я сразу понял, что здесь что-то не то. Так и заявил директрисе. Сказал, что позавчера ты был дома один и никого избить не мог…
– Его наверняка папаша взгрел! За грязную куртку! А он побоялся сказать про отца, вот и все! Или решил мне отомстить… за то, что оказался передо мной…такой вот, беспомощный… А я-то с ним возился, когда он в штаны напустил… – И опять я всхлипнул. И снова отец поморщился.
– Ладно, все это ерунда. Вашей Валентине Константиновне я все объясню. Истина, как говорится, всплывет на поверхность. А теперь скажи-ка все-таки самое главное…
– Что?
– Откуда ты узнал про брата?
– Про какого?
– Про Алексея.
Оказалось, что у меня и правда есть старший брат Алеша (только без веснушек). Дело в том, что папа был женат дважды. Я про это слышал и раньше. Но я никогда не знал, что у отца и той женщины есть сын.
Сейчас отец изложил мне это сухо и будто через силу. Но я видел, что это просто от неловкости.
– Он живет с матерью в Калуге. Заканчивает школу. Ему восемнадцатый год…
– Почему вы мне раньше ничего не говорили?! – Я был ошарашен.
– Мама не хотела. И бабушка. Они считали, что та моя жизнь – дело прошлое и нашей семьи не должно касаться. На этих условиях мама и согласилась выйти за меня… Но надо отдать ей справедливость: она не спорила, когда я уезжал, чтобы повидаться с Алексеем.
Понятно теперь, почему меня не назвали Алешей. Не могут быть два Алеши у одного отца.
– Целых одиннадцать лет я не знал, что у меня есть брат!
– Да. Это… было неправильно. Но я обещал. Я бы и дальше молчал, но сейчас мне показалось, что ты все уже знаешь. Решил, что поэтому ты и сказал о брате тому… Лыкову…
– Нет. Это просто такое вот совпадение, папа…
На следующий день я разболелся по-настоящему. Может, от переживаний. В гимназию опять не пошел. И с утра до вечера укорял бабушку за то, что она всю мою жизнь водила меня за нос.
Бабушка оправдывалась и ссылалась на маму.
Но с мамой про Алексея говорить я не стал. Понимал, что в этом случае у них с отцом начнется “выяснение позиций”. Мама у меня очень красивая и потому очень решительная. Хорошо, что мое воспитание она передоверила бабушке, а то всегда ходил бы по струночке.
А потом, через день, я вдруг успокоился. Ведь ничего в моей жизни не изменилось. Ну и что же, что брат? Во-первых, не совсем родной, а только наполовину. Во-вторых, далеко. В-третьих, гораздо старше меня, у него небось девицы и дискотеки на уме, а малолетние родственники ему в друзья не годятся.
Мама к тому, что секрет открылся, отнеслась довольно спокойно: “Вот и хорошо, одной проблемой меньше”.
Теперь отец мог без утайки звонить в Калугу. Раза два говорил с Алексеем и я. Но разговоры были ничего не значащие: “Привет!” – “Привет!” – “А я и не знал, что у меня есть брат…” – “Ну, ничего, теперь знаешь…” – “Может, когда-нибудь увидимся…” – “Обязательно увидимся. Возможно, этим летом. Вот поступлю в институт…” – “А ты куда будешь поступать?” – “Наверно, в политехнический”. – “Ну, ни пуха ни пера”. – “Ага. К черту…”
Это первый такой был разговор. Но и второй в том же духе. Алексей признался, что он-то знал про меня с младенчества и не раз спрашивал про меня у отца. Но меня такое внимание почему-то не очень тронуло.
К нашей директорше меня не вызывали. Видимо, она во всем разобралась сама. Вот и хорошо. Не очень-то мне хотелось с ней беседовать, с нашей твердокаменной Валентиной Константиновной. Я бы, чего доброго, разревелся там, как при отце. Или наоборот, вскипел бы и наговорил чего-нибудь “вызывающего”.
Лыкунчик меня не задевал и не глядел на меня. Его приятели – тоже. Ну и прекрасно! Ничего другого мне и не надо было от этого предателя.
Конечно, предатель!.. И все же я ни разу не пожалел, что там, на седьмом этаже, не ударил каблуком по доске. Как бы я сейчас жил? Иногда мне снилось, что я все-таки ударил. Будто никто этого не знает, но я все время помню разможженное тело Лыкунчика на кирпичах. “Убийца…Убийца…”
Да на кой черт он мне сдался, чтобы я из-за него всю жизнь потом мучился!..
Впрочем, ну его, Лыкунчика. Больше в моем рассказе его не будет.
Я благополучно окончил пятый класс и в начале июля уехал в летний лагерь “Богатырская застава”.