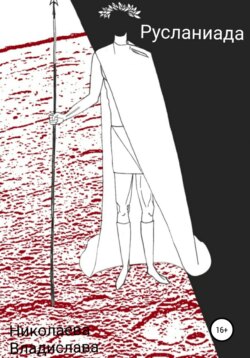Читать книгу Русланиада - Владислава Николаева - Страница 2
Ларь
ОглавлениеСердце плакало. Надрывалось от боли. Тщетность приводила в оцепенение. Руки застывали, как от парализующего яда. Довелось отведать однажды в молодости. Мне стало так плохо, так плохо. Ох, для чего всё было? Для чего был труд, для чего радость выполненного долга? Я посвятил целый день работе и что получил? Нет ничего более убивающего, сводящего с ума, чем долгая, напрасная, сведённая на нет работа, работа, приведшая в никуда, ни к чему…
Хорошо, что никто не видит моей беспомощности, моего отчаяния. Не видит и не знает, что был момент слабости.
Ох, я снова почувствовал себя ничтожно слабым. Что я могу в этой жизни? Достойно выполнять свою работу. Моё предназначение, мой долг… Но и что с того, когда она совершенно ничего не стоит, когда её так просто растоптать, превратить в ничто, в ноль, в шиш…
Я жался в комок, подтягивая колени к подбородку, глотал непрошенные слёзы, а они бежали, скудные, маленькие, лились по высохшему от старости лицу. Давно мне не было так плохо. Я чувствовал себя несчастным. Много лет не испытывал подобного. Момент слабости в действительности длился долгие часы, и глупо было называть своё оцепенение мгновением, ведь обманывать кроме себя было некого.
В произошедшем не было моей вины. Я сделал, что должен был, и занялся новым делом, я не мог предугадать, что он появится. Кто мог? Может, Хозяин. Он много видит, много знает, но о таких вещах не говорит. Мы видим его нечасто… Но этот появился когда-то.
Как обычно никто не мог вспомнить, когда именно появился новый слуга. Он просто возник, как и все мы, немой и неловкий. Хозяйка сразу его невзлюбила. Тем вечером, когда я впервые увидел его, она хлестала его уздечкой по щекам в чулане рядом с ларцом. Меня не удивило, что его приняли в услужение. У него было осмысленное лицо, он был молод и здоров. Имея для начала эти качества, можно стать достойным работником.
Но потом он отшатнулся. Как мог он? Когда хозяйка столь недвусмысленно взялась учить его уму-разуму? Я успел возмутиться отступничеству очень кратко. У меня перед глазами всё застыло. Я уже понимал, что случится, но отказывался в это верить. Я сам готовил запасы, сам собирал один к одному аккуратные ровные плоды, мыл в ключевой воде, обтирал голыми ладонями, сушил под свежим ветерком, обваривал, солил, держал под гнётом с пряностями, бережно расставлял по полкам. Мне доверили заготовку, как одному из самых опытных, самых надёжных, самых верных…
Боковая часть шкафа крякнула, выскользнула щепа, лишая опоры третью полку, склянки с соленьями неотвратимо покатились вправо и вниз, с оглушительными хлопками приземляясь на вторую полку, заодно разбивая её содержимое. Конец третьей полки с грохотом проломил нижнюю доску, стенки шкафа накренились внутрь, все до одной полки треснули, склянки влажно попадали на каменный пол, оставляя скользкие и оскольчатые кляксы.
Хозяйка резво отскочила, бешено распахнув глаза и тяжело дыша. Новый слуга стоял на том же месте, под его рубахой виднелось розовое. Ему тоже досталось, но мне от того не стало легче. Я смотрел на пол в немом оцепенении, лишённый возможности передать голосом своё горе.
– Тварь! Наглая тварь! Паршивец! Паскудник! Чего задумал, гнида?! Убить меня?! Сука, поганец, гад, дебил, имбицил, кретин, ублюдок, сучье отродье, ублюдок сучий, сын суки, сучий сын…
Хозяйка долго могла сквернословить. Мы стояли вдоль обрызганных рассолом стен, сложив у животов руки и с замиранием сердец ждали её гнева, её ругательств, её распоряжений. Она стояла в центре в дорогом распахнутом халате цвета крови, щедро вышитый подол которого тоже был мокрый от маринада, с белеющими разводами от соли. Стояла далеко выставив вперёд ногу в туфле с открытым мыском и пяткой. Пальцы с кроваво-багровыми ногтями мокли в луже, мок низ полупрозрачных шаровар с золотыми каплями. Колдунья видеть нас не желала, но всё же следила, как раненый собирал порушенные плоды моих трудов в старенькое корытце. Следила, наполняя тяжёлую тишину нелестными прозвищами. Я тоже смотрел в рядах остальных – хозяйка велела наблюдать. Тот, новый, порезанный, ползал на коленях по коварным лужам. Мутная от пряностей жидкость скрывала прозрачные осколки стекла. Нелепые узкие штаны на коленях промокли, но пока не окрашивались красным. Пальцы сгребали кусочки без разбора, овощи, ягоды, специи, стекло. Съедобное превратилось в несъедобное. Хозяйка тоже что-то такое подумала.
– Жри!
Голос её отчего-то часто шипел, хрипел и каркал. Думаю, она просто не могла говорить по-человечески из-за переполнявшей её нечеловеческой злобы.
Слуга медленно выудил кусочек из горы стекла и маринада, поднёс к губам.
– Ешшшь! – прошипела колдунья по-змеиному. Её лицо свело судорогой, перекосило, она даже перестала походить на женщину. С таким перекошенным лицом скроила отталкивающую дикую улыбку.
Он проглотил не пережёвывая. Не знаю, насколько удачна была мысль, зубам по моему разумению от стекла вреда меньше, чем мягкому нутру. Но не мне его учить есть осколки – мне и не доводилось по счастью. Ещё ни разу не угораздило провиниться так крепко, так неудачно, так неловко и разрушительно.
Он поморщился. То ли почувствовал боль, то ли только предчувствовал её.
В то время моё оцепенение помаленьку стало охлынивать. Как когда в момент наивысшей боли, ничего сначала не чувствуешь, только не можешь ни слова вымолвить, и вдруг боль входит в осмысляемые рамки, и ты уже можешь закричать или хотя бы замычать. Я готов был кричать, но не мог, конечно.
Должно быть, парень был не совсем здоров, и я рано приписал ему смышлёность. Ему явно была свойственна если не серьёзная умственная болезнь, то некоторая заторможенность. Он долго и медленно равнодушно ел, без разбору захватывая с овощами преимущественно треугольные куски стекла. Его взгляд вперился в одну точку. На лице застыло отрешенное выражение. Меня осенила догадка, что он вообще не понимает, где находится. Лучше бы он, проклятый, вообще здесь не появлялся.
Хозяйке это наконец опостылело, да и нам многим уже было невмоготу созерцать молчаливый пир юродивого. По знаку колдуньи крышка ларца встала на дыбы. Я привычно провалился в неосязаемую черноту.
Где-то здесь же, в ларце, были и остальные. Был ли тут юродивый, не знаю. Если он внутри, то стал частью нашей братии, пусть ненадолго с таким-то началом службы. Если остался снаружи – уже умер. За пределами волшебного ларца осколки издырявят стенки желудка и устроят самый кровавый запор в истории запоров.
Когда-то давно, когда я ещё был молод, и мне доверяли лишь простые поручения, я помогал на кухне. Хозяйка принимала гостя, но вдруг покинула залу и вошла на кухню, мы ждали распоряжений, но она лишь выудила из-за пазухи мешочек и высыпала в блюдо сверкающую пыль. Старый слуга, которого уже нет, всё перемешал, не дожидаясь указаний.
Хозяйка была приветлива в тот день, она ведь красивая женщина, несмотря ни на что; вела приятный разговор. Гость слушал её и с аппетитом ел, проголодавшись с долгой дороги. Под конец ужина он посерел в лице, хотя и продолжал улыбаться дружелюбно хозяйке дома, своей отравительнице. Драгоценная пыль уже убивала его.
Мне поручили закопать его в свинарнике. Он ещё был тёплый, из него лилась кровь.
Больше гостей в доме не бывало. Должно быть, хозяин узнал о случившемся и запретил жене злодейство. Он хороший человек, строгий, непонятно только, как он столькое прощал своей ненасытной колдунье. Любовь. Благородное сердце не перестаёт любить. Хозяйка, надо сказать, при хозяине вела себя иначе, была учтива и ласкова, совсем не такая, как с нами. Вряд ли он знал, что она вытворяет со слугами, когда он выходит за порог.
Мы немы.
Без всякого предупреждения чернота сменилась ослепляюще серым. Хозяин ушёл, и хозяйка раскрыла ларец. Он был маленьким, потускневшим от времени, только замок был ещё крепок, и крышка прилегала плотно.
Меня толкнули в спину. Движение сегодня давалось с трудом, я похромал в сторону с дороги, пропуская молодых. Суставы скрипели, как ножки рассохшейся скамьи. Надо срочно найти работу. Я решил сегодня сделать себе поблажку, раньше я не позволял себе такого и естественно чувствовал уколы стыда, но иначе мне было не справиться, не сегодня.
Я огляделся по сторонам и застыл. Юродивый стоял посреди комнаты, мешая всем, и чесал затылок. Настораживало, как прямо он держался. Ларец не даёт умереть и только, от боли он не избавляет. Лужённый у юродивого желудок.
Хозяйка тоже смотрела на него с подозрением, даже упустила из виду, что я замешкался без дела. Одежда на ней была другая, и шаровары, и халат, и туфли, и узкая повязка на груди, которая едва ли пострадала во вчерашнем безобразии. Кому-то сегодня предстоит отстирывать соляные разводы с дорогой ткани… Знал бы, на что пойдут мои труды, вообще бы соли не клал…
Наконец, я сообразил, что мне делать, и поспешил в кладовую. Дверь оставил полуоткрытой – боюсь закрытых помещений, страшно, безвыходно, одиноко. Куда лучше в больших светлых комнатах хозяйской части.
Из залы доносились звуки ударов и злая ругань. Хозяйка принялась учить жизни. Кого именно она выбрала для битья, раздумывать не приходилось. Через некоторое время всё стихло.
Я уселся в уголке перебирать семена. Занятие было удивительно мирным и успокаивающим, можно было ни о чём не думать и не смотреть по сторонам. Прягва, дорсо, морва, кальма, морва, морва, дорсо, прягва, кальма, кальма, кальма, кальма, дорсо, кальма, прягва, дорсо, прягва, кальма, морва, кальма, прягва, дорсо, прягва… Мы сразу собирали их в четыре мешка, но хозяйка специально смешала. Дорсо, кальма, прягва, прягва, дорсо, прягва… Зёрнышко к зёрнышку. Прягва, дорсо, дорсо, кальма, прягва, дорсо, морва, морва, дорсо, прягва, дорсо, кальма, прягва, морва, дорсо…
Так и просидел до вечера. Старался ни о чём не думать. Ни о погубленных трудах, ни о дорогой ткани нарядов колдуньи, которые могут полинять и вытянуться от стирки, ни ноющих суставах.
– В ларец, живо! – распорядилась хозяйка. Я поспешил на голос.
Крышка захлопывалась неслышно и невидимо и открывалась также. В ларце мысли вернулись. Я позабыл времена, когда мог заснуть. Не знаю, сколько мне лет. Должно быть, много. Руки уже не те, суставы распухли, да и бессонница зачастила.
Моя память содержит тысячи ужасно похожих и непохожих дней. Безвременье ларца выплёвывает меня в утро и проглатывает вечером по приказу колдуньи. Когда-то я ненавидел её, но с возрастом пылкие страсти во мне поутихли. Раньше я представлял, как она умирает, пронзённая мечом. Сейчас я понимаю, что это блажь. За годы она не состарилась ни на день и нисколько не изменилась нравом, в отличие от меня. Я стал мудрее и сдержаннее. Вот и о юнце стоило позабыть, убогий ведь не со зла. В убогих, говорят, зла ни грамма. Они всё делают по недоумению – соображают долго, да не метко. Долго ему на свете не задержаться. Полтора дня в услужении и второе избиение. Своеобразное достижение. Не заметил, вернулся ли он в ларец, но да это часто можно узнать только утром.
Стоило немного успокоиться, и утро пришло в два раза быстрее, чем вчера. Я размял скрипучие коленки. Сегодня было сносно, можно было и на улице поработать.
Хозяйка налетела как фурия. Сдёрнула туфельку без задника с узкой ступни. Железный кончик каблучка замелькал в воздухе. Юродивый пережил вчерашний день, но я похоже упустил из виду его новую провинность, погрузившись в умиротворяющий разбор семян. Тонкая рука безжалостно колотила беззащитное плечо.
– Ааааааа!!! – в ярости завизжала хозяйка, не видя в глазах жертвы ни страха, ни боли.
Умный бы покорился, дал колдунье почувствовать, что она владеет ситуацией, хотя бы чтобы она прекратила побои. У хозяйки тяжёлая рука. Не всякий мужчина сможет ударить кастетом с такой силой и злостью, как она туфелькой. Юродивому ума не хватало покориться, в отличие от здоровья. Стоял, не двигаясь с места, и тупо и упёрто смотрел на колдунью. Видимо, часто бивали. Во всяком случае, обращение хозяйки его ничуть не удивляло.
– Ааааа! – вскрикнула хозяйка, швыряя туфлю в окно. – АААААААА!!! – заголосила она, оглушая. Её уже было не удержать. Она оттягивала вниз полу платья и прыгала на месте. – ААААААААААААААААААААААААА!!!
Стекла задрожали в рамах.
– ААААААААААААААААААААААААААААА!!!
– ААААААААААААААААААААААА!!!
Стёкла вылетели из рам одно за другим. Осколки посыпались на улицу, стеклянным градом, уничтожая цветник.
Я не мог более выносить этот звук – заткнул уши пальцами. Они были мокрые. Недоуменно посмотрел на руки – кровь. Колени подкосились, я рухнул на пол, как подрубленный.
Как спелые орехи посыпались светильники из ларты. Нехорошо, ларта мягкая, если помнётся, потом не выправишь, чтобы незаметно вышло. Хозяин расстроится.
– ААААААААААААА!!!!!
– ААААААААААА!!!АААААААААААА!!!
Колдунья кричала и кричала, кричала и кричала, кричала, кричала, кричала, кричала, КРИЧАЛА, КРИЧАЛА!!!
Каким-то чудом я совладал с собой и выбрался из комнаты, как жалкое побитое животное, на четвереньках, прижимаясь к стенке.
– ААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
– ААААААААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!
Парень остался в зале. Ну вот и пришёл его конец.
– ЧТОБТЫПРОВАЛИЛСЯ! ЧТОБТЫСГИНУЛ! ЧТОБТЫСДОХ! ЧТОБТЫВЫПЛАКАЛ ГЛАЗА!ЧТОБТВОИКИШКИПОВЫЛАЗИЛИ!ЧТОБТЫИМИПОДАВИЛСЯ!ЧТОБТЫИМИПОДАВИЛСЯИСДОХ!! СДОХНИ!!!СДОХНИ!!!СДОХНИ!!!!!!!!!
У меня внутри всё перевернулось – какой ужасный конец. Никогда прежде я не видел хозяйку в такой ярости. Да что же он мог натворить? Дурак! Надо было покориться, не надо было упираться лбом и доводить хозяйку до исступления. Она не просто так зовётся колдуньей – её угрозы сбываются. Простые смертные не вступают с ней в спор, и только один человек имеет право с ней не соглашаться – хозяин, достойнейший из людей, которому и подчиняется наинедостойнейшая из женщин. Как уже сказано – любовь.
– СДОХНИ!СДОХНИМЕРЗАВЕЦ!СДОХНИУРОД!!!!!!!!!!!!
Юродивый вышел заплетающимися ногами – мы в ужасе смотрели на него. Каждый схоронился как мог – под столы, под лавки, на худой конец вжался в стену. Никто из нас не желал видеть эту смерть. Он смотрел прямо перед собой, кадык дернулся. Сейчас начнётся. Я зажмурился. В тишине раздался странный звук. Я вжал голову в плечи и ещё сильнее зажмурился. Было тихо, странно тихо, подозрительно тихо, невероятно тихо.
Я не решался открыть глаза, меньше всего мне улыбалось любопытства ради раньше времени открыть глаза, чтобы увидеть картину, которая будет до конца жизни преследовать меня в неосязаемой черноте ларца.
Как же тихо. Никто рядом не шевелился, хотя один определённо должен был. Кляня себя на чём свет стоит, я отчаянно распахнул глаза.
Юродивый сидел, где прежде стоял. На лице застыло недоумение. Спустя мгновение я понял – живой. Как? Он дважды рассеянно моргнул.
Я тоже сел, оглядываясь. Зал был разрушен. Нет-нет, стены стояли, но и только. Всё остальное было в плачевном состоянии, грязное, поломанное. Часть вещей вылетела в окно вслед за стёклами. Прекрасная посуда превратилась в черепки. Светильники жалко размазались по полу, ткань портьер, скатерти, накидки на скамьях разорвались на тонкие ленты, стол, под которым я давеча нашёл приют, лопнул посередине. Эх, беда.
Я задумчиво пожевал губами. Эхэхэх. Беда, беда. Расстроится хозяин, теперь точно расстроится.
Я встал на ноги, морщась, держась за поясницу. Перешагнул через свёрнутую в трубочку лампу и опасливо заглянул за дверь – хозяйка лежала на полу, глаза закатились, на губах проступила густая белая пена.
Я содрогнулся и отпрянул. Мы переглянулись, немые. Поняли друг друга запросто. Пошевеливаться надо. Завозились, заторопились. Быстрее прибираться, наводить порядок. Ларта пристынет, ничем её потом не возьмёшь. Быстрее, быстрее. Поторапливаемся, остатки штор, битые стёкла, смятые лампы, щепу от мебели, сметаем, следом проходимся влажными тряпками. На улицу, прибраться под окнами, выйти не можем, хозяйка дозволения не давала. Стол починить не можем, не разумеем как. Хозяйку с пола поднять не можем, не смеем, обмываем вокруг, по контуру разметавшегося халата.
Она отрывает от пола голову, берётся за лоб узкой ладонью. Плотный комок пены сваливается с лица в повязку на груди. Не замечает. Мы на коленях с тряпками в руках, головы висят низко. Колдунья дико озирает комнату, будто не сама «прибиралась». Пол уж чистый, только стол разломленный стоит, окна пусты, да юродивый расселся на полу. Она садится, упираясь рукой для устойчивости, вращает глазами. Брови сходятся к переносице, вздёргивается верхняя губа, вернее одна её половина, показывая зубы. На лице держится подсохшая пена.
– Не подняли?! На полу бррросили?! Как трряпку гррязную?!
Опало у меня в груди. Не посмели. Виноваты.
Что-то вспомнила она, пронеслась у неё по обгаженному лицу туча, глаза расширились, каждый по золотнику. Вдруг как крикнет:
– СДОХНИ!
Рухнул мой сосед слева. Задышал я мелко, глаз не смея поднять, а перед самыми глазами затылок его лежит, как стоял, поклонившись, так и рухнул лбом в пол.
Хозяйка разулыбалась, зашелестел её смех. Мороз прошёл у меня по коже. Жуткий, смертный мороз. Колдунья расходилась, голова запрокинулась, шелковистые вороные волосы достали до пола, она хохотала, открыв до предела рот, так что мы, поклонившиеся, видели её белые зубы и розовую глотку.
Прибирались до ночи. Под окнами и в доме. Юродивый был с нами. Всё ни по чём. Лучше бы он помер, а не тот мой сосед. Не потому, что я его знал, нет. Мы друг друга не знаем, друг на друга не смотрим, говорить не способны. Выносили сор, труп, сбивали стол по низу досками, сверху скатертью новой покрыли, сносно стало. Стряпали на кухне ужин. В ларец провалились усталые, я, по старости – без рук, без ног. Одно благо – заснул быстро, только и чувствовал через сон боль в суставах.
Вывалился от неожиданности на зад, только глазами захлопал. Свет струится, слепя. Непривычный, не дневной… Хозяин!
Поспешно вскакиваю на ноги. Вскакиваю, как же. Поднялся, и на том спасибо.
Хозяин улыбается нам. Свет нас слепит, он, заметив, отгораживает спиной, потом ведёт на улицу. На улице темно. Небо глубокое, тёмно-синее, без звёзд. Улыбка Хозяина светится в темноте. Знаю – просто свет падает из окон на улицу, вот и блестят белые зубы. Он – выдающийся человек, наш Хозяин. Статный, добродушный, с открытым лицом и достойными манерами… Колдунья иная при нём, ласковая, услужливая, стоит у его плеча на цыпочках, заглядывает в ясные глаза, ловит каждое слово. Он обычно приобнимает её за плечи. Сегодня она не льнёт к нему, осталась где-то в доме. Мы становимся перед Хозяином в полукруг. Он вздыхает, оправляет расшитую шапочку на высоком лбу. Лицо его мрачнеет, наполняется усталостью, уголки губ траурно опадают.
«Что, что такое, Хозяин?» – думаем мы. «Что гложет тебя, что тревожит?»
Он вздыхает, отнимает руку от глаз, смотрит вдаль.
– Говорят, далеко, по другую сторону от наших гор, лежит туннель, прорытый руками и животными лапами. Идти по этому туннелю нельзя, только ползти на самом животе, вниз, вниз и вниз, не поднимая головы, пока не упадёшь в ледяной колодец, а потом надо плыть. Плыть на дно. Где-то там, в иле, спрятан серебряный ключ. Маленький, крошечный ключ, чтобы открыть люк. Люк нужно открыть и закрыть на ключ, переплыть камеру, заполненную водой. Плыть вверх, вверх, вверх, и только там, в воздушном пузыре можно будет вдохнуть. От каменного мешка пойдёт новый туннель, более узкий, проточенный в горе киркой и долотом. Нужно будет лезть вверх, вверх и вверх в абсолютной тьме. В конце туннеля будет ждать железная дверь. Она не заперта на ключ, но открыть её можно только отжав руками. Внутри, в маленькой комнатке, на алтаре, только руку протяни, стоит круглая бутыль из алмаза. Но протягивать руку нельзя – изнутри дверь не откроется. И снаружи невозможно будет её отжать, пока тело узника не истлеет. Наружу можно выбираться лишь тем же путём, повторяя всё в обратном порядке… Эх, не достать мне древний эликсир, не уберечь землю нашу ото зла…
Мы приступаем к Хозяину ближе, заглядываем в опущенные глаза. Немы мы, ничего не можем сказать, ничем утешить. Мы ловим его за руки.
«Мы готовы! Готовы помочь, Хозяин! Только пойми, что говорим тебе бессловно!»
Хозяин бледнеет в темноте, тоже сжимает пальцы на наших руках по очереди, даже на руках юродивого, пусть и ненадолго. Отвлекается, смотрит на него, распознаёт новенького. И снова поворачивается к нам, бледный.
– Как я могу пустить вас туда?
Мы пытаемся настаивать, смотрим ободряюще, улыбаемся ему.
Он со вздохом прикрывает глаза, опускает руки:
– Только ради земли нашей…
Он разрешающе поводит рукой.
Бежим со всех ног. Тело будто разламывается, трещит, как хорошо иссохшая на солнце древесина. Путь до гор неблизкий, хоть и кажется, вот они, рукой подать. Кажется, лишь кажется, что близко то, что видно из окна. Нам некогда обходить хребет. Он тянется через весь горизонт, а у нас одна ночь. Мы бежим в гору, так быстро, что удерживаемся на отвесных скосах, не припадая ниц и не цепляясь за выступы руками. Катимся со склонов бусинами бисера. Оползаем на карачках каждый куст и каждую трещину в подножии. Вдруг машет юродивый. Хромая бегу к нему, не очень-то верю, что… Точно, вход в туннель. Юродивый успевает первым. Пропускаю ещё нескольких помоложе вперёд, лезу сам. Брюхо дерёт каменьями, земля вбивается под ногти, под одёжу, в ноздри… дышать едва хватает сил, места нет как следует раздуть лёгкие, вдохнуть полной грудью – со всех сторон поджимает. Сваливаюсь за остальными в колодец, несколько раз ударяюсь головой о стенки, кожу опаляет холод. Что-то скользкое проныривает под вздувшуюся пузырём рубаху, жалит под грудью. Жмурюсь от боли, но не раззеваю рта. Чёрное дно копошится, движется. Не один ил там. Серебряный ключик находят без меня. Спешу к люку, уж в глазах мутнеет, скорей, скорей… Плывём вверх во тьме. Воздух ожигает мокрое лицо. Карабкаемся по скользким стенам, нечто кидается на голову, нечто кусает за пальцы. Рот раззявлен, тяжело вдыхает, но кричать не может – немой. И прочие рты вокруг немые. Стенки сужаются, о спину отирается чья-то спина. Стараясь не мешать друг другу, продвигаемся в устье тонкого лаза. Тяжело. Едва удаётся втиснуться, едва-едва. Застреваю без конца. Протяну себя на локоть и застреваю. Камни впиваются в живот, грудь, спину, голову, бёдра. Кусаю себя за губы. Нужно успеть за ночь.
…Дверь отжимают без меня. Из комнатки от алтаря льётся слабый свет. Юродивый дверь держит. Спешу внутрь – вот уж алмазный круглый флакон в моих руках. Алтарь потухает. Всё пропадает во тьме. Лаз снова жуёт наши тела, давит и мнёт. Мы торопимся больше прежнего. Мы рады, что нашли эликсир, дорога назад, домой, в два раза легче. Мы проталкиваемся вниз, падаем в воздушный мешок, в ледяную воду, ныряем, отпираем люк изнутри, запираем его в колодце, нас снова жалят, но уже не страшно, один раз миновало и другой пронесёт, ползём вверх земляным туннелем, бежим в гору, бисером скатываемся со склона…
Хозяин стоит у порога в халате на голой груди. На его светлых волосах ровно сидит обычная круглая шапочка с кисточкой. Гляжу на его белую, не знающую загара грудь. Не замёрз бы.
С поклоном протягиваю алмазный флакон. Хозяин принимает с печальной, виноватой улыбкой.
– Добрые мои! Славные мои! Хорошие мои! Что бы делал бы без вас! Пропал бы совсем! И весь белый свет со мной!
Мягко хлопает нас по плечам. Жалеет нас. Не надо, не надо жалеть. Мы работу свою сделали, мы довольны, нет – мы счастливы. Мы проваливаемся во тьму ларца с чувством выполненного долга.
…Колдунья вытрясает нас вскоре после рассвета. Мы едва стоим на ногах, пошатываемся.
– Грязные твари! – рычит хозяйка, охаживая нас скрученной тряпицей. – Поскудники! Вымыли тут всё! Сейчас же!
…Проваливаюсь в ларец уже нечётко соображая. Всё темно и спокойно. Каждая косточка болит, каждый палец, каждая царапинка, каждый синяк. И много их у меня по старому телу. Ноет спина, стреляет в поясницу, но я однако же проваливаюсь глубже, глубже, в темноту сна…
В темноте, в маленьком незапертом чулане стоит на одноногой деревянной резной подставке старинный ларец. Сам он весь стёрт, и уж не видно, что были на нём надписи, только замок ещё крепок. Ларец открывается только снаружи, только снаружи открывается ларец! Только хозяин может открыть его, иначе никак.
Из ларца выдвигаются руки, подтягивают тело. Над гранью маленького ларца появляется светловолосая голова молодого мужчины. Сила ларца не справляется с ним. Крышка пытается вжать голову обратно, захлопнуться, но замок уже сломлен. Слуга равнодушно выбирается наружу, бесшумно ступает на пол. Из всей одежды на нём укороченные узкие брюки, низ неровный – оборвались где-то, и на коленях прорехи. Оглядывается без интереса – комната мала и пуста. Слуга, высокий и крепкий, кладёт ладонь на дверь – не заперта. Проникает в коридор.
Все слуги дома, за исключением единственного, спят без сил в ларце. Гостей в доме нет. Неверный факельный свет льётся из хозяйской спальни. Нет нужды запираться, когда все остальные на замке.
Молодой слуга бесшумно пересекает коридор, бросает взгляд в зазор. Яркая картина предстаёт его внимательным глазам. Комнату освещают шесть факелов. Всей мебели в комнате супружеская кровать с отдёрнутым балдахином, расшитым шёлковыми птицами и цветами. Одеяло сбилось под ноги. Хозяин дома лежит в постели, выпрямившись. Его голова на подушке, ступни ног сбивают одеяло. Он большой, белый, от макушки, скрытой расшитой золотой вязью бархатной шапочкой, до белых ухоженных стоп. Светловолосый, синеглазый, с квадратным подбородком, лоснящийся от пота, ухмыляющийся. Женщина прогнулась на нём дугой, с мукой на лице, обращённом к потолку. Блестящие чёрные пряди прилипли ко лбу и спине. Её тело в сравнении с мужским маленькое и смуглое. По изогнутой спине, по желобку между грудями сбегают капли пота. Она ахает в голос через закушенную губу. Хозяин сильными руками двигает её бёдрами, пальцы жмут без жалости. В местах их прикосновений смуглая кожа белая.
Хозяину захотелось положить руку на одну из влажных грудей, он замедлился, но продолжал не замечать фигуру у двери. Довольная гримаса на его лице имела мало общего с человеческими чертами.
Слуга не таился. Уже стоял в комнате. Факельный свет не бросал теней на неприличествующее слуге лицо – излишне благородное. Язык не поворачивается звать его юношей – очень молодой мужчина. Должен был быть грязен и болен после служения, выпавшего ему, но не был. Голубые глаза смотрели строго, челюсти сведены, губы поджаты, чуть подрагивают ноздри. Он видел что-то отвратительное.
Хозяин резко опомнился, словно кашлянули у него над ухом. От слуги не исходило ни звука. Хозяин поднялся на ноги, не предпринимая попыток скрыть наготу любовницы, хотя бы накинув на неё во многих местах сбившуюся с кровати простынь. Он сразу запомнил этого слугу, внешность примечательна, и очень хорошо знал, что выбраться из ларца невозможно – никак, в том часть его ценности.
Какое-то время Хозяин не находил слов, чтобы заговорить. Слуга был скудно одет, стоял прямо, пол локтя отделяло светлые пряди от потолочной перекладины. Хозяин стоял против него обнажённый, в не прошедшем до конца возбуждении. Со знанием смотрел не перерождающийся у лица слуги факельный свет. Из него исчезала подвижность, неоднородность, на расстоянии локтя от лица он становился ровным и статичным. Хозяин повременил становиться на колени.
– Я раскаиваюсь. Пощади меня.
Хозяин ничего не добавил про лежащую ничком любовницу. Её спина трудно ходила от дыхания, ещё влажная.
Должный быть немым слуга разверз сжатые губы.
– Лжёшь.
Хозяин окончательно понял, кто перед ним. Светлая кожа лица стала белой. Слова не помогут. Хозяин дёрнулся к окну…
Слуга нагнал ещё на кровати, жёсткие пальцы поймали за горло, слетела со светлых волос шапочка, и тут шелковистые пряди потускнели, кожа утратила молодую гладкость. Хозяин ожидал быть задушенным в минуту, но был развёрнут к нападавшему лицом. Он уже не был так молод и свеж, а его лицо никогда не было привлекательным, но сила в руках далась ему не от шапочки. Нападавший даже не душил его, а просто держал за горло, стоя над грудью на коленях. Хозяин бил его по груди, животу и лицу. Он не обращал внимания, смотрел сверху холодно, не показывая презрения.
– Чего ждёшь? – прохрипел Хозяин. Ему было не вырваться.
– Не спасти твою душу, – ровно и глухо произнёс слуга.
– Нет у меня души! – блестя глазами оскалился Хозяин. – Нет!
В его голосе не было страха, какое-то торжество, бахвальство – он начинал понимать, что не только он проиграл. Слуга услышал тёмную радость хаоса. Рука сделала, что требовалось, мгновенно. Хозяин только раз всхрипнул, словно поперхнулся.
Слуга сошёл с постели, смотря строго перед собой серьёзными голубыми глазами. Женщина тихо всхлипывала, приходя в себя. Молодой мужчина не тронул её. Вышел из комнаты, поспешил к сломанному ларцу. Несколько минут извлекал на свет беспокойно спящие, посеревшие от работы тела. Голыми руками изломал ларец, что десятилетиями пил жизненную силу из своих рабов, быстро старя их и иссушая, выпивая энергию и волю к жизни, как нетопырь кровь. Сначала в руках слуги остались четыре стенки, донце и крышка с колечком, потом щепы. Щепы вспыхнули в загоревшемся на ладонях огне. Никто того не видел, кроме него самого. С ещё пылающими руками он пробежал коридор и отыскал на полу спальни яркую шапочку с кисточкой, спалил содержимое хозяйского шкафчика, спрятанного под кроватью, включая алмазный флакон, добытый большим трудом. Всё сгорело, праха не осталось.
…проснулся, кряхтя держась за поясницу. Будто просквозило. Вот так напасть, сквозняки, везде найдут, хоть в сундуке спрячься…
С недоумением посмотрел на стёртый до нищенских тряпок грязный камзол. Ниже всяких приличий такой носить, уже и не понятно, что камзол, куртёнка из половых тряпок. Рядом опустившийся человек из нищих, стоит на четвереньках, крутит выстриженной клоками головой, видать с перепоя, но странно, не пахнет ничем кроме сырости и пыли, а ещё землицей. Помянул про себя святого духа, так не по себе стало. Под рукой отчего-то ни меча, ни ножа, ни лука. Куда делось? Голову стянуло тяжёлым обручем. Взялся рукой, но глаз от нищего не отвёл. Стал вспоминать.
За головой колдуна шёл. Пить строго не должен был. Что же смутило, заставило оступиться? Вспомнил. Две дюжины дней в седле. Тело молодое, а уже всё ноет. Остановился на ночлег в одиноком доме с пышным садом вокруг, огромным садом за низеньким деревянным забором, выкрашенным красной краской, с насыпанными белым щебнем тропками между пышными клумбами, хозяйственными постройками и овощными грядами. Отродясь не видал столь ухоженного хозяйства.
Хозяйка приняла радушно. Мало похожая на благородную даму – смуглянка с пышной гривой блестящих чёрных волос, явно волнистых без применения одного из женских ухищрений, гибкая, подвижная, с кожей гладкой, как шёлк, мелкими, как жемчуга, белыми зубами. Ничем не похожа на знакомых мне благородных дам… и в манерах больше сердечности… Слуги у неё были крайне невыразительные, незаметные. За столом сама принимала, привечала, передавала каждый ломоть, каждую чарку из своих маленьких нежных рук в руки, рассказывала о добром хозяине дома… а потом?
Я перекинулся с земли на корточки, встал по стволу, скрипя обносками по коре. Ничего не понимая, не веря себе, смотрел сверху вниз, как растрёпанная, прикрытая жёлтой тряпкой женщина на коленях, согнувшись, просит, умоляет со слезами в глазах сидящего на второй ступени крыльца мужчину наказать её. Он молчит, смотрит исподлобья куда-то мимо всего, мимо копошащихся на земле серых нищих, мимо цветов, мимо деревьев, мимо троп, забора, гор, даже мимо неба. Женщина тянется взять его за свисающую с выставленного колена руку, но каждый раз не решается, отдёргивает.
…Кидаюсь с места в свинарник. Падаю в грязи на колени, отпихиваю здоровенную, взвизгнувшую свинью, начинаю рыть голыми руками, вгоняю пальцы со сбитыми ногтями, отталкиваю любопытный пятак, недовольные свиньи толкаются, но мне всё равно… Зачем? Не знаю, зачем. Череп в моих руках. Я плачу. Меня толкают свиньи. Зачем я вырыл его? Зачем не целиком?
– Мне жаль.
Молодой мужчина стоит в приоткрытой двери, за ним шуршит голыми коленями по гравию женщина в жёлтом. Я звал его про себя юродивым, потому что… потому что он был не похож на меня, грязного, как могильщик, безымянного, как могильный пёс, низостного, как могильный червь. Он был слишком хорош, чтобы думать о нём хорошо.
– Брат, – выдавил я из себя, приподнимая череп. Первое слово за годы. – Брат…
По щекам по новому покатились слёзы.
Он не сказал, что это я поднёс родному брату блюдо с алмазной пылью. Не сказал, что брат видел меня и не признал, заслушавшись и залюбовавшись колдуньей. Он кивнул. Женщина тихонько лепетала, положив ему под колено лоб, чтобы её наказали. А я не видел в том смысла. У меня не было на неё зла. Она осталась молода – я состарился. Она жива – брат умер. Она красива – я обессилен. Что с ней не сделай – наши с братом жизни не вернутся.
Любовь к Хозяину развеивалась, как тяжёлый дурман. Кружилась голова, я принял за похмелье, но не пил-не ел несколько лет. В ларце никто не думает о времени, выходящем за пределы вчера или завтра… Я всё думал, зачем вырыл череп. Либо никак, либо целиком. Зачем я отнял его от шеи?
Яркий как солнце мужчина отодвинул меня к стенке с пути свиней. Здоровенные коротконогие туши освободили для него место, задрав пятаки и вперив в его совершенный облик невыразительные маленькие глазки. Он опустился на колени и принялся копать, как прежде я, пальцами. Только мои были чёрные, сморщенные, искривлённые, а его – чистые и прямые. Свиньи поспешно зарыли пятаками толщиной с молодой древесный ствол, женщина протянула маленькую руку к грязи – он их всех отстранил. Я молча принимал кость за костью, потом снял источенный прорехами камзол и стал складывать в него.
Мы распахнули все двери, выпустили скот, раскрыли в доме настежь ставни, выволокли из кладовых припасы… Когда мы уходили через сад, козы уже топтались по мебели, а свиньи ворошились на грядках. Мы шли оборванные, серые с ног до головы, с воспалёнными глазами, в цыпках, ссадинах и струпьях, многие босые. С нами шла несчастная молодая женщина в жёлтой тряпке. Я нёс моего брата.
Мы похоронили его у подножия векового дуба, недалеко от гор. Вырыли глубокую могилу, выложили его по косточке, как должно было быть, потом засыпали и заложили сверху камнями. Мой добрый брат. Лучше бы ты не искал меня.