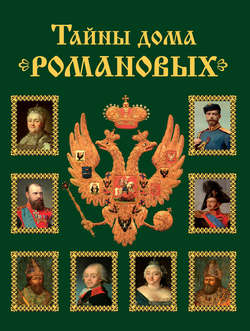Читать книгу Тайны дома Романовых. Браки с немецкими династиями в XVIII – начале XX вв. - Вольдемар Балязин - Страница 16
Царевич Алексей и его сообщники
ОглавлениеНа допросах Алексей назвал имена более чем пятидесяти своих подлинных и мнимых сообщников, и розыск начался сразу в трех городах: Петербурге, Москве и Суздале, там, где находились названные царевичем люди.
В Суздаль был направлен капитан-поручик Преображенского полка Григорий Скорняков-Писарев с отрядом солдат. 10 февраля 1718 года в полдень он прибыл в Покровский монастырь, оставив солдат неподалеку от обители.
Скорняков сумел незамеченным пройти в келью к Евдокии и застал ее врасплох, отчего она смертельно испугалась. Евдокия была не в монашеском одеянии, а в телогрее и повойнике, что потом ставилось ей в вину, ибо было сугубым нарушением монашеского устава.
Оттолкнув бледную и потерявшую дар речи Евдокию, Скорняков коршуном бросился к сундукам и, разворошив лежащие там вещи, нашел два письма, свидетельствующие о переписке Евдокии с сыном. После этого в Благовещенской церкви найдена была записка, по которой Лопухину поминали «Благочестивейшей великой государыней нашей, царицей и Великой княгиней Евдокией Федоровной» и желали ей и царевичу Алексею «благоденственное пребывание и мирное житие, здравие же и спасение и во все благое поспешение ныне и впредь будущие многие и несчетные лета, во благополучном пребывании многая лета здравствовать».
14 февраля, арестовав Евдокию и многих ее товарок, а также нескольких замешанных в ее деле священников и монахов-мужчин, Скорняков повез их всех в Преображенский приказ в Москву. 16 февраля начали строгий розыск, прежде всего обвиняя Евдокию в том, что она сняла монашеское платье и жила в монастыре не по уставу – мирянкой. Отпираться было невозможно, ведь Скорняков самолично застал Евдокию в мирском платье. А дальше дела пошли еще хуже, – привезенная вместе с другими монахинями старица-казначея Маремьяна рассказала о том, что к Евдокии много раз приезжал Степан Глебов и бывал у нее в келье не только днем, но и оставался на всю ночь до утра.
Показания Маремьяны подтвердила и ближайшая подруга Евдокии монахиня Каптелина, добавив, что «к ней, царице-старице Елене, езживал по вечерам Степан Глебов и с нею целовалися и обнималися. Я тогда выхаживала вон; письма любовные от Глебова она принимала, и к нему два или три письма писать мне велела».
После этого Глебова арестовали, и проводивший арест и обыск гвардии капитан Лев Измайлов нашел у него конверт, на котором было написано: «Письма царицы Евдокии», а внутри оказалось девять писем.
Во многих из них Евдокия просила Глебова уйти с военной службы и добиться места воеводы в Суздале; во многих, проявляя ум и практическую сметку, советовала, как добиться успеха в том или ином деле, но общий тон писем таков, что позволяет утверждать об огромной любви и полном единомыслии Евдокии и Степана.
«…Где твой разум, тут и мой; где твое слово, тут и мое; где твое слово, тут и моя голова: вся всегда в воле твоей!»
А теперь, сохраняя и слог, и орфографию подлинников, приведу несколько отрывков из писем Евдокии Глебову, равных которым я не встречал в эпистолярном любовном наследии России. Может быть, я и не прав, ибо за тысячу лет томлений и вздохов сколько было сказано разных фраз и сколько и каких было написано слов, и все же письма Евдокии Глебову, безусловно, – выдающийся образец этого великого жанра.
Впрочем, судите сами.
«Чему-то петь быть, горесть моя, ныне? Кабы я была в радости, так бы меня и дате сыскали; а то ныне горесть моя! Забыл скоро меня! Не умилостивили тебя здесь ничем. Мало, знать, лице твое, и руки твоя, и
все члены твои, и суставы рук и ног твоих, мало слезами моими мы не умели угодное сотворить…»
«Не забудь мою любовь к тебе, а я уже только с печали дух во мне есть. Рада бы была я смерти, да негде ее взять. Пожалуйте, помолитеся, чтобы Бог мой век утратил. Ей! Рада тому!»
«Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя! Знать уж злопроклятый час приходит, что мне с тобою расставаться! Лучше бы мне душа моя с телом разсталась! Ох, свет мой! Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Уже мое проклятое сердце да много послышало нечто тошно, давно мне все плакало. Аж мне с тобою, знать, будет роставаться. Ей, ей, сокрушаюся! И так, Бог весть, каков ты мне мил. Уж мне нет тебя милее, ей-Богу! Ох, любезный друг мой! За что ты мне таков мил? Уже мне ни жизнь моя на свете! За что ты на меня, душа моя, был гневен? Что ты ко мне не писал? Носи, сердце мое, мой перстень, меня любя; а я такой же себе сделала; то-то у тебя я его брала… Для чего, батька мой, не ходишь ко мне? Что тебе сделалось? Кто тебе на меня что намутил? Что ты не ходишь? Не дал мне на свою персону насмотреться! То ли твоя любовь ко мне? Что ты ко мне не ходишь? Уже, свет мой, не к кому тебе будет и придти, или тебе даром, друг мой, я. Знать, что тебе даром, а я же тебя до смерти не покину; никогда ты из разума не выйдешь. Ты, мой друг, меня не забудешь ли, а я тебя ни на час не забуду. Как мне будет с тобою разстаться? Ох, коли ты едешь, коли меня, батюшка мой, ты покинешь! Ох, друг мой! Ох, свет мой, любонка моя! Пожалуй, сударь мой, изволь ты ко мне приехать завтра к обедне переговорить кое-какое дело нужное. Ох, свет мой! любезный мой друг, лапушка моя; скажи, пожалуй, отпиши, не дай мне с печали умереть… Послала к тебе галздук (галстук, т. е. шейный платок. – В. Б), носи, душа моя! Ничего ты моего не носишь, что тебе ни дам я. Знать, я тебе не мила! То-то ты моего не носишь. То ли твоя любовь ко мне? Ох, свет мой; ох, душа моя; ох, сердце мое надселося по тебе! Как мне будет твою любовь забыть, будет так, не знаю я; как жить мне, без тебя быть, душа моя! Ей, тошно, свет мой!»
«Послала я, Степашенька, два мыла, что был бы бел ты…»
«Ах, друг мой! Что ты меня покинул? За что ты на меня прогневался? Что чем я тебе досадила? Кто мя, бедную, обиде? Кто мое сокровище украде? Кто свет от очию моею отьиме? Кому ты меня покидаешь? Кому ты меня вручаешь? Как надо мною не умилился? Что, друг мой, назад не поворотишься? Кто меня, бедную, с тобою разлучил?… Ох, свет мой, как мне быть без тебя? Как на свете жить? Как ты меня сокрушил!… Ради Господа Бога, не покинь ты меня, сюды добивайся. Эй! Сокрушаюся по тебе!»
«Радость моя! Есть мне про сына отрада малая. Что ты меня покидаешь? Кому меня вручаешь? Ох, друг мой! Ох, свет мой! Чем я тебя прогневала, чем я тебе досадила? Ох, лучше бы умерла, лучше бы ты меня своими руками схоронил! Что я тебе злобствовала, как ты меня покинул? Ей, сокрушу сама себя. Не покинь же ты меня, ради Христа, ради Бога! Прости, прости, душа моя, прости, друг мой! Целую я тебя во все члены твои. Добейся, ты, сердце мое, опять сюды, не дай мне умереть… Пришли, сердце мое, Стешенька, друг мой, пришли мне свой камзол, кой ты любишь; для чего ты меня покинул? Пришли мне свой кусочек, закуся… Не забудь ты меня, не люби иную. Чем я тебя так прогневала, что меня оставил такую сирую, бедную, несчастную?»
Эти письма были приобщены к делу в качестве тяжкой улики против Евдокии и Глебова. Мне кажется, не имеет ни малейшего смысла их комментировать, ибо они лучше кого бы то ни было, – будь то средневековые судьи или современные ученые-историки, – говорят сами за себя устами и сердцем несчастной царицы-инокини.
…20 февраля в селе Преображенском, в застенке, была учинена очная ставка Глебову и Евдокии. Сохранились протоколы допросов и описание следственной «процедуры».
Глебова спрашивали: почему и с каким намерением Евдокия скинула монашеское платье? Видел ли он письма к Евдокии от царевича Алексея и не передавал ли письма от сына к матери и от матери к сыну?
Говорил ли о побеге царевича с Евдокией? А также спрашивали и о мелочах: через кого помогал Евдокии? Чем помогал? Зачем письма свои писал «азбукой цифирной» – то есть шифром?
И затем следует меланхолическое замечание:
«По сим допросным пунктам Степаном Глебовым 22 февраля розыскивано: дано ему 25 ударов (кнутом). С розыску ни в чем не винилося кроме блудного дела…» (А от «блудного дела» при наличии писем и показаний десятков свидетелей отпереться было невозможно.)
Тогда приступили к «розыску». Глебова раздели донага и поставили босыми ногами на острые, но не оструганные по бокам деревянные шипы. Толстая доска с шипами была пододвинута к столбу, и Глебова, завернув руки за спину, приковали к нему. Глебов стоял на своем.
Тогда ему на плечи положили тяжелое бревно, и под его тяжестью шипы пронзили насквозь ступни Глебова.
Глебов ни в чем, кроме блуда, не сознавался.
Палачи стали бить его кнутом, обдирая до костей. Считалось, что после этого любой человек скажет все, что от него ждут. Недаром у заплечных дел мастеров в ходу была поговорка, в верности которой они не сомневались: «Кнут не Бог, но правду сыщет». Кожа летела клочьями, кровь брызгала во все стороны, но Глебов стоял на своем.
Тогда к обнажившемуся окровавленному телу стали подносить угли, а потом и раскаленные клещи.
Глебов, теряя сознание, сползал со столба, но вину оставлял за собой.
Сегодня это может показаться невероятным, но майора Преображенского полка, богатыря и великана Глебова, пытали трое суток, лишь на некоторое время давая прийти в себя.
И все это видела Евдокия.
В первый день допроса после трехкратной пытки в протоколе против первого вопроса появилась запись: «Запирается».
И такая запись стоит против всех заданных Глебову вопросов. А было их шестнадцать. И каждый из этих вопросов касался участия Глебова, Евдокии и ее родственников в заговоре, против Петра с целью возвести на престол царевича Алексея. Следователи во что бы то ни стало хотели представить Евдокию государственной преступницей, злоумышлявшей против государя и государства.
Но Глебов отрицал все и не дал палачам ни малейшей возможности обвинить Евдокию в чем-либо, кроме очевидного греха – блудодеяния.
После трехсуточного розыска Глебова отнесли в подвал и положили на шипы, которыми были усеяны пол и стены камеры. А потом снова повели на правеж, но так ничего и не добились.
И тогда в дело вмешались врачи. Они вступились за Глебова, предупреждая, что он почти при смерти и может скончаться в течение ближайших суток, так и не дотянув до казни.
Вняв их предупреждению, 14 марта Глебову был вынесен приговор, в котором не говорилось, как он будет казнен, но указывалось: «Учинить жестокую смертную казнь».
О казни Глебова и его сообщников – Досифея, Федора Пустынника и других, знавших о его любовной связи с Евдокией, – сохранилось свидетельство австрийского посланника Плейера императору Карлу VI.
Плейер писал, что Глебова привезли на Красную площадь в три часа дня 15 марта. Стоял тридцатиградусный мороз, и, чтобы наблюдать длительную и мучительную казнь до конца, Петр приехал в теплой карете и остановился напротив места казни. Рядом стояла телега, на которой сидела Евдокия, а возле нее находились два солдата. Солдаты должны были держать ее за голову и не давать ей закрывать глаза.
Глебова раздели донага и посадили на кол.
Здесь автор приносит извинения за то, что должен будет пояснять вещи, относящиеся к инфернальной, то есть адской, сфере.
Кол мог быть любых размеров. Мог быть гладко обструганным, а мог быть и шершавым, с занозами, мог иметь очень острый и не очень острый конец. Мог быть смазанным жиром и, наконец, мог быть либо достаточно тонким, или же толстым.
И если кол был острым, гладким и тонким, да к тому же смазанным жиром, то палач, должным образом повернув жертву, мог сделать так, что кол за несколько мгновений пронзал казнимого и входил ему в сердце. А могло быть и все наоборот – казнь могла затянуться на продолжительное время. И все же то, что здесь было сказано, относилось к колу «турецкому». А был еще и кол «персидский». Последний отличался тем, что рядом с колом с двух сторон аккуратными столбиками были сложены тонкие дощечки, достигавшие почти до конца кола.
Приговоренного сначала подводили к столбу, заводили руки назад и сковывали их наручниками. Потом приподнимали и сажали на кол, но кол входил неглубоко, и тогда через несколько минут палачи убирали две верхних дощечки, после чего кол входил глубже. Так, убирая дощечки одну за другой, палачи опускали жертву все ниже и ниже. Опытные искусники-виртуозы следили при этом, чтобы острие проходило в теле, минуя жизненно важные центры, и не давали казнимому умереть как можно дольше.
По отношению к Глебову Преображенские каты сделали все, что только было можно. Его посадили на неструганый персидский кол, а чтобы он не замерз, надели на него шубу, шапку и сапоги. Причем одежду дал им Петр, наблюдавший за казнью Глебова до самого конца. А умер Глебов в шестом часу утра 16 марта, оставаясь живым пятнадцать часов.
Но и после смерти Глебова Петр не уехал. Он велел колесовать и четвертовать всех сообщников его и Евдокии, после чего их, еще трепещущие, тела подняли на специально сооруженный перед тем помост вышиной в три метра и посадили в кружок, поместив в середине скрюченный черный труп Глебова.
Плейер писал, что эта жуткая картина напоминала собеседников, сосредоточенно внимавших сидящему в центре Глебову.
Однако и этого Петру оказалось мало. После смерти Глебова он велел предать своего несчастного соперника анафеме и поминать его рядом с расколоучителями, еретиками и бунтовщиками наивысшей пробы – протопопом Аввакумом, Тимошкой Анкудиновым и Стенькой Разиным.
А Евдокию Федоровну собор священнослужителей приговорил к наказанию кнутом. Ее били публично в присутствии всех участников собора и затем отослали в северный Успенский монастырь на Ладоге, а потом в Шлиссельбургскую тюрьму. И все же, пережив и Глебова, и Петра, и смертельно ненавидевших ее Екатерину и Меншикова, которых многие считали главными виновниками ее несчастья, опальная царица умерла на воле, в почете и достатке шестидесяти двух лет от роду
* * *
А теперь снова вернемся к Алексею с тем, чтобы и проститься с ним.
14 июня царевича привезли из Москвы в Петропавловскую крепость и посадили в Трубецкой бастион. 19 июня его начали пытать и за неделю пытали пять раз, а потом убили. Больной, слабый духом и смертельно напуганный Алексей признавался и в том, чего не было, стараясь, чтобы пытки прекратились как можно скорее. Он даже сознался, что хотел добыть престол вооруженным путем, используя армию императора.
24 июня Верховный суд, состоявший из 127 человек, единогласно постановил предать царевича смерти. А то, каким образом следует его умертвить, суд отдал на усмотрение отца.
Уже после вынесения смертного приговора Петр приехал в Трубецкой бастион, чтобы еще раз пытать сына.
По одним данным, при последней пытке были Петр, Меншиков и другие сановники. По другим – только Петр и его особо доверенный человек, генерал-аншеф Адам Адамович Вейде.
Немец Вейде начал карьеру в России в первом потешном полку – Преображенском. Он сразу же был замечен Петром и вошел к царю в такое доверие, как никто другой. Вейде сопровождал Петра почти во всех походах и путешествиях. Он был и в обоих походах под Азов, и под Нарвой, где попал в плен к шведам.
В 1710 году его обменяли на шведского генерала Штремберга, а в 1711 году он был уже в Прутском походе, командуя дивизией. В 1714 году Вейде командовал галерой в сражении при Гангуте. На этой галере был и сам Петр, наградивший Вейде орденом Андрея Первозванного.
В 1718 году Вейде стал Президентом Военной коллегии и принял деятельное участие в процессе царевича Алексея, присутствуя при всех его допросах и пытках. Иной раз Вейде был единственным, кроме палачей, кто находился в застенке во время пытки.
Существовала версия, что Вейде присоветовал Петру отравить царевича. Петр согласился, и Вейде заказал аптекарю очень сильный яд. Но тот отказался вручать отраву генералу, а согласился передать ее только самому царю. Вейде привел аптекаря к Петру, и они вместе отнесли яд Алексею, но царевич наотрез отказался принимать снадобье. Тогда они повалили Алексея на пол, оторвали половицу, чтобы кровь могла стекать в подпол, и топором обезглавили его, упавшего в обморок, истощенного мучениями и страхом.
И все же трагедия на этом не окончилась: на авансцене истории появился еще один персонаж – Анна Ивановна Крамер, которой Петр доверял не меньше, чем генералу Вейде.
Анна Ивановна Крамер – дочь купца, члена Нарвского магистрата, – в 1704 году была увезена в Казань, где стала любовницей местного воеводы. Затем воевода перевез ее в Петербург и там ввел в дом генерала Балка – мужа Матрены Ивановны Монс. Однако и здесь Анна Крамер задержалась ненадолго, перейдя в дом фрейлины Гамильтон. Здесь-то и увидел ее Петр, очаровался ею и, чтобы часто видеть Анну и беседовать с нею, определил ее камер-юнгферой Екатерины.
Анна была в особом «кредите» у Петра. Он доверял ей то, чего не мог доверить никому другому. Именно Анна Крамер приехала вместе с Петром и Вейде в Петропавловскую крепость, где одела тело царевича в приличествующий случаю камзол, штаны и башмаки и затем ловко пришила к туловищу его отрубленную голову, искусно замаскировав страшную линию большим галстуком. Но это – лишь одна из версий.
Есть свидетельства, что 26 июня на последнюю трехчасовую пытку приехали Петр, Меншиков и другие сановники, а через семь часов после этого, и именно от пытки, Алексей умер. Есть свидетельства, что по приказу Петра Алексея удушили подушками четверо офицеров, а руководил всем этим уже известный нам Александр Иванович Румянцев.
Один из самых серьезных исследователей дела Алексея Петровича, академик Н. Г. Устрялов, посвятивший изучению жизни царевича четырнадцать лет непрерывного труда, приводит десять версий его смерти. Наиболее достоверной ему представляется смерть от апоплексического удара (инсульта), наступившего в результате пыток.
Но нельзя полностью игнорировать и другие объяснения произошедшего.
В любом случае, 13 декабря 1718 года Румянцев был пожалован сразу двумя чинами – майора гвардии и генерал-адъютанта, а кроме того, были ему даны две деревни, ранее принадлежавшие сторонникам убитого царевича.
Царского благоволения за особые заслуги была удостоена и Анна Крамер. Она стала фрейлиной Екатерины, а затем и первой дамой при принцессе Наталье Петровне – младшей дочери Петра и Екатерины, скончавшейся, впрочем, сразу же после смерти своего отца. Забегая чуть вперед, скажем, что как только Петра похоронили, Анна Крамер уехала в свою родную Нарву, где и прожила до 1770 года, умерев на семьдесят шестом году.
Желая показать, что смерть Алексея для него ровно ничего не значит, Петр на следующий же день после казни сына пышно отпраздновал девятую годовщину победы под Полтавой. В официальных бумагах все чаще стало появляться имя единственного сына Екатерины, трехлетнего Великого князя Петра Петровича. Родители видели в нем законного наследника престола и радовались тому, что мальчик растет крепким, веселым и разумным. Но судьба решила иначе: после недолгой болезни 25 апреля 1719 года ребенок умер. А на следующий день, на траурной службе по умершему, неосторожно рассмеялся родственник Евдокии Лопухиной Степан Лопухин. Причину произошедшего объясняли тем, что не угасла еще свеча Лопухиных, ибо их семья – царевич Петр Алексеевич, бывший всего на полмесяца старше своего умершего дяди Петра Петровича, был жив и в глазах очень многих имел все права и основания на наследование российского престола.
Разумеется, последовал розыск, и были пытки, но были и выводы – Петр I решил сделать все, чтобы трон не достался ни Лопухиным, ни их родственникам, ни их сторонникам и единомышленникам.
Однако только через три года царь сумел воплотить задуманное в жизнь, издав официальный документ – «Устав о наследии престола», в котором право на трон переходило к любому угодному Петру человеку. Но прежде чем этот «Устав» появился, произошло несколько событий, важнейшими из которых было победоносное окончание войны со Швецией, принятие Петром титула Российского императора, еще одна война – с Персией и наконец коронация Екатерины, состоявшаяся 7 мая 1724 года.
Однако за два года до этого весьма важного события произошло еще одно – в Петербург возвратилась племянница Петра, Мекленбургская герцогиня Екатерина Ивановна.