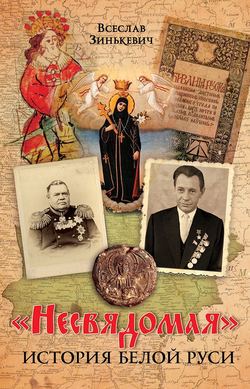Читать книгу «Несвядомая» история Белой Руси - Всеслав Зинькевич - Страница 6
Глава 1
Этногенез белорусов и древнерусский период белорусской истории
Заселение славянами территории Белоруссии
ОглавлениеПериод с IV по VII век вошёл в историю Европы как эпоха Великого переселения народов. На это время приходится пик миграционных процессов, охвативших практически весь континент и радикально изменивших его этнокультурный и политический облик. Вовлечённые в процесс переселения, славяне продвинулись из своей Висло-Одерской прародины на Восточно-Европейскую равнину и Балканский полуостров, наметив тем самым будущее разделение славян на западных, восточных и южных.
Можно выделить несколько причин, заставивших значительную часть славянства покинуть территорию первоначального проживания. Уже сам факт того, что славяне за относительно короткое время смогли не только расселиться на огромных пространствах Восточной и Юго-Восточной Европы, но и прочно укрепиться на новых местах среди других народов и в последующем ассимилировать их, позволяет сделать вывод, что славян было очень много и в границах их прародины возникла высокая плотность населения. Перенаселённость вполне могла привести славян в движение. Кроме того, в конце IV века в Центральной Европе серьёзно ухудшились климатические условия: наступило резкое похолодание, увеличилось количество осадков, повысился уровень рек и озёр, поднялись грунтовые воды, разрослись болота. Многие поселения в Висло-Одерском регионе оказались затопленными или сильно подтопленными, а пашни – непригодными для сельскохозяйственной деятельности. Это заставило славян искать более благоприятные для жизни земли. Также в качестве причины славянской миграции часто называют давление со стороны соседних народов, прежде всего германских.
Так или иначе, в середине I тысячелетия н. э. начинается массовое расселение славян на территории Белоруссии, которую до этого занимали разрозненные балтские племена: ятвяги, дайнова, лотва, латыгола и голядь. Согласно исторической концепции местечковых националистов, смешение славян с ранним населением Восточно-Европейской равнины привело к «зарождению новых народов – белорусов, украинцев и русских»[16]. Произошло это по следующим формулам: славяне + балты = белорусы, славяне + скифо-сарматы = украинцы, славяне + финно-угры = русские. Как мы уже отмечали, наиболее радикальные самостийники славянскую составляющую восточнославянских этносов полностью отрицают, в результате чего белорусы оказываются балтами, а великорусы – финно-уграми; украинцев, впрочем, белорусские радикалы считают братьями (особенно после «Евромайдана») и скифо-сарматами публично не называют.
Однако упрощённые конструкции «свядомых» историков не выдерживают соприкосновения с научными фактами. До середины I тысячелетия н. э. балты заселяли область от юго-восточных берегов Балтики до верхнего и среднего течения Оки, т. е. балтский регион включал в себя значительную часть земель будущей Великороссии.
Древнерусская летопись датирует пребывание балтского племени голядь в районе подмосковной реки Протвы 1147 годом. В этом году черниговский князь Святослав Ольгович по приказу суздальского князя Юрия Долгорукого совершил военный поход на проживавших в Подмосковье балтов («…и шед Святославъ и взя люди Голядь, верхъ Поротве»). Кроме того, с той же подмосковной голядью, скорее всего, связано отмеченное летописями событие 1248 года: «И Михаиле Ярославичъ московский убьенъ бысть от Литвы на Поротве». Московский князь Михаил Хоробрит погиб в сражении с «Литвой на Протве», под которой, очевидно, понимались потомки голяди. На основе топонимов и гидронимов, производных от этнонима «голядь», исследователи очерчивают довольно широкий регион расселения этого племени – от верховьев Клязьмы на севере до верховьев Жиздры на юге и от верхнего течения Днепра на западе до окрестностей Москвы на востоке. Исходя из этого, можно сделать вывод, что голядь занимала немалую часть великорусской территории и довольно долго оставалась не до конца ассимилированной.
Как видим, если следовать логике «свядомых» интеллектуалов, в белорусы следует записать большое количество тех самых «москалей», которых так не любят указанные интеллектуалы, или в крайнем случае – объявить коренных жителей Смоленской, Калужской и Московской областей отдельным от других русских народом, поскольку, например, славяне, заселявшие новгородские земли, ассимилировали не балтов, а финно-угров.
В действительности подавляющее большинство балтского и финно-угорского населения, проживавшего на Восточно-Европейской равнине, довольно быстро растворилось в славянской этнокультурной среде. Этому в значительной степени способствовал тот факт, что культурное развитие и балтов, и финно-угров протекало в замедленном темпе, им не были знакомы плоды римской цивилизации, которыми пользовались славяне, жившие по соседству с Римской империей. Славянами был освоен и внедрён в жизнь целый комплекс предметов, которых не знали их восточные соседи. В качестве главного свидетельства прихода славянского населения в лесную зону Восточной Европы археологи называют появление там начиная с V века изделий провинциальноримского происхождения: конского снаряжения, пинцетов из бронзы и железа (они использовались как туалетные щипчики, медицинский инструмент и орудие мастеров-ювелиров), железных серпов, жерновов для ручных мельниц. Кроме того, славяне принесли с собой зерновые культуры – рожь и овёс, неизвестные балтам и финно-уграм. Имея значительный перевес в уровне материальной культуры, а также численное превосходство, славянское население без труда смогло ассимилировать автохтонов Восточно-Европейской равнины.
Примечательно, что в Повести временных лет (древнерусском летописном своде начала XII века, составленном монахом Киево-Печерского монастыря Нестором) фактически отсутствуют сведения о взаимоотношениях пришлых славян с местным балтским населением на территории Белоруссии. И это при том, что в летописи довольно много внимания уделено этнографии стран Европы, особенно соседей Руси. Данное обстоятельство можно объяснить лишь тем, что к началу XII века балты, проживавшие на территории Белоруссии, полностью сошли с исторической арены.
Начальным этапом славянизации балтского ареала Белоруссии следует считать тушемлинскую культуру, существовавшую в V–VІІ веках и пришедшую на смену днепро-двинской культуре и культуре штрихованной керамики, которые имели балтскую атрибуцию. Территория тушемлинской культуры включала Смоленское Поднепровье, Полоцко-Витебское Подвинье и смежные с ним земли верхних течений Вилии, Немана и Березины.
В составе носителей тушемлинских древностей присутствовали две этнические группы – балты и славяне. Некоторые «свядомые» историки упорно оспаривают славянскую составляющую тушемлинской культуры, однако ещё советскими археологами на территории Смоленщины и Северной Белоруссии было найдено большое количество браслетообразных височных колец, датированных серединой и третьей четвертью I тысячелетия н. э. Такие кольца были излюбленным женским украшением значительной части раннесредневековых славян. Они подвешивались к головной повязке или вплетались в волосы и свешивались у висков обычно с обеих сторон головы. В восточном направлении ареал браслетообразных височных украшений простирался далеко за пределы ареала тушемлинской культуры: аналогичные украшения обнаруживаются в памятниках междуречья Волги и Оки. В этой связи есть все основания относить часть носителей тушемлинских древностей к славянской этнической общности.
На рубеже VII и VIII веков в Смоленском Поднепровье и Полоцко-Витебском Подвинье получают распространение длинные курганы, именуемые в исторической литературе смоленско-полоцкими. Становление культуры длинных курганов на Смоленщине и в Северной Белоруссии объясняется инфильтрацией в данный регион жителей псковских земель, где длинные курганы появились двумя-тремя веками ранее. Таким образом, общий ареал длинных курганов охватывал три древнерусские исторические области – Псковскую, Полоцкую и Смоленскую. Племенное объединение, жившее на этой территории, именовалось кривичами.
Кривичи, наряду с дреговичами и радимичами, были предками белорусов. При этом кривичи проживали также на территории Великороссии и, соответственно, приняли участие в формировании великорусской народности. Повесть временных лет даёт следующую информацию о расселении кривичей: «Иже сѣдять на верхъ Волгы, и на вѣрхъ Двины и на вѣрхъ Днѣпра, ихъ же и городъ есть Смолѣнескъ; туда бо сѣдять кривичи». Исходя из этого абсурдной представляется концепция Вацлава Ластовского, который отождествлял белорусов с кривичами и даже предлагал переименовать Белоруссию в Кривию. Помимо участия кривичей в этногенезе великорусов, против концепции Ластовского свидетельствует тот факт, что кривичи занимали только северную часть территории Белоруссии, южнобелорусское население формировалось на основе дреговичей и радимичей.
В последнее время в белорусской националистической историографии и публицистике предпринимаются попытки обосновать идею о балтской этнической атрибуции кривичского племенного объединения. При этом местечковые националисты, как всегда, руководствуются принципом «если факты противоречат моей теории, тем хуже для фактов». В Повести временных лет полочане (локальная кривичская группировка, жившая на территории Северной Белоруссии) прямо отнесены к славянской этнической общности. В летописном рассказе о расселении славян на Восточно-Европейской равнине говорится: «Такоже и тѣ же словѣне, пришедше, сѣдоша по Днепру и наркошася поляне, а друзии деревляне, зане сѣдоша в лѣсѣхъ, а друзии сѣдоша межи Припѣтью и Двиною и наркошася дреговичи, и инии сѣдоша на Двинѣ и нарекошася полочане, рѣчькы ради, яже втечеть въ Двину, именемь Полота, от сея прозвашася полочанѣ (здесь и далее курсив наш. – Прим. авт.). Словѣне же сѣдоша около озера Илмера, и прозвашася своимъ именемъ, и сдѣлаша городъ и нарекоша й Новъгородъ. А друзии же сѣдоша на Деснѣ, и по Семи, и по Сулѣ и наркошася сѣверо. И тако разидеся словенескъ языкъ». Как видим, полочане однозначно причислены автором летописи к славянам.
О славянской принадлежности кривичей ясно свидетельствует и сам их этноним, имеющий чисто славянскую природу и стоящий в ряду других славянских этнонимов с суффиксом – ичи: радимичи, дреговичи, вятичи и т. д. Типологически этноним «кривичи» имеет очевидный патронимический характер (потомки Крива), и в этом плане он аналогичен таким славянским племенным названиям, как «радимичи» (потомки Радима) и «вятичи» (потомки Вятко). Балтская этнонимия не знает суффикса – ичи и патронимических этнонимов.
Также следует обратить внимание на то, что в латышском языке Россия именуется словом «Krievija», а русские – «krievi». Белорусов латыши называют «baltkrievi» (baits – белый). То есть имя племени кривичей балты перенесли на всё население Руси, что свидетельствует об этнокультурном единстве кривичей с другими восточнославянскими племенными объединениями, из которых сложилась древнерусская народность. К этнонимам балтских языков следует относиться предельно внимательно, поскольку данные языки являются одними из самых архаичных среди индоевропейских, а балты – древнейшие соседи славян.
Любопытно, что на Пелопонесском полуострове зафиксирован топоним «Kryvitsani», который, очевидно, связан со славянским этнонимом «кривичи». Не случайно византийский император Константин Багрянородный практически тождественной пелопонесскому «Kryvitsani» формой именовал восточноевропейских кривичей. По всей видимости, в ходе бурных событий эпохи славянского расселения одна часть кривичей оказалась в Восточной Европе, а другая – на юге Греции.
Другим племенным объединением, принявшим участие в этногенезе белорусов, были дреговичи. Повесть временных лет помещает их между Припятью и Западной Двиной: «а друзии сѣдоша межи Припѣтью и Двиною и наркошася дреговичи». Назвав эти реки, летописец, безусловно, указал не точные границы земли дреговичей, а лишь примерное место их расселения. Не подлежит сомнению, что бассейн Западной Двины принадлежал кривичам. Реальной же северной границей дреговичских поселений была линия, проходящая через Борисов и Заславль. То есть дреговичи занимали Центральную и бо́льшую часть Южной Белоруссии.
Как убедительно доказал Валентин Седов, дреговичи выделились из среды дулебов, праславянского племенного образования, занявшего территорию от верхнего течения Западного Буга до поречья Днепра. Помимо дреговичей из дулебов вышли также волыняне, поляне и древляне. Интересно, что все указанные новообразования, кроме волынян, получили свои названия от характера местностей, где они обитали: название полян образовано от слова «поле», древлян – от слова «древо», а дреговичей – от белорусского слова «дрыгва» (трясина).
Известно, что в VІІ-ІХ веках часть дреговичей жила в Македонии, к западу от Солуни (эта ветвь дреговичей именуется в византийских источниках другувитами). Академик Евфимий Карский высказал предположение, что македонские дреговичи были одними из тех славян, на язык которых уроженцы Солуни Кирилл и Мефодий перевели первые богослужебные славянские книги. «Ведь святые братья, просветители славян, естественнее всего на первых порах должны были писать на том славянском языке, который был знаком им с детства»[17], – отмечал Карский. Учитывая то, что дреговичи получили своё название от болотистой местности Припятского Полесья, расселение данного племени на Балканах, несомненно, происходило с территории Белоруссии. Следует отметить, что проживание представителей крупных племенных образований в различных, порой весьма удалённых друг от друга регионах славянского мира – вполне распространённое явление. Помимо уже упомянутых кривичей в Восточной Европе и Греции, можно вспомнить ободритов на Дунае и в Полабье, сербов балканских и сербов лужицких, хорватов в Прикарпатье и Хорватии, полян Малой Польши и полян киевских, словен на Ладоге и в Словении.
Третьим славянским племенем, жившим на территории Белоруссии, были радимичи. Они заняли юго-восток Белоруссии, а именно междуречье Днепра и Сожа (Днепр отделял радимичей от дреговичей). Повесть временных лет говорит об этом племенном объединении следующее: «Радимичи бо и вятичи от ляховъ. Бяста бо два брата в лясѣхъ: Радимъ, а другый Вятко, и, пришедша, сѣдоста: Радимъ на Съжю, и прозвашася радимичи, а Вятко сѣде своимъ родомъ по Оцѣ, от него прозвашася вятичи». Видимо, память о недавнем прибытии радимичей и вятичей на реки Сож и Оку во времена летописца (начало XII века) была ещё так свежа, что он счёл нужным рассказать даже предание об их родоначальниках – Радиме и Вятко.
Примечательно, что радимичи и вятичи названы в летописи не русскими племенами, а ляшскими (т. е. западнославянскими). Евфимий Карский предположил, что оба эти племени жили когда-то к западу от дреговичей, в непосредственном соседстве с ляшскими племенами. Такого же мнения придерживался Любор Нидерле. Как бы то ни было, неоспоримым является тот факт, что радимичи, вошедшие в состав белорусского (суб)этноса, и вятичи, составившие этническую основу великорусов, имели общее происхождение.
Несмотря на то, что кривичи, дреговичи и радимичи впоследствии составили белорусскую народность, в домонгольский период истории Руси не просматривалось никаких предпосылок для слияния северных и южных славянских племён будущей Белоруссии в некую самостоятельную страну. Изначально полоцкие кривичи относились к северной конфедерации восточнославянских земель во главе с Новгородом и поддерживали связи с другими кривичскими группировками. С дреговичами и радимичами, тяготевшими к киевскому центру, они соперничали за сопредельные земли. В дальнейшем все три племенных объединения были интегрированы в древнерусскую народность.
16
100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі / Уклад. I. Саверчанка, Зм. Санько. Менск, 1993. С. 5.
17
Карский Е.Ф. Белорусы. Т.1. Введение в изучение языка и народной словесности. Варшава, 1903. С. 70.