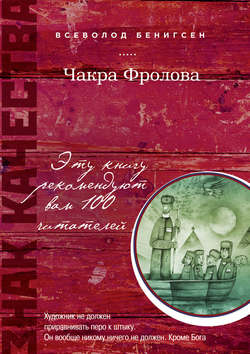Читать книгу Чакра Фролова - Всеволод Бенигсен - Страница 15
Часть первая
Невидово
Глава 15
ОглавлениеСтудийная «эмка» неслась по лесу, подпрыгивая на корнях вековых деревьев.
– Не могу понять, – чертыхался Никитин, давя на газ и вцепившись в руль, который то и дело норовил выскользнуть из рук. – Заколдованный круг какой-то. Опять в Невидово дорога ведет! То его днем с огнем не найдешь, то как магнитом тянет.
– Оставь, – устало отмахнулся Фролов. – Ведет и ведет. Главное, в болото не угодить.
– Не угодим.
– Горючего-то хватит?
Никитин нервно посмотрел на прибор. Стрелка болталась где-то посередине.
– Полбака есть. И еще сзади канистра. Слушай, Александр Георгич… а если война, значит, и мобилизация будет.
– Значит, будет, – меланхолично ответил Фролов, который в очередной раз думал о Варе, а в таком состоянии и война казалась ему делом второстепенным.
Интересно, думал Фролов, если меня убьют на фронте, она будет плакать или нет? Всплакнет, наверное. Потом забудет. Тем более война, то да се. Не до сантиментов. А может, наоборот, – война пробудит в ней любовь.
В голову Фролову полезли пошлые сентиментальные картинки о том, как Варя находит его умирающим в каком-нибудь госпитале и выхаживает его. И они женятся. Или он приходит с фронта и звонит ей в дверь. Она открывает входную дверь и видит, что он на костылях. Нет, на костылях – это как-то мелко. С месяц попрыгает и перестанет. Делов-то. Лучше так. Она открывает дверь и видит, что у него нет ног. Нет, без ног – это перебор. Это все-таки полная инвалидность. Да и как-то совсем не героически. Она открывает дверь, а он почти на самом полу откуда-то снизу на нее смотрит. Жалкое зрелище. А если без одной ноги? Нет, все равно инвалидность. Всю жизнь с палочкой – как старик. А допустим, нет одного глаза? Нет, это как-то неприятно. Тем более потом ему вставят искусственный, а с искусственным глазом он будет косым, а значит, совсем непривлекательным. Лучше так: нет уха. Это не так заметно. Правда, и на полноценное сочувствие не потянет. Она ведь не сразу поймет, что у него уха нет. Придется специально повернуться к ней оторванным ухом. Да и мало ли одноухих. Ван Гог отрезал себе одно и ничего. Нет, лучше так. Он приходит с фронта, и она понимает, что того былого Фролова больше нет, потому что его душа умерла. Ну, или обожжена. Да, душа – это лучше. Душа это все-таки не физический дефект. В глаза не так бросается. Но дефект. Теперь Фролов циничен, жесток и небрит. И в глазах пустота. И ее признания в любви его не трогают, потому что после того, что он видел, все прочее – чепуха. И она понимает, что не ценила его тонкую душу, пока та была жива и светилась в его глазах. И тогда Варя начинает всеми доступными средствами лечить перебитые крылья его души. И вот в один прекрасный день они выходят вместе на улицу. Он идет хмурый, может, даже прихрамывает слегка. А на улице весна. Светит солнце, и поют птицы. Журчит вода меж проталин. И два голубя воркуют, сидя на водосточной трубе. И Фролов впервые за много месяцев улыбается. И Варя тоже улыбается. И обнимает его. Ну и дальше музыка, крупный план, отъезд с крана, общий план улицы и…
Тут Фролов пришпорил свое разыгравшееся воображение, с ужасом поняв, что только что нафантазировал целый фильм – причем с довольно пошлым финалом. Он даже вздрогнул. Но не от собственной придумки, а оттого, что на глазах у него выступили слезы, ибо в момент придумывания, то есть «просмотра» этой «киноленты», все ему казалось таким душераздирающе точным и глубоким.
Фролов вытряхнул из головы свою малохудожественную фантазию. Чушь, конечно. Ничего этого не будет, потому что Варе глубоко наплевать на Фролова. Он как-то ногу ушиб, так она по телефону поахала, а потом и говорит: «Ну тогда, конечно, не надо сегодня приходить. Зачем мучиться? Приходи, когда выздоровеешь». Нет, чтобы самой прийти, пожалеть.
Как-то раз в самом начале их отношений, когда они лежали в постели, утомленные любовными играми, он спросил у нее, будет ли ей его не хватать, если он, например, вдруг исчезнет. И тут же пожалел. Варя криво усмехнулась:
– Тебе правду сказать или соврать?
– Понятно, – ответил сквозь стиснутые зубы Фролов и подумал, а не встать ли ему и не уйти, обидевшись на такой встречный вопрос. Но не встал. Уже тогда чувствовал, что слишком зависим от Вари.
– Что тебе понятно?
– Понятно, потому что перед таким выбором ставят только идиотов («и только идиоты», – хотел он добавить, но сдержался).
– Почему?
– Ха! Правду или соврать! А какая разница-то? Ну, скажу: «Соври». Что изменится? Поменяем минус на плюс, и все дела.
– Ты прав, – легко согласилась Варя, видимо, закрыв тему.
– Одно утешает, – усмехнулся после паузы Фролов. – Раз ты предложила мне выбор, значит, у тебя есть ко мне хоть немного уважения. Или жалости. Кому-нибудь другому ты бы соврала без предварительных вопросов.
– И тут ты прав, – снова кивнула Варя. – Я люблю, когда ты прав.
Она попыталась любовно взъерошить ему волосы, но Фролов мотнул головой, увернувшись от Вариной пятерни.
– Лучше бы ты меня просто любила. Без «когда».
– И тут ты прав, – сказала Варя, но на этот раз признание его правоты оставило горькое послевкусие.
«А вот тут могла бы и промолчать», – с досадой подумал Фролов. Разозлившись, он неожиданно прижал Варю к себе и впился ей в губы, словно мстя ей за неуместную честность.
– Больно! – выкрикнула она, вырвавшись, и исподлобья посмотрела на Фролова, трогая пальцем вспухшую губу.
«Нет, не любит, – подумал Фролов с тоской и каким-то искренним удивлением. – Совсем не любит. И вряд ли ей будет меня когда-нибудь не хватать. Может, только самую малость. Как не хватает потерянной шляпки или забытых в трамвае перчаток. Досадная неприятность, не более».
Этот разговор повторялся потом много раз и в разных вариациях, но всякий раз в конце Фролов приходил к одному и тому же неутешительному выводу.
На самом деле вопрос «нехватки» волновал его гораздо больше, чем вопрос любви. И когда он впоследствии действительно исчезал (не звонил, не появлялся), то делал это вовсе не потому, что пытался забыть Варю или хотел насолить ей или проверить свои чувства, а потому, что его интересовала степень своей нужности для Вари. И, надо сказать, крайне болезненно переживал свою заменимость. Это, впрочем, касалось не только личных отношений. «У нас незаменимых нет», – доносился отовсюду суровый «афоризм» Сталина (хотя на самом деле им он никогда не произносился, а был всего лишь утрированной и быстро растиражированной услужливыми чиновниками выжимкой из его речи). Встречая этот расхожий оборот в газете, Фролов каждый раз мысленно содрогался. Словно Сталин сказал это конкретно о нем. Нет, Фролов не был чрезмерно самолюбив, но незамечание его отсутствия или присутствия в той или иной компании, обществе, коллективе его коробило. Как-то раз его коллега по работе на студии детских фильмов, встретив Фролова на лестнице, стал во всех подробностях рассказывать тому, как прошел день рождения их общего знакомого. Ужас заключался в том, что Фролов мало того, что сам был на том празднике, так еще и сидел рядом с этим самым коллегой и долго трепался с ним о кино и вообще об искусстве. Коллега же, услышав, что Фролов там был, немного смутился, но было видно, что он и вправду запамятовал присутствие последнего. Это легкое недоразумение выбило Фролова на несколько часов из колеи. Он бродил по коридорам студии, размышляя о причинах такого казуса, после чего спустился в гардероб, где долго пялился на свое отражение в зеркале, словно проверяя очевидность своего присутствия в этом мире. За этим занятием его застал местный остряк Шулевич, который, проходя мимо, ухмыльнулся:
– Что, Александр Георгич, смотришь? Пытаешься понять, почему женщинам не нравишься?
И залился квакающим смехом.
Шулевич был, по слухам, мужик неплохой, но Фролову отчаянно захотелось набить ему морду, потому что, во-первых, терпеть не мог плоский мужской юмор, тем более в таком панибратском оформлении – Шулевича он видел от силы раза три-четыре, это даже шапочным знакомством не назовешь, а во-вторых, Фролов женщинам вполне нравился, просто далеко не всем. Но главное…
Еще в детстве, прочитав роман Уэллса «Человек-невидимка», Фролов с ужасом представлял себя в роли героя и совершенно не понимал, почему большинство его сверстников, да и просто читателей, находили подобное положение достойным зависти. Быть невидимым – что может быть хуже? Ну, хорошо, в романе герой изобрел невидимую жидкость, значит, был все-таки талантливым человеком. Но ведь пойди это изобретение в массы, был бы полный абсурд. Мало того, что ты как творческая личность – пустое место, так еще и как физическое лицо – ноль. Или как афористично и хлестко заметил Кондрат Михайлович Топор (правда, по совершенно иному поводу, а именно громя какого-то бездарного сценариста): «Как творческая единица, ты – ноль, а как творческое лицо безлик». Нет, нет! Увы и ах. Фролова совершенно не привлекала возможность бродить в невидимом состоянии по спальням хорошеньких женщин или нарушать закон, зная, что тебя никогда не поймают. Мы и так все превратимся в пустоту после смерти. Не хватало, чтоб это превращение произошло еще при жизни. Вот почему Фролов терзал Варю дурацкими вопросами о собственной «заметности», вот почему ему так хотелось, чтобы она хотя бы раз, пусть и соврала, что он ей нужен и ей будет его не хватать. Вот почему его так мучила эта командировка с целью запечатлеть будни передового колхоза. Вот почему его так мучили требования худсовета исправить, а фактически переснять фильм. Дело было не в творческой бесполезности поездки в какой-то там колхоз, и не в идеологической глупости, разъедающей плоть живого художественного фильма, а в том, что и колхоз, и «Артек», и отредактированный до степени политического плаката фильм – все это мог бы снять любой! Да, Фролов был, конечно, нужен. Но нужен не как единственный и неповторимый Фролов со всеми его мыслями и чувствами, а как некое безликое орудие для выполнения определенных и, как правило, нехитрых функций. И тут со всей беспощадной ясностью вставал главный вопрос: «А где же во всем этом я?» Неужели человек рождается для того, чтобы своим появлением на свет восстановить демографический баланс и заполнить чье-то опустевшее место? Неужели этим определяется его «нужность»? Неужели в этом смысл? Нет, не в этом! А в чем? А в том, чтобы нужность человека определялась его уникальностью. В конце концов, удовлетворить плотские желания Вари мог бы почти любой мужчина. (Что и подтверждалось ее многочисленными, а главное, одновременными романами.) И почти любой мог бы развлечь ее разговором или просто совместным времяпрепровождением. Но только Фролов мог бы это сделать, как никто другой. Только Фролов мог бы обнять ее так, как никто другой. И смотреть на нее так, как никто другой. И только Фролов мог бы снять такой фильм, какой не снял бы никто другой. Хуже, лучше – не суть. Главное – свой. Но выходило так, что ни Варе, ни искусству, ни стране Фролов нужен не был.
Трясясь в машине по дороге в Невидово, Фролов пытался понять, почему этот вопрос не волнует, например, Никитина или тех же невидовцев. Может быть, это просто игра амбиций. Самолюбия. А какие могут быть амбиции у невидовцев? Они – народ простой. Приняли жизнь как данность и живут. Большего им не надо. Но ведь есть Тимофей. Его же что-то терзает. Хотя тоже не настолько, чтобы попытаться реализовать свои способности там, где ему было бы место развернуться. Он сознательно или бессознательно сузил поле своей деятельности до того, что изобретает то, что уже изобретено! Он собственноручно собирает радиоприемник, хотя тот давно существует и даже продается в магазинах. Он конструирует телескоп, хотя и телескоп не редкость. Он придумывает механические поливалки, хотя и они давно придуманы. Он сузил свой изобретательский талант так же, как Никитин сузил свою жизнь, сведя ее к чисто профессиональным функциям, выпивке и женщинам. Сузил? А может, расширил? Может, это и есть жизнь? Может, прав Никитин, а Фролов не прав? А если и вправду война, то не все ли равно?
Фролов вспомнил о войне, как вспоминают о досадном недоразумении, которое портит настроение. Он подумал, что фильм-то теперь точно под смыв пойдет. Кто им еще будет заниматься? Хорошо, если студию эвакуируют. Это если война затянется. В спешке возьмут все. В том числе и его фильм. Авось хоть что-то для потомков останется. Причем в первозданном виде. А может, и не возьмут. Именно потому, что в спешке. Или, может, у них будут списки какие-нибудь. По степени важности. Или вдруг окажется, что пленка – это какой-то ценный продукт, который можно использовать в военных целях. И его фильмом будут обматывать раненых бойцов. Или превратят в фитили для гранат – целлулоид ведь хорошо горит. А может, на смытой пленке будут делать рентгеновские снимки. А вдруг в этом и проявится истинное предназначение его фильма? Помогать людям не образно, а конкретно. Вроде библиотек, которыми в годы революции топили буржуйки, чтобы не умереть от холода. Может, в этом и заключается великий смысл искусства? В случае необходимости пожертвовать своей художественной ценностью и стать насущной помощью – куском металла, из которого отольют штык, холстом, из которого сошьют одежу, бумагой, из которой скрутят папиросу, подрамником, которым затопят печь… Но в таком случае не стоит ли и Фролову прекратить оплакивать свою ненужную индивидуальность? Может, и он должен подчинить ее делу революции, построению социализма, победе в войне? И если время требует от него стать штыком, стать штыком. А если надо снять идеологически верный фильм, значит, надо. Может, Маяковскому тоже хотелось писать только о любви. Но ведь он подчинил свой талант требованиям времени, приравнял, так сказать, перо к штыку – и ничего. Ну, не совсем ничего – все-таки в итоге застрелился. Правда, по не совсем ясным мотивам – может, личным. Но, черт возьми! Ведь эдак вообще никакого искусства не будет, ибо «крайняя необходимость» тянется аж с 1917 года и ни конца, ни края ей нет. То тех надо добить, то этих. То пятилетки освоить, то великие стройки коммунизма осмыслить, то коллективизацию провести, то индустриализацию. Не жизнь, а вечный подвиг. Значит, Фролову со временем не повезло?
От этой крамольной мысли Фролов вздрогнул – выходит, что ему уже и время не нравится. А может, и страна? Нет, это чересчур. Но ведь сочинял же Пушкин стихи о любви в годы нашествия Наполеона и ничего. Правда, он тогда совсем пацаном был. Но и Лермонтов на Кавказе не только политически грамотные стихи писал. А ведь тоже, как ни крути, кругом военные действия, то есть крайняя необходимость. Нет, что-то тут не складывается. Иначе получается, что крайняя необходимость на Руси со времен царя Гороха тянется. Сколько ж можно перо к штыку приравнивать?
Но главное, что в теорию о штыках и перьях совсем не укладывалась Варя. Здесь-то почему Фролов должен чем-то жертвовать? Пусть он хотя бы здесь будет нужен таким, какой есть.
Мысли эти терзали Фролова, но остановить их поток он был не в состоянии.
Единственное, что утешало – это то, что снимать будни передового колхоза, похоже, больше нет нужды. Хоть какая-то польза от войны. Впрочем, могут запросто заставить снимать что-нибудь другое. Ту же войну. И тут уж точно не до художеств. Если только не позволят чуть больше обычного.
– Долго еще? – спросил он у Никитина, чувствуя, что мысли его начинают путаться, и он проваливается в какую-то дрему – давал себя знать похмельный недосып.
– Скоро, – коротко ответил оператор, который все это время размышлял об аппетитных формах Серафимы и пришел к грустному выводу, что из-за войны теперь вряд ли что-то у них склеится.
В Невидово въехали в шесть пополудни. Завидев недавних постояльцев, Гаврила совершенно не удивился. Будто знал, что они вернутся. Он даже не привстал с крыльца. Только кивнул и вопросительно щелкнул себя по горлу. Фролов суетливо замахал руками.
– Нет, нет. Никакого алкоголя. Мы буквально на пару минут. Потом едем дальше. Просто решили притормозить, сказать спасибо и все такое.
Лежащие у крыльца Тузик и Валет, как и Гаврила, не проявили к гостям никакого интереса. Разве что Валет слабо вильнул хвостом, но тут же опасливо посмотрел на хозяина – не переборщил ли я с дружелюбием?
Это тотальное равнодушие задело Фролова до глубины души.
«Наше отсутствие равняется нашему присутствию, то есть нулю», – подумал он.
– А вас, кстати, искали, – неожиданно произнес Гаврила и начал скручивать папиросу. – Военные какие-то.
И добавил равнодушно:
– Хотели вас убить.
Никитин с Фроловым переглянулись.
– За что? – спросил оператор.
– Не знаю, – ответил Гаврила и прикусил цигарку. – Михась проболтался.
Фролов подумал, что такой интерес к его персоне, пожалуй, все же хуже полного отсутствия интереса. Быть убитым – это в его планы не входило. Видимо, Вселенная решила ответить на его философские жалобы иронической усмешкой.
– А что за военные? – спросил Никитин. Как и Фролов, он подумал худшее – возможно, их ищут, чтобы арестовать.
– Не знаю, – ответил Гаврила и, прищурившись, закурил. – Михась сказал, убивать вас будут за то, что вы радиву повесили.
– Да я вообще к радио не имею отношения! – воскликнул Фролов и тут же прикусил язык – фраза прозвучала трусливо, как будто он не только оправдывался, но еще и валил вину на Никитина.
– Я помогал, конечно, – сказал Никитин, спокойно проглотив фроловское малодушие. – Но не пойму, в чем преступление-то.
– Наверное, радиву вешать нельзя, – развел руками Гаврила. – Может, закон такой вышел. Законов-то много сейчас. Не знаешь, какой где нарушишь… Еще Михась сказал, что вы – немцы.
И, выпустив струю дыма, задумчиво добавил:
– Но это вряд ли.
– Это не просто «вряд ли»! – возмутился Фролов. – Это чепуха.
– В общем, мой совет такой, – сказал Гаврила, – выждите ночь, а с утра езжайте. А то сейчас столкнетесь с ними, вас и порешат, как сусликов.
Поразмыслив, Фролов с этим доводом согласился – еще не хватало, чтоб они догнали тех, кто их ищет.
– А про войну ничего не говорили? – осторожно поинтересовался Никитин напоследок – они условились с Фроловым не поднимать панику раньше времени.
– А война будет, – заверил Гаврила. – Это я давно говорил. Уж больно много эти узкоглазые на себя берут. А вообще надо у Михася спросить. Он с этими гавриками балакал.