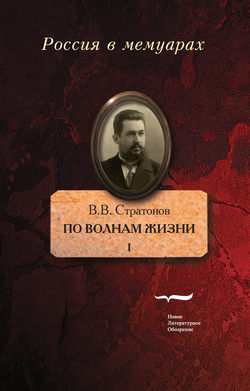Читать книгу По волнам жизни. Том 1 - Всеволод Стратонов - Страница 6
Часть I
Гимназические годы
ОглавлениеКубанская войсковая гимназия
Какое блаженное было время, когда я сдал, в 1881 году, экзамен – прямо в третий класс гимназии[77]! Ног под собою от счастья не чувствовал. За неимением других подходящих слушателей, усердно внушал нашему дворнику, что я теперь являюсь как бы казенным человеком, а не обыкновенным мальчиком, как некоторые другие…
С величайшей гордостью надел я впервые гимназическое кепи – фуражек мы еще не носили. А когда мне принесли гимназический мундир, стало несомненным, что в моей жизни произошло событие необычайной важности.
Гимназия наша называлась Кубанской войсковой. Были тогда такие гимназии в казачьих областях, носившие полувоенный характер: на Дону, на Кубани, на Урале и пр. У нас, например, даже прислуга в гимназии были казаки, откомандированные от частей.
Кубанская гимназия существовала в разных видоизменениях с двадцатых годов[78]. В предшествовавшие годы она находилась в Ейске и лишь в 1876 году была переведена в столицу области. Войско отстроило для нее прекрасное двухэтажное здание на площади, против собора. В материальном отношении гимназия была обставлена неплохо. А в видах наибольшей о ней заботливости войска – почетным попечителем гимназии был по самой своей должности начальник штаба области.
Для казачьих детей существовал пансион – душ на сто. Казачата привозились в пансион прямо из станиц. Не казаков принимали в пансион неохотно и только в виде редкого исключения.
Пансионеры и форму носили особенную: темно-синие мундиры с красным стоячим воротником, красные канты на обшлагах и брюках, серебряные пуговицы; шинели были черного сукна. Остальные гимназисты, не принадлежавшие к казачьему сословию, носили общую гимназическую форму: синие мундиры с серебряным галуном на стоячем воротнике; белые канты и серебряные пуговицы; шинели полагались нам серые.
Впрочем, в мое время мундиры стали заменять, кроме торжественных случаев, серыми форменными блузами, а у пансионеров – черными.
Казаки-пансионеры считались в гимназии, конечно, привилегированными, хозяевами, – и обучались в основных классах. Остальные – русские, или кацапы, то есть дети городских обывателей, только терпелись в гимназии и обучались в параллельных классах. В качестве внимания к служебному положению отца моего и я попал в основной класс. В старших классах, впрочем, происходило уже объединение основных и параллельных.
Казачата-станичники часто вносили в гимназию некоторую дикость, объяснимую беспризорным их детством. Собственно же воспитания пансион им почти не давал, хотя при нем воспитатели и числились. Функции последних были наружно-полицейские.
Между собою пансионеры «балакали» только по-казацки, то есть, попросту, по-малороссийски; в гимназии же обязательным языком был русский. Среди пансионеров постоянно происходили драки, раздавалась неумолчно матерная брань. В старших классах процветали разврат и пьянство. Водка доставлялась в пансион «своими», то есть казаками-прислугой.
Идеалом для наших пансионеров тогда служили бурсаки из «Бурсы» Помяловского[79]; им старались всячески подражать.
Одно из первых моих впечатлений в классе: во время перемены поймали мышь. Пансионер Перепелов взобрался с мышью на кафедру:
– Сейчас будет жертвоприношение!
Ухватил мышь за задние лапки и медленно разорвал ее пополам. Пансионеры гоготали от удовольствия; никто не возмутился.
Постоянно и без причины избивались более слабые товарищи, вытирали им лицо грязной меловой тряпкой… Полную чашу этого пришлось испить и мне, попавшему в основной класс. Драки и взаимные пощечины, а также площадная ругань – не выводились даже до восьмого класса, хотя, правда, заметно ослабевали.
Гимназисты попадались очень великовозрастные. Несколько моих товарищей по третьему классу имели по восемнадцать-двадцать лет. Одного родители, взявши из нашего третьего класса, тотчас, к нашему большому соблазну, и оженили. Эти молодцы, занимавшие традиционную «Камчатку», то есть последний ряд скамей, и уже многое в жизни познавшие, оказывали плохое влияние на своих младших 11–12-летних одноклассников… Они, между прочим, жестоко избивали учившихся лучше, чем они, товарищей – малышей за неудачное подсказывание, за ненаписание за них работы и т. п.
В параллельных классах, где преобладали дети ремесленников, мещан, мелких чиновников и пр., такого одичания не было. Но нравы улицы были все же и там господствующими.
Вечерами гимназисты ходили толпами, с дубинами в руках. Они посещали публичные дома, участвовали там в побоищах, разбивали в нетрезвом виде стекла в окнах домов, сваливали и ломали уличные фонари…
Наша гимназия под конец обратила своей исключительной распущенностью на себя внимание не только местного, но и тифлисского начальства[80]. Начался тогда ряд мер по приведению ее в порядок. Состав учащихся был «омоложен». Великовозрастных казаков частью перевели в казачье юнкерское училище в Ставрополе, а частью просто исключили за слишком продолжительное сидение в одних и тех же классах.
После удаления великовозрастных внешнее поведение гимназистов стало приличнее, но внутренняя грубость сохранилась.
Ввиду все же непрекращавшейся распущенности, а главное, ввиду развития в гимназической среде революционных тенденций, в последний год моего пребывания в гимназии была сделана попытка ее милитаризировать. Это выразилось, между прочим, и в том, что нас обязали становиться во фронт перед генералами, а также перед нашими директором и инспектором. Учителям же нашим, а также всем офицерам мы обязаны были отдавать честь.
Это последнее приказание доставляло большие уколы нашему самолюбию. Наши великовозрастные товарищи, исключенные из младших классов за неуспешность и громкое поведение, вернулись через два-три года из юнкерского училища офицерами, хорунжими. Нас обязывали теперь козырять им как начальству, и они над нами на этой почве часто просто издевались. Возникали конфликты между молодыми офицерами и гимназистами старших классов… Но вдруг все кончилось катастрофой!
Директора
Стоял жаркий майский день. Мы выстроены, во время большой перемены, во дворе гимназии, на уроке гимнастики. Стоя в шеренгах, обливаясь потом, застегнутые на все девять пуговиц наших суконных мундиров.
Директор гимназии, грузный с лысиной Гурий Гурьевич Ласточкин, над нами, наконец, сжаливается:
– Господин директор разрешает расстегнуть… через две пуговицы третью!
Прохладнее от такой милости никому не стало, но в этом распоряжении как-то весь Ласточкин и выказался. Он не творил ни добра, ни зла, но проявлял много ненужного педантизма[81]. При нем подтягивание гимназии, на котором настаивало начальство, шло очень медленно. Вероятно, по этой причине он был в 1884 году смещен.
Новым директором был назначен Казимир Лаврентьевич Вондоловский. Ему предшествовала молва, как об исключительно строгом администраторе.
Гимназия затрепетала – и не только учащиеся, но и учителя. Пошли разговоры:
– Едет… Не едет…
И вдруг молниеносно разнеслось:
– Приехал!!
Нас собрали всей гимназией в актовом зале. Выстроили в ряды. Мы ждали директора с игривым любопытством. Успевшие его повидать рассказывали об юмористической внешности нового директора. Раздавались шуточки…
– Смирна-а!
В дверях появилась, сопровождаемая целой педагогической свитой, красочная и оригинальная фигура. Высокий, худощавый, точно Дон-Кихот… Седой, с маленькой мефистофельской бородкой. Глаза сверкают. Вошел с высоко поднятой головой… Молча остановился…
И все замерло.
Вдруг он загремел, да еще как!
– Вы прославились своим безобразным поведением на весь Кавказ! Смотрите!! Чтоб все это было забыто раз навсегда! Я вас приведу в порядок!! Горе будет вам, безобразники! Пощады не ждите!!
Он гремел несколько минут, показавшихся нам очень долгими. Но закончил смягченно:
– Знаю, что не все вы безобразники! Те из вас, кто ведет себя безукоризненно, кто прилежно занимается, найдет во мне покровителя и защитника.
Многих искренне обуял страх. Внешность нового директора вдруг перестала казаться смешной; она показалась уже грозной… Возникшие, было, о нем анекдоты не находили слушателей.
Он сразу взял гимназию в железные тиски. Внешне поведение гимназистов сильно подтянулось. Гимназические надзиратели, старавшиеся раньше обойти гимназистов как-нибудь сторонкою, теперь осмелели. Но Вондоловский иногда и пересаливал.
Например, он издал приказ, запрещающий гимназистам выходить из дому после пяти часов вечера. Это было преувеличенное «военное положение», особенно неуместное для летнего времени, когда в Екатеринодаре в пять часов еще и солнце жарило. А чтобы выйти куда-нибудь позже этого часа, даже с родителями, требовалось получать специальное письменное разрешение директора или инспектора. В очень тяжелое положение попали те, кто существовал частными уроками, возможными для гимназистов только по вечерам, те, кто должен был выходить из дому, помогая не имевшим прислуги родителям.
Конечно, это нелепое правило повело лишь к изощрению в обмане. Гимназисты стали переодеваться в «штатское», почти каждый завел накладные усы и бороду… Однако осмелевшие надзиратели часто ловили виновных, и они водворялись в карцер. Да и сам Вондоловский с инспектором Г. В. Шантариным постоянно бывали вечерами на улицах, следя за исполнением этого приказа.
Главной ареной вечерней охоты за гимназистами бывал городской сад. Сюда вечерами стекались горожане – подышать свежим воздухом. Здесь и переодетые гимназисты, с подклеенными бородами, перебегали из освещенных аллей в темные, прятались в кустах… А за ними гонялись надзиратели…
Сама жизнь под конец заставила рьяного директора отменить это распоряжение.
Преподавателем был К. Л. Вондоловский неудачным. Он преподавал, например, нам в восьмом классе географию России. Придерживался он буквально текста учебника Белохи[82], страницы которого мы должны были заучивать почти наизусть. Таким образом дело дошло у нас до русских среднеазиатских владений, которыми очень интересовался мой отец и заразил своим интересом и меня.
Повторяя буквально слова учебника, Вондоловский рассказал нам о таком административном устройстве края, которое было уже несколько лет назад изменено. Со свойственной молодости непосредственностью я поднялся и, получив от преподавателя слово, указал, что теперь это устройство уже иное, и именно такое-то…
Вондоловский, видимо растерявшийся, промолчал. Но на следующем уроке для восстановления своего престижа прочитал мне перед классом нотацию:
– Административное деление с течением времени может и изменяться. Но это не имеет значения для вас! Ваша обязанность в точности заучивать именно так, как сказано в вашем учебнике![83]
Преподаватели
Вот несколько более ярких лиц из альбома моих преподавателей[84]:
Законоучитель, о. Григорий Смирнов, обращал на себя внимание исключительно кудлатой головой. Грива его волос свешивалась на самые уши и закрывала их. В гимназии возникла легенда, будто у о. Григория уши кем-то отрезаны, а потому он прикрывает волосами то место, где они были. Слух этот дошел до священника. Впоследствии он стал, как будто нечаянно, приподнимать на уроках прядь волос, демонстрируя ученикам наличие ушей.
Среди учащихся о. Григорий был мало популярен. Отчасти в этом он и не был виноват. Ему пришлось заменить ушедшего, еще до моего поступления, очень любимого учениками протоиерея Кипарисова, и одно это было уже для Смирнова неблагоприятным. Но и сам он не обладал даром завоевывать симпатию. Повышенной требовательностью и улыбкою, казавшейся у него насмешливой, он восстанавливал против себя юношество.
Через год после прибытия его в гимназию произошло нечто безобразное:
– Законоучителя ученики оплевали!
В одном из младших классов, во время урока о. Смирнова, ученики стали бросать со двора, через открытое окно, в священника всякой дрянью: дохлыми крысами, тряпками и т. п. Одновременно с ученических скамей действительно будто бы последовало несколько плевков.
Учебное начальство постаралось эту историю смягчить. Да и сами участники безобразия не любили потом о нем вспоминать. Несколько из них было исключено из гимназии, а остальные так или иначе наказаны.
Затем отношения стали улучшаться; и сам священник счел нужным смягчить свою строгость.
Смирнов обыкновенно обращал урок в проповедь – «учил закону». Но часто увлекался, и ученики своими вопросами ставили его в затруднение.
Как-то он стал нам проповедовать, что если человек определяется словом, оканчивающимся на «ист», то такой человек в сущности – ничего не стоящая дрянь. Ехидно дав понять, что сюда надо отнести и «гимназиста», он стал затем перечислять ничего не стоящих людей: «социалист», «нигилист», «анархист» и т. д.
Поднимается ученик Перевозовский, сам сын священника:
– Батюшка, значит, сюда же относится и «евангелист»?
Взрыв хохота! О. Григорий растерялся и ничем не мог ответить, кроме уничтожающего взгляда с насмешкой.
Симпатичны воспоминания о преподавателе словесности Викторе Ивановиче Яцюке. Он был, должно быть, галичанин: выговор – не чисто русский. Мягкий, немного женственный, слабонервный… Но старался пробудить в нас живую искру: сообщал по литературе много больше, чем требовалось программой. Давал для чтения свои университетские записки и лекции, старался приохотить нас к литературе. Когда В. И. читал нам в классе письмо Жуковского, с описанием смерти Пушкина[85], он и сам прослезился… Часто устраивал у нас литературные собрания, диспуты.
В более поздние годы он стал инспектором реального училища в Екатеринодаре же. Едва ли вышел из него удачный администратор, а власть изменила его мягкий характер. Ученики более позднего времени рассказывали о нем уже в других тонах. Говорили, что он склонен стал пускать в отношении учащихся и руки в ход…
Яркое впечатление производил молодой преподаватель истории Федор Владимирович Лях. Он был между прочим одноруким: левая рука была ампутирована после несчастья на охоте. Но Ф. В. мастерски обходился и одной рукой.
Кубанский казак по происхождению, Лях попал в родную ему гимназию. Нам импонировали рассказы о том влиянии, которым пользовался Ф. В. в студенческой среде. Он за что-то и пострадал, сидел в тюрьме, а тогда это было редкостью. Все это создавало над ним столь благородный тогда ореол либерала.
Преподаватель был он хороший и интересный. С учениками держал себя корректно и с достоинством. Историю у него мы учили охотно и знали ее недурно. Часто задавал он желающим еще специальные работы, и их делали с удовольствием.
Математику и физику преподавал Александр Степанович Веребрюсов. Очень красочный тип! Ученый по всему складу, он стал вероятно педагогом лишь по случайности. Ему следовало бы стать ученым математиком или теоретиком астрономом; по последней науке у него были и кое-какие труды[86]. Составил он также и свои учебники по элементарной математике[87]. Но свой предмет не столько преподавал, сколько читал по нем лекции. Дело не спорилось, и математику мы знали плохо.
Высокая прямая фигура, с устремленным куда-то сквозь очки взором, маячит по классу. Он более занят своими мыслями, чем происходящим вокруг него. Мы не остаемся в долгу – каждый делает, что хочет. И только если кто-либо слишком углублялся в постороннее чтение, Веребрюсов говорил визгливо:
– Что вы там Поль-де-Коком, что ли, зачитываетесь?
Оригинал по натуре, Веребрюсов долго воевал с директором, не желая менять своего черного сертука на форменный вицмундир. Нас занимало, чем кончится эта борьба. Но такой формалист, каким был директор Вондоловский, не мог не победить. Из-за постоянных коллизий с начальством Веребрюсов должен был уйти из гимназии. Затем он как-то не мог нигде прочно устроиться, и в последующие годы, когда я был уже на службе, обращался за помощью и ко мне. Жаль было этой profession manquée[88].
Самыми нелюбимыми были преподаватели классицизма.
Преподаватель латинского языка Виктор Васильевич Модестов и на самом деле давал все основания к такой неприязни. Это была насквозь прокрахмаленная, высушенная, бездушная фигура…
Как-то представлялось маловероятным, что у него есть своя жизнь, со всем человеческим. Он скорее казался механизмом, созданным для того, чтобы каждодневно нас мучить по поводу существования латинского языка…
Когда на пороге класса появлялся этот небольшого роста человек, с длинным лицом, обильно поросшим, точно у кукурузы, темно-русыми волосами, в длинном до колен форменном сертуке, – казалось, будто на шею опускается тяжелый камень.
Гробовая тишина в классе. Унылые лица…
С каменным лицом усаживается Модестов на кафедре. Медленно просматривает классный журнал, где против наших фамилий им поставлены ему одному понятные иероглифические пометки. И среди мертвого молчания произносит, точно судебный приговор, фамилию очередной своей жертвы.
С невыразимой тоской на душе выходит жертва, с Юлием Цезарем или с Саллюстием в руках, к кафедре… А мы радуемся:
– Пронесло мимо!
Он нас давил грамматикой и скучнейшей манерой налегать, при изучении классиков, на грамматические формы. Прелесть содержания от нас ускользала без следа. Наводил тоску даже на чтение поэтов: Овидия, Горация… Мы от поэзии ничего не извлекали, кроме опротивевшей грамматики, да сухой, размеренной скандировки. Сплошное уныние, а не уроки!
Об оценке Модестовым наших ответов мы судили довольно безошибочно. Если раздавалось резкое и строгое:
– Сесть!
можно было единицу считать обеспеченной.
При слегка раздраженном:
– Сядьте!
мы ожидали двойку.
Относительно равнодушно-презрительное:
– Сидите!
соответствовало тройке.
Наконец, спокойное и мирное:
– Садитесь!
обещало отвечающему четверку. Об оценке ответов Модестовым пятеркою я что-то не помню.
Мы ненавидели латинский язык всей душой. С другими учителями бывало, что окружали их после урока, задавали вопросы, обращались со своими нуждами. Но подойти к Модестову… это мало кому приходило в голову. А кто пробовал, отскакивал, как от холодного душа.
Уроки греческого языка, наоборот, часто представляли настоящую оперетку.
Преподавал его чех, Матвей Григорьевич Астряб. Добрый человек, но слишком мягкий, со слабым характером, хотя и не лишенный житейской хитрости. Он даже старался дать нам знания, знакомил, хотя и не особенно мастерски, с красотами классицизма. Но все его старания разбивались о наше молодое озорство, нелюбовь к предмету и его полное неумение поддержать порядок в классе.
Одни во время урока поют вполголоса хором, другие читают посторонние книги, третьи готовят другие уроки. Вместо молитв «до» и «после учения», читалось что-то фантастическое и бесконечно длинное. Когда этот небольшого роста человек, с лысиной, в очках, с покрасневшим от досады лицом, выражал сомнение в правильности текста молитвы, ему безапелляционно разъясняли:
– Это требование нашей православной церкви, Матвей Григорьевич!
Был день, когда несчастного «грека» довели до белого каления. Раздобыли маленькую шарманку. Поместили ее под ножку парты. Самой шарманки не видно, а рукоять можно поворачивать ногою.
Едва в классе, где греческий урок шел первым, прочитали молитву, как понеслись звуки «Травиаты»[89].
Астряб вскипел и бросился на обыск. Стал искать в партах. Осмотрел их все… Увы, ничего не нашел. Но едва он сел на кафедру, как снова полились звуки печальной арии Виолетты.
Бедный М. Г. опять бросился искать. Перещупал в том месте класса, откуда лилась музыка, даже карманы ученических брюк… Ничего нет подозрительного. А едва взошел на кафедру, – снова музыка…
Мучительный урок, наконец, кончается. Перемена. Идет Астряб в другой класс. Едва вошел, – опять жалоба умирающей Виолетты:
Adio, del passato
I sonni irridenti![90]
Снова безрезультатные обыски… И так продолжалось весь день, все пять уроков. Обессиленный неравной борьбой, М. Г. пытался спасти положение шутками:
– Уу! Маленькие какие… Забавляются!
Последствий для проказников все это не имело. Сам М. Г. не решился жаловаться. Вероятно, не хотел обнаружить, до чего пала у него в классах дисциплина.
В другой раз ученики умудрились – уже не помню, каким способом, – провести от парт проволоки к кафедре. Как только Астряб уселся, кафедра, вместе с преподавателем, поехала к ученикам… На этот раз, из‐за неожиданного происшествия, Астряб серьезно вспылил. Но вместо того, чтобы послать за директором, он сам побежал его разыскивать. Когда они пришли, следы преступления были скрыты. Ученики в один голос говорили:
– Ничего подобного не было! Матвею Григорьевичу это показалось…
Виновных не нашли; весь класс был только оставлен на один час после уроков.
Потешал учеников своим плохим русским языком и другой чех – преподаватель греческого языка В. В. Шиллер. Он запутался, например, между русским «запомните» и значениями того же слова по-чешски: zapominati – забывать (как и по-малороссийски). Объясняя греческую грамматику, Шиллер внушал:
– Это важное правило. Забудьте его получше!
Дружный хохот учеников вызывал в нем изумление.
Гимназическое обучение
В ту эпоху пичканье мозгов учащихся классицизмом, введенным недоброй памяти министром гр. Д. Толстым, достигло апогея. Поэтому классические гимназии первенствовали. Реальные училища существовали, но терпелись правительством лишь как неустранимая уступка общественному мнению, и окончившие их не получали права на поступление в университет.
Своих преподавателей древних языков было, однако, слишком мало. И среднюю русскую школу залила волна чехов-классиков, преимущественно преподавателей греческого языка.
Нас буквально давили латынью и греческим. Латинский язык начинался с первого же класса, и его уроков бывало в неделю от пяти до семи. Греческий язык вдавливали в нас с такою же напряженностью, начиная с третьего класса. По преимуществу душили нас грамматикой и переводами с русского на эти мертвые языки – пресловутыми «extemporalia»[91]. Классиков из нас все же не вырабатывалось; мы эти языки ненавидели. А так как почти половина времени, вообще проводимого в гимназии, уходила именно на древние языки, то невольно ненависть к ним переходила в неприязнь к самой гимназии.
Запрещенный плод сладок, а им для нас являлось… естествознание и прежде всего биология, признаваемые опасными, как ведущие к атеизму и материализму. Когда в наши руки случайно попадал учебник анатомии или физиологии человека, мы с жадностью его проглатывали – именно ввиду его запрещенности. Книга читалась тайком, держа ее под партою, или же наспех глоталась в уборной… И мы действительно рисковали подвергнуться за такое недозволенное чтение гимназическим скорпионам[92].
Зачитывались мы тайно и другими запрещенными книгами, например… Писаревым. Но настоящий азарт конспиративного чтения наступал тогда, если к нам попадали брошюры Лаврова или Бакунина[93]. Они воспринимались, как откровение…
Все же обучение у нас было поставлено неплохо. В то время существовал порядок, допущенный в виде опыта исключительно на Кавказе, – прохождение курса средней школы без экзаменов. Это была мера, введенная попечителем Кавказского учебного округа К. П. Яновским. Устранив переводные годовые экзамены, Яновский установил переводы из класса в класс на основании проявленной в течение года успешности. Для лучшей же ее проверки устраивались в конце каждой четверти учебного года репетиции, как письменные, так и устные. И те, и другие – экспромтом.
На устные репетиции приходил неожиданно в класс директор или инспектор, а изредка и преподаватель той же специальности. На практике вызывались при этом только неуспевающие, реже – троечники. Хороших учеников почти никогда не тревожили. Вся репетиция заканчивалась в течение одного урока. Письменные же репетиции были обязательны для всех; они производились без ассистентов.
Позже этот порядок, в видах общегосударственной нивелировки, был отменен министром народного просвещения Деляновым – к великому огорчению Яновского. На основании опыта я решительно предпочел бы эту систему общепринятой – ежегодных переводных экзаменов.
Конечно, как и везде, нас принуждали ходить по субботам и воскресеньям в церковь, заставляли говеть и пр., часто убивая этим бывшие у некоторых зачатки религиозности и ни в ком их не зарождая.
Гимнастики было очень мало, а спортивных упражнений и вовсе не было. Занятие спортом считалось делом несерьезным. Типичная фигура гимназиста того времени – сутулый бледный юноша, часто с развившейся близорукостью, без признаков молодой жизнерадостности.
Кружки
Как естественный противовес одностороннему школьному образованию в гимназической среде постоянно возникали кружки для самообразования. Читали доклады и диспутировали на литературные темы. Охотнее читалась, на конспиративных собраниях, подпольная или запрещенная заграничная литература – Л. Мартов, Бакунин и т. п., – или же обсуждались общественно-политические вопросы.
Были и кружки с определенно революционным оттенком, преследуемые властью. Несколько товарищей, настроенные революционно, склонили как-то и меня пойти на одно из таких собраний.
Пришли в один из домиков, на самой окраине города. В «конспиративной» комнате на кровати набросана целая куча гимназических шинелей и «штатских» пальто. В комнате уже набралось десятка два молодежи. Большинство – наши же гимназисты. Но было еще несколько довольно развязно державших себя девиц, один казак-вольноопределяющийся и затем несколько неопределенных фигур, почему-то показавшихся аптекарскими учениками; большинство, если не все, с еврейскими чертами лица.
Накурено до крайности; лампа на столе светит, точно сквозь туман. Долго, однако, не начинают. Чего-то перешептываются в небольших кучках.
Подходит ко мне одноклассник Гречка, – один из приведших меня:
– Пойдем со мною! Одевайся…
– В чем дело?
– Потом скажу. Надо!
Удивился я. Оделись, вышли. Прошли молча квартала два.
– Ну, что же такое? Объясни, наконец!
– Тебе там нечего делать…
Тогда только я понял. Очевидно, опасались меня как сына прокурора и решили «выставить». Тогда меня это и возмутило, и оскорбило. В нелегальные кружки уже и сам я после этого не соглашался ходить, ни на какие приглашения.
Выпускной экзамен
Вот, наконец, с гимназическим курсом и кончено! Остался только выпускной экзамен – тогда акт большой важности.
Его производили, для вящей торжественности, в большом актовом зале. Стол с зеленым сукном, с золотыми кистями… За столом – экзаменационная комиссия, с директором во главе. Все – не по-обычному, парадно!
В параде также и экзаменующиеся. Блузы здесь не разрешаются. Заставили нас облечься в гимназические мундиры.
По залу расставлены в шахматном порядке парты. Каждая предназначена только для одного. Парты отделены, одна от другой, метрами четырьмя: всякое сношение между абитуриентами – экзаменующимися должно быть пресечено… Время от времени между партами циркулируют члены комиссии или надзиратели… Такова обстановка письменных экзаменов; с них дело и начинается.
Трепещущие, мы собрались и ждем. Вот в дверях зала появляется высокая сухая фигура директора. Проходя к экзаменационному столу, он осматривает нас строгим взглядом: все ли меры против нас приняты… Наши сердца сжимаются еще больше.
Директор занимает свое место. Затем вынимает из папки конверт. Это – экзаменационная тема! Она получена непосредственно от учебного округа, из Тифлиса. Конверт прошит накрест проволокой, а концы проволоки припечатаны сургучными печатями. Члены комиссии поочередно осматривают пакет: удостоверяются в целости печатей. Затем директор выходит на средину зала и, высоко подняв руку, показывает издали зачем-то пакет и нам. Ему подносят ножницы. Подняв высоко над столом конверт, директор медленно разрезает проволоки. Из конверта вынимается листок бумаги. Тема! Мы окончательно замираем от волнения… Листок просматривается по очереди членами комиссии. Один из них выходит к доске и пишет на ней тему.
Свершилось!
Вся эта торжественная церемония с конвертом была производима благодаря скандалу, происшедшему в прошлом году. Ранее обыкновенно бывало, что выпускные ученики наперед узнавали экзаменационные темы. Посредством тайных сношений между собой абитуриенты кавказских гимназий устраивали денежный сбор. На собранные средства подкупался кто-либо из служащих в канцелярии попечителя, и темы здесь выкрадывались. Или же, если это не удавалось, подкупался почтовый чиновник в Тифлисе. Он распечатывал искусно на почте конверт, снимал копии тем, передавал их кому следует, а вновь запечатанный пакет путешествовал далее. Применялись и другие способы.
Но как раз в предыдущем году у директора одной из тифлисских гимназий Лилова темы перед экзаменом были похищены из его письменного стола. Виновники обнаружились легко: сын самого директора и его племянник – оба выпускные гимназисты. К скандалу отнеслись довольно мягко: виновники были на год лишены права держать выпускные экзамены. Вместе с тем, однако, были введены усиленные меры предосторожности, впервые примененные к нашему выпуску.
Но и абитуриенты изощрялись в мерах самопомощи. По заранее распределенным между собой ролям один из экзаменующихся просился выйти по естественной надобности. Он оставлял в условленном месте копию темы. Подкупленный сторож передавал эту копию специально мобилизованным лучшим ученикам седьмого класса, которые, пользуясь всеми пособиями, спешно изготовляли работу. Тем же путем, но через другого выходившего, работа или решение математической задачи попадала в зал. Она спешно размножалась, а копии либо перебрасывались от одного к другому в виде смятых бумажных шариков, либо оставлялась под подносом с графином воды, стоявшим на окне для охлаждения экзаменующихся. В таких случаях у абитуриентов внезапно проявлялась массовая жажда…
Письменные экзамены прошли благополучно; начались устные.
Здесь также была организована самопомощь. Один вызывался добровольцем и отвечал первый, без «обдумывания». Двое же следующих предварительно «обдумывали» доставшийся им билет на двух партах, у противоположных стен зала. В парты сторожа заблаговременно подкладывали книги, конспекты и все, что могло бы помочь «обдумыванию».
К этому плутовству нельзя было отнестись слишком строго. Оно было естественной самозащитой при нелепой системе, где происходит не столько экзамен знаний, сколько – памяти. В самом деле, что мог бы извлечь экзаменующийся из учебника математики или любой грамматики, перелистывая их тайком в течение десяти минут, полагавшихся на обдумывание, если бы не был знаком с предметом раньше?
Но на самом последнем экзамене – он был по истории – произошла у нас катастрофа. На противоположных партах «обдумывали» двое: Атарщиков и я. Атарщиков маневрировал неловко: это заметили. К нему подлетел инспектор Шантарин… и извлек из парты целый ворох пособий.
Перенеся «вещественные доказательства» на экзаменационный стол, Шантарин направляется ко мне:
– У вас тоже такой склад?
– Нет, Григорий Васильевич!
Он отходит. Хорошее «нет» – там полно! Терять времени нельзя. Сгребаю все, что было в парте, втискиваю под мундир, в карманы. Живот мой внезапно распухает…
Меня вызывают. И тотчас же инспектор идет обыскивать мою парту. Поздно!
Атарщикову угрожала кара. Но этика требовала: один за всех, все за одного. Раньше, однако, чем мы успели что-либо предпринять для помощи ему, дело повернулось совсем неожиданно.
Атарщиков был постоянным церковнослужителем при о. Григории Смирнове. Теперь этот последний убедил его выдать, в целях самозащиты, всех и все. Атарщиков так и сделал. Дело вдруг стало серьезным. Началось расследование, допросы, заседания… Экзамен был объявлен недействительным, и о преступлении нашем донесли на распоряжение попечителя учебного округа. Мы повисли в воздухе и гадали, что же с нами будет? Неужели придется все сдавать сначала?
Атарщикову, признанному нами предателем, был объявлен бойкот[94].
Недели через три пришло мудрое распоряжение попечителя Яновского: не применять никаких репрессий, повторить заново только злополучный экзамен по истории[95].
После окончания
Итак, гимназия окончена! Мне лично повезло: получил золотую медаль. Но и весь класс сдал благополучно, срезавшихся не оказалось. Буквально мы не чувствовали под собою от радости земли… Кончено с ненавистным классицизмом; впереди – студенчество!
Этого события нельзя было не отпраздновать. Мы ознаменовали его ночным пикником на одном из безлюдных островков Кубани. Переплыли реку и расположились на песке между кустами. Разложили громадный костер, чтобы спастись от комаров. Пировали и пели, пели и пировали… Пили за всех. Один из товарищей, поступивший затем в кавалерийское училище, провозгласил:
– Выпьем теперь за государя императора!
Несколько голосов запротестовало:
– Нет, за него мы пить не будем…
Вернулись уже засветло.
Настало время собираться в университеты. Некоторые из окончивших заявили, что они не имеют никаких средств на эту попытку. Мы устроили в театре городского сада благотворительный концерт, с участием гастролировавшей в Екатеринодаре малороссийской труппы. Ее тогда возглавляла талантливая и симпатичная артистка М. К. Заньковецкая.
Мы, молодые устроители, рассудили, что участвующим в концерте артисткам надо поднести букеты. Но тратить деньги из скромного сбора сочли неправильным, а своих денег ни у кого не было. Как раз в день концерта в клубе, в городском саду, был обед, устроенный местной золотой молодежью в честь артисток, с тою же М. К. Заньковецкой во главе. Мы понадеялись, что соберем деньги среди этой публики, и смело заказали цветы. Товарищи командировали меня с подписным листом. Но все отшучиваются, острят, а денег не дают.
С повешенным носом возвращаюсь по аллее в театр. Позади – шаги. Кто-то берет меня под руку. Оглядываюсь – есаул артиллерист Шелест.
– Ваши товарищи, верно, затратили на цветы свои деньги?
– Да…
– Сколько? Передайте, пожалуйста, товарищам!
Раньше, чем я, растерявшийся, его поблагодарил, он уже удалился. Этот красивый урок я запомнил на всю жизнь.
Нас окончило человек тридцать пять. И сразу начали рваться нити, так крепко, как казалось, нас годами связывавшие. Пошли мы разными путями: одни стали врачами, другие – юристами, третьи – военными… Из моих одноклассников вышел ряд полезных людей, но выдающихся деятелей как-то не выработалось. Судьба разметала нас, и мало кто позже встречался друг с другом.
Конец гимназии
Наш выпуск оказался, между тем, для Кубанской войсковой гимназии лебединой песнью, – последним!
Революционные тенденции, как говорилось, у нас сильно проникли в среду учащихся. Поэтому жандармские обыски и аресты в среде гимназистов становились все более и более заурядным явлением. В связи со всем этим и возникла попытка милитаризировать гимназию.
В начале 1887 года произошел роковой для России факт, далеких последствий которого никто тогда, конечно, и во сне не мог предвидеть. На Невском проспекте в Петербурге были задержаны 1 марта три молодых студента с бомбами, готовившие покушение на Александра III.
Это были: Андреюшкин, из нашей Кубанской гимназии, Генералов, из Лубенской, и Осипанов. Все трое были первокурсниками, только недавно вышедшими из стен средней школы. Вместе с ними был повешен молодой химик Ульянов (брат Ленина).
Андреюшкин был одним классом старше меня: окончил курс в 1886 году. Живо его помню: плотный юноша, с широким угреватым и покрытым следами оспы лицом, угрюмый, неприветливый и, в общем, малозаметный.
Все три студента были повешены. Если справедливо, как на то указывают большевицкие официальные биографы, что именно казнь Ульянова сделала из его брата того Ленина, который так громко вошел в историю, то надо признать, что эти виселицы обошлись России дорого!
Принялись и за те гимназии, из стен которых вышли крамольные юноши. Не помню, чем кончилось дело для двух других, но Кубанскую войсковую гимназию, как революционный очаг, постановлено было закрыть.
Взамен гимназии для молодых казаков Кубанским войском была учреждена сотня стипендий в разных кадетских корпусах. Эти стипендии, однако, по большей части оставались незамещенными. В здание нашей гимназии перевели Кубанское реальное училище.
Городское же управление Екатеринодара, взамен закрытой, немедленно открыло свою мужскую гимназию.
Юбилей
Много прошло с тех пор лет. И вот в 1930 году среди эмигрантов кубанцев в Праге вспомнили, что истекло 110 лет со времени открытия на Кубани первого среднего учебного заведения, Черноморской гимназии, которая затем была преобразована в Кубанскую войсковую гимназию и которую преемственно заменило Кубанское Александровское реальное училище. Этот зародыш произошел 29 июня 1820 года, и первым директором Черноморской гимназии в Екатеринодаре был протоиерей Кирилл Васильевич Россинский.
Столетие существования средней школы истекло в эпоху ожесточенной гражданской войны на Кубани, когда было не до юбилеев. Поэтому более просвещенные кубанцы решили ознаменовать 110 лет со времени этого события. Вот что говорилось в воззвании:
«Дорогие кубанцы! Минуло десять лет, как злая судьба выгнала нас из родного края. Сколько тысяч лучших кубанцев положили свою жизнь в борьбе за свой родной край! Но враг не столько силою, как хитростью, демагогическими обещаниями, склонил на свою сторону и многих из наших братьев – и мы проиграли. Враг одолел обманом! Тысячи раз каждый из нас ставил себе вопрос – почему мы проиграли? Без сомнения, конечная причина нашего несчастья – это неумение разбираться в том, что нам говорят, неумение за льстивыми словами видеть правду, отсутствие у народа в целом надлежащего образования…
Мы потеряли родину, тяжелым трудом приобретенное добро, сейчас мы почти нищие, и единственное утешение в жизни – это при соответственном случае вспомнить про родную Кубань. В этом году как раз и есть такой исторический для Кубани случай! 29 июня истекает сто десять лет, как на Кубани было открыто среднее учебное заведение – Черноморская гимназия, которая была главным источником культурного развития Кубани. С течением времени она была преобразована в Кубанскую войсковую гимназию, которой наследовало Кубанское Александровское реальное училище. Не будем забывать, что в то время, когда только что минуло 28 лет, как наши предки заселили кубанские просторы, открытие среднего учебного заведения было показателем больших духовных их стремлений; эта школа воспитала тысячи кубанских работников, которые создали славу Кубани…
Прошли годы, и гимназию постигло несчастье – сгорело ее помещение, вследствие чего и по причине сильных лихорадок в Екатеринодаре, Черноморская гимназия была переведена в гор. Ейск, где поместилась в большом казенном, б[ывшем] крепостном здании…
Через довольно продолжительное время войско, теперь уже Кубанское, образованное из Черноморского и Линейного, построило прекрасное здание для этой гимназии в Екатеринодаре, куда она перешла в 1876 году 25 сентября. Торжественно было освящено здание и церковь св. Сергия Радонежского при нем…
Войсковая школа на Кубани просуществовала ровно 100 лет, давши колоссальное культурное наследие.
Советская власть, оккупировав Кубань в 1920 году, уничтожила ее и взамен ввела свою школу, передавши даже здание КАРУ[96] правительству Адыгейско-Черкесской республики[97]; церковь из него была вынесена в Екатерининский собор в качестве придела. Уничтожила она форму школы, но не уничтожила культурного духа, и мы твердо верим, что настанет время, когда возродится войсковая школа на Кубани и в нашем “храме славы” вспомянут и основателей его, и духовного отца его – первого директора прот. К. В. Россинского».
Был организован в Праге, для празднования юбилея, комитет из представителей разных казачьих организаций. Как стали отыскивать питомцев этой гимназии, то самым старейшим из них оказался я. Меня и просили прочитать свои воспоминания на юбилейном собрании 28 июня 1930 года.
Я согласился, но список организаций, под флагом которых был намечен юбилей, оказался для меня, как русского общественного деятеля, неприемлемым. И даже одно помещение моего имени в программе такого начинания вызвало в русской эмиграции разговоры. Действительно, в их числе были: «Объединение вольного козачества»[98], которое не могло опровергнуть, что оно субсидируется польским правительством в антирусских политических видах, «Громада украiнцiв с Кубанi»[99] и т. п. С сожалением, но я должен был отказаться от возможности вспомянуть старину с молодыми кубанцами. Впрочем, и самое юбилейное празднование плохо удалось.
77
Вспоминая 14 января 1889 г. о своем поступлении в гимназию, В. В. Стратонов писал в дневнике: «С семилетнего возраста я был в большой дружбе со своей старшей сестрой, более, чем со Славой и Милой. Первый относился ко мне, как обыкновенно бывает в таких случаях, свысока, ибо он уже был гимназистом, кажется, даже старших классов; с Милой же я до сих пор не лажу. Виною последнему наши характеры, хотя в таких отношениях я себя не особенно виню, ибо, со своей стороны, делал почти все, что мог, для улучшения наших отношений. Более всего походили друг на друга характерами мы с Леной. С нею я занимался все почти время, и она оказывала на меня большое влияние. В 1880 году она вышла замуж за Ореста Антоновича Компанейца. Помню, я заплакал, когда Мила мне сообщила новость о сделанном последним предложении. Свадьба была в августе, и Компанейцы сейчас же уехали в Каменец-Подольск. Этим отчасти была решена и моя участь – поступление в гимназию. Я начал усердно готовиться со старшим братом. К лету 1881 г., приехав опять в Екатеринодар, Лена стала со мною тоже заниматься. Все лето прошло в горячей работе, и я в своих мечтах видел себя уже в гимназическом мундире. Часто я прибегал к советам Милы для решения таких вопросов, очень важных, как: на чем остановиться – на кепи или на фуражке; делать ли узкий галун на воротнике или широкий; какой длины делать мундир, – и все в этом роде. Благодаря ремонту гимназии вступительный экзамен все откладывался, и лишь в сентябре, кажется, 4-го числа, благодаря любезности инспектора гимназии, Ник. Вас. Костылева, я был допущен к экзамену в его квартире, полуофициальным образом, вместе с двумя другими, спешившими уезжать в случае неудачи, т. к. кстати было назначено заседание совета гимназии. Я узнал об этом за день и весь день накануне жестоко проработал. Наконец, настал давно жданный и памятный день. Окончив все приготовления, я отправился со Славой на квартиру Костылева, вооруженный свертком бумаги и карандашом. Дорогой я был совершенно спокоен и почему-то уверен в полной удаче» (НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1068. Ед. хр. 3. Л. 147–148).
О самом экзамене и первых днях в гимназии Стратонов вспоминал 26 января 1889 г.: «Итак, я иду на экзамен. Слышав, что в этот день назначен совет, я ожидал встретить нечто вроде того, как рисуют в журналах заседания Государственного совета; каково же было мое изумление, когда я увидел нескольких учителей, сидящих в гостиной в домашних костюмах и толкующих… об охоте. Я этого разочарования долго не мог забыть. Слава, приведший меня, почтительно садится на предложенный стул; я же делаю это без церемоний. В зале еще два мальчика, держащие экзамен, кажется, в приготовительный класс.
Первым меня экзаменует законоучитель Смирнов. Становлюсь около стола и отвечаю. Спрашивает меня какую-то молитву: о ужас! в первый раз о ней слышу. Однако я смело заявляю, что готовился к экзамену по программе, а там оной молитвы нет (действительно, в списке молитв, данном мне Мишей Дивари, этой молитвы не было). Смирнов со своей саркастической улыбкой открывает книгу программ и показывает: молитва означена. Стою сконфуженный, понурив голову. Мне мерещится провал, падаю духом. Какие мне дальше были предложены вопросы и как на них ответил, я уже не помню. Оставил меня Смирнов; я усаживаюсь. Подходит учитель по географии и истории Мамонтов. Я продолжаю сидеть. Слава делает мне замечание, но Мамонтов останавливает, и до конца уже экзаменуюсь, усевшись. Спрашивают меня о реках на северо-западе Азии. Под впечатлением мысли о провале по Закону Божьему, я, не думая, называю Брахмапутру и соседние реки. Но потом, войдя во вкус любимого моего предмета, я отвечаю довольно хорошо, бойко перечисляю реки Азии. Слава слышал, как сейчас же после экзамена кто-то из учителей заметил Мамонтову, указывая на меня: “Да он лучше вас, Алексей Степанович, географию знает!” (Мамонтов был не из важных географов.)
Очередь за русским языком. Экзаменует тип хорошо знакомый и бывающий у нас (ухаживавший, говорят, в то время за Леной) И[ван] И[ванович] Лавров. Побеседовав по грамматике и заставив написать переложение какой-то крыловской басни, кажется, «Ворона и Лисица», он меня отпускает. Этот предмет сошел порядочно. Так же сошел экзамен по математике у А[веркия] Н[иколаевича] Дейнега, подробности которого ускользнули из памяти. Затем наступает черед новых языков. По-французски меня экзаменует П[авел] С[тепанович] Оссовский, по-немецки – А[дольф] Ф[ридрихович] Винцигероде. Здесь я чувствую себя твердо, отвечаю смело и порядочно. Заставили меня почитать и что-то перевести. Уверенности моей содействовало то, что я умудрился подсмотреть в журнале выставленные мне отметки. По Закону Божьему, о радость, стоит тройка. Отлегло на душе. Тройки же я получил по-русскому и арифметике, четверки – по географии, французскому и немецкому. Настает очередь последнего предмета и самого страшного – латыни. Экзамен длится уже два часа, я устал. Дают написать несколько фраз. Должно быть, я написал очень плохо, ибо экзаменатор М[атвей] Г[ригорьевич] Астряб за письменный ответ не хотел поставить более двойки. Делу помог устный экзамен, и я получил в среднем опять тройку. Тогда подымается Костылев и поздравляет меня учеником третьего класса. Стараясь скрыть свою радость, я почти бегу домой, решив последовать совету Костылева – заниматься с братом латынью до начала учения.
Целый день я провожу в размышлениях о важности сегодняшнего дня в моей жизни; идя после обеда в городской сад, считаю долгом раскланиваться с учителями, хотя я еще не в форме. В саду гуляю с гимназистами и, придя домой, важно заявляю, что гулял “с товарищами”. Меня поднимают на смех из‐за этого выражения, и я считаю себя невинно оскорбленным.
Быстро проходят дни до 20 августа, начала учения в гимназии: я добросовестно выучил злосчастную молитву и усердно пишу латинские переводы, любуюсь на готовые уже форменную амуницию и кепи. На молебствии, впрочем, к великому моему огорчению, я еще в цивильном пальто, но на другой день уже в форме. Когда я в первый раз пришел в гимназию, меня, конечно, знакомые товарищи потормошили, таскали по двору, вталкивали в вырытые ямы, хотя, впрочем, я не терпел столько, как обыкновенно новички. После молебствия был акт. Стоя в толпе гимназистов, я позволил себе остановить громко разговорившихся соседей, но меня бесцеремонно оборвали: “Какой-то новичок…” Затем разошлись по классам.
Сажусь на первую скамью один. Приходит классный наставник Астряб и начинает читать распределение уроков. Узнав, что французский и немецкий не будут идти вместе, а отдельно, что сделано из‐за и ради меня, ибо я – первый, кажется, от основания гимназии и, наверно, первый на памяти тогдашних гимназистов, за что мне много пришлось вытерпеть в течение всего курса. Узнав об этом, один из моих одноклассников, Ив. Волковский, восклицает: “Эге, это не выгодно!” Астряб сердито поворачивается и заявляет: “Если вам не нравится, так можете выходить из гимназии”. Это заявление меня совсем смутило: вот оно, какие строгости, сейчас из гимназии исключают за такой пустяк! С этого времени и из‐за этого на меня начали коситься товарищи. Началось учение. Сначала мне было трудно привыкнуть к порядкам и правилам, но понемногу я освоился. Так как я один поступил в 3-й класс, то на меня учителя обратили особое внимание. ‹…› Бывали сюрпризы, что, когда задается урок, подразумевается и написать перевод, а я являлся без оного. Сначала я сильно возмущался, глядя, как другие при классных работах пользуются незаконными пособиями, но очень скоро сам вошел во вкус этого запрещенного плода» (Там же. Л. 156–158).
78
Черноморская войсковая гимназия в Екатеринодаре, существовавшая в 1820–1828 гг., была восстановлена в мае 1850 г. под названием Екатеринодарской (на базе Екатеринодарского войскового училища). Из-за отсутствия собственного здания в 1861 г. ее перевели в Ейск, откуда в 1876 г. она вернулась в Екатеринодар под новым названием – Кубанская войсковая гимназия, размещенная в специально построенном для нее здании, которое, занимая почти квартал по улице Красной, было обращено фасадом в сторону Александро-Невского собора. В 1890 г. войсковая гимназия была упразднена (см.: Трехбратова С. А. Из истории гимназического образования на Кубани // Культурная жизнь юга России. 2013. № 4 (51). С. 51–54).
79
См.: Помяловский Н. Г. Очерки бурсы. СПб., 1865.
80
В Тифлисе находилась резиденция кавказского наместника великого князя Михаила Николаевича, а с 1882 г. – главноначальствующего гражданской частью на Кавказе, командующего войсками Кавказского военного округа и войскового наказного атамана Кавказских казачьих войск А. М. Дондукова-Корсакова.
81
Ср. с дневниковой записью В. В. Стратонова от 1 февраля 1889 г.: «Большого роста, толстый, несколько огрубелый, с большим животом, он производил неприятное впечатление. Говорили о нем, что он – чуть ли не из простых семинаристов, и это похоже на правду. Крайне резкий, говоривший всегда грубым тоном, произнося “чаво”, “я тебя…” etc., он был крайне нелюбим учениками. Пробовал он подтянуть гимназию, довольно-таки распущенную с давних пор прежними директорами, но ему это не удавалось. Всегда он высказывался чиновником, был в высшей степени педантом. Помню, как-то шли во дворе в мае занятия гимнастикой. Жара была страшная, почти невозможно было стоять в суконных мундирах. Тогда, в виде особой милости, раздается голос Ласточкина: “Можете расстегнуть три пуговицы, через две по одной”. И успокоился, думая, что избавил нас от мучений. На гимназические балы он всегда являлся в вицмундире, как на службу. Теперь он в отставке и проживает с семейством, кажется, в Казани» (НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1068. Ед. хр. 3. Л. 160–161).
82
См.: Учебник географии Российской империи / Сост. П. Белоха. СПб., 1863 (выдержал 51 издание).
83
В своем дневнике 1 февраля 1889 г. В. В. Стратонов описывал К. Л. Вондоловского в несколько иной тональности: «Когда он был назначен, я был, кажется, в шестом классе. По приезде он с неделю не показывался в гимназии, но вот в один прекрасный день отдается приказ – идти всем в актовый зал. Пошли, выстроились. Явились воспитатели, инспектор… Ждем. Отворяется дверь и появляется фигура, но какая фигура! Чуть ли не в сажень ростом, худой, седой, с козлиной бородкой из 20 волосков, он идет, высоко подняв голову, с важным торжественным видом. Под рукой у него длинный сверток бумаги. Начинается речь. Говорит он крайне трагическим голосом, делая жесты и свирепо размахивая свертком бумаги, но говорит очень красноречиво. От непривычки к таким речам и к такой фигуре все трясутся от смеха, прячась за спины друг друга. “Прошел я по классам, видел исцарапанные доски, видел изрезанные вашими ножичками скамьи… Стыдитесь! Отцы ваши, войско, к превеликой его чести, тратит на вас громадные деньги. Но вы забываете, что войско – это ваши отцы, и вы заставляете платить своих же отцов”. В таком духе продолжал и дальше, закончив той мыслью, что он – пастырь добрый и послушным овцам будет хорошо, а непослушным – горе. Распустил нас по домам. Конечно, эта речь в тот же день в массе вариантов и в комическом виде разнеслась по всему городу, но чуялось, что будет не то, что прежде.
Действительно, начались большие строгости, быстро подобрали всех к рукам, издали разные постановления, вроде таких: “воспрещается сидеть на улицах”, “воспрещается выходить из дома в будни позже 5 часов вечера”, “в праздники позже 7”, “воспрещается гулять за город на вокзал” etc., etc. Одного долго не могли достигнуть: заставить нас носить ранцы, – и это достиг уже инспектор Шантарин. Строгости коснулись не только нас. Скоро покинули гимназию инспектор Барсов, учитель Веребрюсов; остальные педагоги также были подтянуты. Часто нас собирали в актовом зале для нотаций. Собирали для выслушивания циркуляров. Собирали после Кирилло-Мефодиевского юбилея, на котором отвечал я, чтобы сделать выговор за аплодисменты: “…Читал ваш товарищ, Стратонов, и прочел прекрасно, только немного тихо… Но кто вам дал право аплодировать? Положим, вы могли увлечься, поаплодировать товарищу. А как вы смели аплодировать вашему учителю Ляху? Неужели вы думаете, что он читал ради ваших хлопаний?” И т. д., и т. д. Собирал нас для выслушания нагоняев, но иногда и затем, чтобы похвалить, что случалось несравненно реже первого.
Вондоловский был в высшей степени и разносторонне образованный и знающий. На экзаменах он нас поражал разнообразием сведений. Прекрасно объяснит греческие и латинские премудрости, растолкует по математике, превосходно знает французский и немецкий, но… плоховато знает географию. В VIII классе он нам преподавал географию России и заставлял заучивать чуть ли не слово в слово, что проделывал и сам перед уроками. Заучивал по старому изданию географии Белохи. А я с детства недурно знал географию, особенно же – центральную Азию благодаря осложнениям там в политике: я политикой очень увлекался, ислючительно внешней. На одном уроке как-то сделал вставку – поправку. Вондоловский согласился. Через некоторое время опять что-то солгал, я заметил. Казимир Лаврентьевич сердито кивнул головой. Через несколько дней является в класс перед уроками, дабы сделать выговор Дивари за какой-то инцидент с учителем. Затем обращается с выговором и ко мне: “Знайте, что я обязан сообщать вам лишь то, что есть в учебнике”. При этом рассказывает анекдот, как он ответил какой-то начальнице женской гимназии, вздумавшей щегольнуть перед ним своими новейшими познаниями по истории, вычитанными из французского журнала. Вообще Вондоловский любил говорить анекдоты и говорил их всегда прекрасно и уместно. Как-то желая показать, до чего может довести самомнение, он рассказал такой анекдот, передаю кратко содержание: “В Харьковском университете мужичок, слуга ректора, пришел подтапливать печь. Его окружают студенты и начинают запугивать разными учеными выражениями. Но он не смущается. Тогда ему задается вопрос: «А знаешь, кто мы?» – «А як же». – «А кто?» – «Дурни!»” Анекдотами он пересыпал свои нотации, а потому их приятно было слушать.
В 5 классе он был нашим классным наставником и нельзя сказать, чтобы не заботился о своем классе в смысле поднятия уровня познаний. Ему мы обязаны тем, что вышли из гимназии, зная хоть кое-что. Ко мне, все время пребывания в гимназии, он сильно благоволил, что злые языки приписывали – и отчасти, но только отчасти, справедливо – хорошим отношениям отца с попечителем округа Яновским. Во всех затруднительных случаях Вондоловский приходил советоваться с отцом, и, с другой стороны, в случае какой-либо катастрофы с гимназистами, увольнения несправедливо, вообще несправедливых поступков, гимназисты обращались к отцу, и ходатайство отца всегда имело в гимназии успех. Вондоловского ученики боялись сильно, уважали, но не особенно долюбливали, и большинство просто не любило и бранило. На его памяти осталось-таки довольно несправедливых поступков. В обществе Казимира Лаврентьевича любили как веселого и приятного собеседника, но под конец стали относиться враждебно за его чересчур ретивую деятельность. Многие разгадали его характер, типично и несколько с иезуитским или, правильнее, польским, а не иезуитским, оттенком. С начальством он был слишком почтителен, на что постоянно напирал и указывал; с подчиненными учителями – временами чересур деспотичен. Свою покорность начальству часто доводил до пересаливания, считая за начальство чуть ли не полицеймейстера.
В последний третий год его директорства над ним стряслись несчастья. Еще до приезда в Екатеринодар, когда он был в отставке, у него умерли двое детей; оставался третий, над которым оба (Вондоловская – прекраснейшая, во всех отношениях, женщина) дрожали. Этот сын у них скоропостижно умер. В обществе слышались голоса, что это – наказание за ретивость в отношении к проступкам чужих детей, гимназистов. Раньше несколько, 1 марта, было покушение на жизнь Государя трех студентов, из коих один был кубанец – Андреюшкин. Это событие повлияло на судьбу Вондоловского, и он не был более оставлен на службе, вопреки его желанию. Из Екатеринодара он поехал, кажется, в Москву…» (НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1068. Ед. хр. 3. Л. 162–163).
84
В своих ранних дневниках В. В. Стратонов записал воспоминания не только о Г. Г. Ласточкине и К. Л. Вондоловском, но и об инспекторах и учителях Кубанской войсковой гимназии: Н. В. Костылеве (Запись от 5 апреля 1889 г. // Там же. Л. 171–172), А. В. Барсове (Запись от 17 апреля 1889 г. // Там же. Л. 176–177), В. Г. Шантарине (Запись от 29 мая 1889 г. // Там же. Л. 191–194), Г. П. Смирнове (Запись от 16 августа 1889 г. // Там же. Л. 212–214), И. И. Лаврове (Запись от 16 августа 1889 г. // Там же. Л. 214–216), В. И. Яцюке (Запись от 1 сентября 1889 г. // Там же. Л. 223–224), В. В. Модестове (Запись от 30 апреля 1891 г. // Там же. Д. 4. Л. 311–313), М. Г. Астрябе (Запись от 1 мая 1891 г. // Там же. Л. 313–316).
85
Письмо В. А. Жуковского от 15 февраля 1837 г., адресованное С. Л. Пушкину, было впервые опубликовано в журнале «Современник» в 1837 г. (Т. V. № 1).
86
См., например: Веребрюсов А. С. Задача Кеплера. Харьков, 1869; Он же. Введение в сферическую астрономию. Харьков, 1871; Он же. О прочности солнечной системы. Харьков, 1888.
87
См.: Веребрюсов А. С. Прямолинейная тригонометрия: руководство для сред. учеб. заведений. Харьков. 1884; Он же. Элементарная геометрия и приложение алгебры к геометрии. Харьков, 1887; Он же. Элементарная алгебра: руководство для сред. учеб. заведений. Харьков. 1889.
88
неосуществленной мечты (фр.).
89
«Травиата» – опера Джузеппе Верди (по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями»), впервые поставленная в 1853 г. в Венеции.
90
Правильно: Addio del passato bei sogni ridenti (ит.) – Прощай, прошлое, красивые веселые мечты.
91
Экстемпоралия (от лат. ex tempore – тотчас, без подготовки) – учебные классные письменные упражнения, заключавшиеся в переводе русского текста на латинский или греческий язык без предварительной подготовки.
92
В «Книге пророка Иезекииля» под «скорпионами» подразумеваются нечестивцы, которые, подобно скорпионам, нравственно жалят людей благочестивых (Иез. 2: 6).
93
См., например: Лавров П. Л. Русской социально-революционной молодежи. Лондон, 1874; Он же. 18 марта 1871 года. Женева, 1880; Он же. Социальная революция и задачи нравственности. (Открытое письмо молодым товарищам) Б.м., [1884]; Он же. Национальность и социализм. Париж, 1887; Он же. Революция или эволюция. Женева, [1888]; Бакунин М. А. Наука и насущное революционное дело. Genève, 1877. Вып. 1; Он же. Русским, польским и всем славянским друзьям. Genève, 1888; Он же. Всесветный революционный союз социальной демократии. Русское отделение. К русской молодежи. Genève, 1888.
94
Спустя четыре года, участвуя в экспедиции в ледники Эльбруса, я неожиданно встретился в Нальчике с Атарщиковым, которого мы потеряли из виду. Он здесь лечился от довольно сильного туберкулеза. Слышал я, что вскоре он и умер.
95
Ср. с дневниковой записью В. В. Стратонова от 12 июня 1887 г.: «Экзамены у нас начались 12 мая. К ним были не допущены 7 человек ‹…›. На первом же, русском, многие порезались, из которых один, Короленко, должен был скоро подать прошение об оставлении на второй год. Моя работа, как говорят, лучшая; получил 5. На другой день писали по латыни. Тема была трудноватая. Я сделал две грубые ошибки, но, несмотря на это, моя работа опять оказалась лучшей. Затем писали по-гречески очень легкий перевод, за который я получил 5, и по математике ‹…›. Итак, письменные экзамены у меня сошли хорошо. Начались устные. 1-й был по закону Божьему, 2-й – история, 3-й – греческий, 4-й – латинский, 5-й – математика. Я получил на всех по 5, хотя по математике отвечал лишь на 4. На истории у нас произошла история, не кончившаяся до сей поры. Дело в том, что у нас были составлены для каждого билета программы, более подробные, чем следовало, которые мы положили в скамьи для обдумывания. Из-за этих-то программ история и запоролась. Попалась начальству программа на вопрос № 21, который отвечал Атарщиков, и его решили исключить вместе с другим товарищем, Куликом. Тогда Атарщиков, по совету законоучителя Смирнова, донес, что такие программы были у всех. Нас спросили, и мы, под честным словом, все, кроме Дивари и Фисенко [приписка: и отчасти меня. 16/VIII.89] сознались. Был созван совет, на котором постановили ходатайствовать перед попечителем об оставлении отметок, так как это дело не имело влияния на ответы и было лишь мальчишеством. Но на это ходатайство до сих пор нет ответа. Вот в таком-то неведении мы находимся и в настоящую минуту, не зная, что с нами будет, выдадут ли аттестаты или оставят еще на год. Через это меня могут лишить золотой медали [приписка: боязнь лишиться ее заставила меня несколько сподличать, сознаться лишь в ½ греха. 16.VIII/89.]» (НИОР РГБ. Ф. 218. Карт. 1068. Ед. хр. 2. Л. 31). В записи от 19 июня Стратонов продолжает: «Наше неопределенное положение, наконец, разрешилось. Был назначен второй экзамен по истории на 15 июня. Я получил о нем известие 14-го в 10 ч. вечера в театре. Понятно, что я все бросил и побежал домой. На экзамене, который, в общем, сошел лучше первого, я получил 5. На другой день был назначен совет, а на третий, 17-го, мы получили аттестаты. Золотую медаль получил я, а серебряные – Дивари и Молько. Всего же окончило 13 человек…» (Там же. Л. 32).
96
То есть Кубанское Александровское реальное училище.
97
Неточность: Черкесская (Адыгейская) автономная область с центром в Краснодаре, выделенная, согласно постановлению президиума ВЦИК от 27 июля 1922 г., из Краснодарского и Майкопского отделов Кубано-Черноморской области, уже 24 августа была переименована в Адыгейскую (Черкесскую) автономную область, а 3 августа 1928 г. – в Адыгейскую автономную область.
98
Сторонники казачьей «самостийности», выступавшие за освобождение Дона и Кубани из-под власти РСФСР и СССР и создание «союза вольных казачьих земель-республик – Казакии».
99
Громада украïнцiв з Кубанi в Чехословацькiй Республiцi – эмигрантская украинская общественная организация, созданная в 1921 г. для оказания правовой, материальной и культурной помощи кубанцам, находящимся за границей. СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ