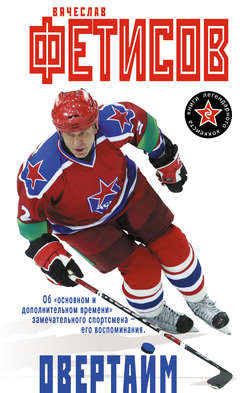Читать книгу Овертайм - Вячеслав Александрович Фетисов - Страница 6
Глава 4. Прощай, СССР! – How do you do, America!
ОглавлениеЧестно говоря, я до последней минуты не верил, что мы улетим… Были зарезервированы и оплачены билеты, которые из Нью-Джерси отправили в Москву на всех шестерых (мы летели вместе с Сергеем Стариковым, его женой и двумя детьми). Но мы не могли получить билеты, потому что их не выдавали без виз, а визы мы не могли получить, потому что не было на руках паспортов, хотя в посольстве США в Москве нас давно уже ждали.
Мы вылетали из Шереметьева в Нью-Йорк 13 августа около часа дня, а отдел МИДа, где нам полагалось получить паспорта, открывался в половине десятого. Из МИДа надо было рвануть в посольство, потом мчаться за билетами в кассы на Октябрьской площади. При этом отстоять все очереди (а тогда в Москве без очередей ничего не обходилось), успеть в Шереметьево, пройти таможню и улететь. Никакой Голливуд подобный боевик не снимет. Сборы мы завершили накануне – сувениры, подарки, коробки. Проснулись рано, а точнее, толком и не ложились, потому что накануне устроили вечеринку для друзей в ресторане гостиницы «Советская». Что-то похожее на проводы, хотя какие проводы без виз и билетов… Но так, на всякий случай – а вдруг!
Мы разработали такой план: рано утром наши жены едут в аэропорт со всеми чемоданами и коробками и ждут нас там, а мы со Стариковым встречаемся пораньше в паспортном отделе МИДа. К открытию туда приехали и Каспаров с Родниной, чтобы нас сопровождать. Очередь на улице колоссальная, и, естественно, чиновник, который был нужен, где-то задерживался. Гарик и Ира не выдержали и, используя свою популярность, прошли без очереди и отправились сами по кабинетам начальников. Минут через двадцать вышел какой-то человек и выдал нам паспорта, будто дефицит из-под полы. Так раньше колбасу или икру завмаги для друзей выносили из гастронома. Сунул он паспорта мне в руку мастерски, никто из очереди ничего не видел.
Я помчался в посольство, а Старому велел отправляться в билетные кассы, занимать очередь и сделать что угодно, но, когда я приеду с паспортами, чтобы он уже стоял около окошечка. Хорошо, в посольстве милиционер узнал меня и сразу пропустил. Зашел я в консульский отдел, там действительно были предупреждены и меня ждали. Быстро поставили во все паспорта визы на многократный въезд в США, которые в те времена советским людям не давались, исключая, конечно, дипломатов. Оказалось, что я прошел под первым номером (так мне потом рассказывали) как советский гражданин с многократным въездом при рабочей визе. С улицы Чайковского по Садовому кольцу жму на Октябрьскую. Слава богу, что пробки тогда в Москве не были еще такими, как сейчас, но все равно уже час пик. Наконец добрался, а Старый в кассе уже со всеми договорился. Взяли билеты, снова вскочили в машину и – в Шереметьево. Там родители и друзья уже ждали, слоняясь небольшой кучкой по залу. За пару часов мы сделали то, что в те времена было сделать совсем непросто за несколько недель. Но зато родные власти держали нас за горло до последнего момента, когда нервы уже были напряжены настолько, что дальше должны взрываться. Это не была какая-то специальная операция против нас. Нет, так обычно уезжали из Союза на Запад почти все: никто не должен был быть уверен в своем благополучном отбытии в капиталистический ад. Потому и отъезд за границу выглядел как прощание с Родиной навеки. От всей этой нервотрепки объятия и поцелуи в Шереметьеве казались слишком эмоциональными. Крутов прошел с нами до самолета через таможню, через пограничный контроль без паспорта. Мы сели с ним в ресторане зоны отлета, выпили, потом я вспомнил, что он оказался в ней без единого документа (как – остается загадкой до сих пор), и говорю: «Вова, садись в самолет, полетели с нами, если ты уже прошел границу – чего мучиться?» Но Вову с той стороны границы ждала жена.
Мы летели компанией «PAN-АМ», первым классом, сумасшедший был тогда первый класс – кресла шириной в кровать.
И только когда самолет поднялся в воздух, я понял: я выиграл эту войну.
Ничего в моем сражении за свободу выбора не было скрыто от глаз общественности и от всех руководителей – партийных, комсомольских, военных. Вся борьба велась открыто, с помощью таких аргументов, противопоставить которым можно только клевету. Не скрою, я плакал, что выиграл, я плакал от радости, от гордости, что устоял, но я представить себе не мог, как тяжело мне будет в Америке. Мечты были, как у любого эмигранта, который, уезжая в Америку, искренне верит, что там деньги на деревьях растут и не надо себя ни в чем утруждать. И мы, конечно, как и все, столкнулись с огромными трудностями в быту. Но помимо них возникли серьезные проблемы и с моей работой.
Когда мы, прилетев из Москвы, разместились в нью-джерсийском «Хилтоне», до начала тренировочного лагеря, кемпа, оставалось чуть больше трех недель. Начиналась другая война, но о ней я еще не подозревал. Просто даже представить себе не мог, что я на краю пропасти.
Последние полтора года в Москве я не задумывался, в каком же состоянии я нахожусь: в физическом, моральном, эмоциональном плане. В той гонке страшно было подумать, что ждет нас впереди, но еще страшнее было оглядываться. Не сразу, но довольно быстро я стал понимать, что начало новой жизни обойдется мне недешево. А я представлял себе, что она начнется красиво и просто. На самом же деле я как спортсмен был разрушен в лучшем случае наполовину. Я, начиная с шестнадцати лет, жил в определенной системе тренировочного цикла. Одиннадцать месяцев в году – тренировки на льду, иногда двухразовые, по строго определенному расписанию. Я это вовсе не для оправдания себя рассказываю. Я жил по четкому графику: три месяца тренируешься, перерыв, подготовка к Кубку «Известий», перерыв, подготовка к чемпионату мира, большой перерыв. Так продолжалось из года в год. Одна и та же схема. Абсолютно точные внутренние часы. Я был натаскан на определенные нагрузки, как охотничья собака-чемпион – на дичь. Если б я жил поменьше в этой системе, куда проще было бы перестраиваться, что потом доказала приехавшая в НХЛ молодежь. А у меня с семнадцати лет – уезжал я в Америку в тридцать один – вся жизнь была подчинена интересам сборной.
В советском хоккее существовало суждение, что две игры подряд, за два дня – это неправильно, нет времени для тренировок, нет времени для восстановления сил. Помню, Тихонов всегда был против, когда мы играли – обычно при выездах на Урал – два матча подряд. Выравнивался класс ЦСКА и местных команд. Часто победы делились: если выигрывали игру первую, на вторую мы уже могли и не собраться. Система тренировок в родном хоккее не была нацелена на плотный календарь. Подготовка к чемпионату мира, где игры шли через день, все равно строилась как подготовка к финальной части сезона. Даже на чемпионатах все было известно по часам. И начинали мы их всегда с разгона от самой слабой команды. То есть все то, чего нет и быть не может в НХЛ. Название одно, а игра совсем другая. В «Нью-Джерси» я должен играть две игры подряд, да еще по 25–28 минут за матч. Должен играть три игры за четыре вечера, да еще с переездами. Или пятнадцать игр в месяц. И мне платят за такую игру, более того, на меня возложены какие-то надежды хозяев клуба, и я должен их оправдать, должен тренироваться и в это же время, параллельно, восстанавливаться. А я понятия не имел, как это делается на таком временном отрезке.
Но самое главное, что я был выбит уже и из прежней системы. После Олимпийских игр в Калгари я нормально не тренировался, и для того чтобы вернуться в прежнее состояние суперзащитника, по моим подсчетам, мне нужно было восстанавливаться год или два, а может, больше. Но у меня на это не было и одной недели. Никакие занятия с заводскими командами не могли помочь мне, игроку сборной, неоднократно признававшемуся лучшим защитником мирового первенства, вернуть прежнюю форму. Когда ребята накануне чемпионата мира выступили в мою защиту, у меня было всего три недели для того, чтобы форсировать подготовку, чтобы вписаться в такую команду, как сборная Советского Союза. Но тогда во мне бушевало много задора и желания доказать свою правоту. Теперь же я оказался физически в полном минусе и только удивлялся, что уставать начал так, как никогда не уставал. Когда ты выбиваешься из привычного режима, даже вес меняется. У меня килограмма четыре оказалось лишних. Все вместе плюс незнание, как выдерживать две игры подряд, как играть три матча за четыре дня, делало мою жизнь не просто тяжелой – неописуемо тяжелой. Я никогда не знал такого сумасшедшего темпа, а здесь даже мальчишки, играя за юниорские команды, имеют где-то 60 игр в сезон. Их с детства готовят к тому, чтобы они спокойно могли «переваривать» такие нагрузки. У меня, естественно, такого опыта не было…
Когда меня уволили из армии, осталось решить последний вопрос – вызвать в Москву Ламарелло для подписания контракта. И перед приездом генерального менеджера «Дэвилс» я сам для себя придумал проблему. Дело в том, что жена защитника ЦСКА и сборной Сергея Старикова выступила в газете со статьей, похожей на крик души, – как Тихонов Хомутова к умирающему отцу не отпустил, как в то время, когда у них дети болели, Сереже не разрешили их навестить, и еще куча историй, которые не лучшим образом характеризовали Виктора Васильевича. Статья Ирины Стариковой вышла через месяц после моего выступления. Но в этом случае обошлось без шума. Парню дали доиграть сезон и «закончили», так выразился мой знакомый в Федерации. Иначе говоря, Сергея потихонечку «сплавили», уволили из армии, но рекомендовали никуда за рубеж не отправлять. Было у него приглашение в Финляндию, еще куда-то звали, но разрешения на работу за рубежом от властей он получить не мог, а другой возможности прилично содержать семью, как продолжать играть, естественно, он не знал. Однажды мне звонит Ира и просит помощи: нет ни денег, ни работы. И когда в очередной раз объявился Ламарелло, я его попросил: «Было бы неплохо, если б Стариков со мной приехал, он хороший защитник, а вдвоем будет легче начинать». Лу отвечает: «Я не знаю, кто он такой». Я объясняю, что Стариков классный игрок, бери, иначе я не поеду. «Я не могу его взять, не знаю, кто он такой». Потом перезванивает: «Я скаутов спрашивал – и они не знают, кто это». Я – конкретно: «Хочу приехать со Стариковым». Лу согласился, но велел ждать драфта, который будет в двадцатых числах июня. «Мы должны его поставить на драфт, – объяснил мне Лу, – иначе мы не можем подписать контракт. Ты никому ничего не говори, все это секрет. Если ты считаешь, что он хороший игрок, мы его берем». «Нью-Джерси» взял Старикова во время драфта. Через пару дней Ламарелло приехал с двумя контрактами.
К сожалению, игра в Лиге у Сергея не пошла. Его отправили в фарм-клуб, но и там не сложилось. У Сергея и в семье были проблемы, в конце концов Стариковы вернулись в Москву, а я остался в «должниках» у «Нью-Джерси» за неудачный контракт. Сергей сыграл в «Дэвилс» всего 10, может, 15 игр, перед тем как попасть в майнер-лигу. Ира и он вместе с ней начали возмущаться, будто я посодействовал такому финалу. Еще в Москве Ира Старикова была очень дружна с женой Касатонова, и как только в Нью-Джерси приехали Касатоновы, семья Стариковых перестала нам даже звонить. Сергей играл в «Ютике», ничего о себе не сообщал, а в это время моя жена забирала его детей из школы, потому что у Ирины начались проблемы с алкоголем. Даже в тот недолгий период, когда Сергей еще играл со мной в «Нью-Джерси», если клуб отправлялся в поездку, дети Стариковых иногда жили у нас дома.
Стариков был чемпионом мира, несколько лет играл в сборной, он двукратный олимпийский чемпион. Сергей – мощный парень, а вот почему на него скауты не обратили внимания, не знаю, мне трудно судить, но думаю, из-за веса. В «Дэвилс» Сергей тянул почти на 120 килограммов, ему тяжело было много двигаться. А может быть, сыграло свою роль и то, что Ира начала попивать, не пойму, с радости или еще с чего? Мы с Сергеем через многое прошли, но, возможно, у него не было настоящей поддержки со стороны жены, семьи, а сам он не хотел или не мог себя преодолеть. Вдруг Стариковы бурно устраивают день рождения Сергея, а в Америке дни рождения массово не отмечают. Но они приглашают всю команду домой, где официанты в белых перчатках, где бьют фонтаны из крюшона на столе, бочками пиво, десятки бутылок алкоголя. В любом клубе, точно так же как в ЦСКА, всегда есть те, кто обо всем докладывает руководству. Почти сразу после дня рождения Сергея отправили в майнер-лигу. Кто знает, может, посчитали, что человек приехал в Америку отдыхать, наслаждаться жизнью, а не «пахать». Мне Ламарелло каждый раз напоминал о Старикове. Когда я подписывал новый контракт с клубом и начинал с Лу спорить из-за денег, он так от меня отбивался: «Мы заплатили миллион долларов человеку, который сыграл всего десять игр и который ничего не показал в фарм-клубе. Нам он был не нужен, а получал больше, чем вся команда в майнер-лиге, вместе взятая».
Плюс ко всему Сергей отказался заплатить небольшие деньги – о них мы договорились с самого начала – премии для тех людей, которые в Москве работали на нас. Сергей считал, что ему дали плохой контракт, он рассчитывал на лучший. Хотя получил больше, чем Макаров или Ларионов – нападающие с мировыми именами, правда, за счет того, что они половину своего контракта отдали «Совинтерспорту».
Поверить невозможно, но, приехав в Америку, он забыл обо мне через три месяца. Тихонов его «закапывал», а он, вернувшись домой, пошел работать к Виктору Васильевичу. Во время локаута в Лиге, когда легионеры приехали в Москву, у руководства армейского клуба была одна забота – чтобы мы не играли против ЦСКА. Сергей приезжал с уговорами: «не надо играть» или «если будете играть, не надо обыгрывать». Что за сумасшедший дом? Человека выгоняют из ЦСКА – он устраивается в НХЛ, выгоняют из НХЛ – снова в ЦСКА, опять выгоняют из ЦСКА – он приезжает в Нью-Джерси, это было летом 1996-го, приходит ко мне домой и говорит: «Слава, мне нужна твоя помощь, у меня нет работы. Не знаю, что делать, чем семью кормить». После всего, что случилось, вот так спокойно приходит. Я зла ни на кого не держу, потому что знаю, есть у людей слабости, а слабости надо прощать. Но наглость, я думаю, прощать уже нельзя. Наверное, первый раз в жизни я сказал: «Сергей, у меня для тебя ничего нет, я ничем не могу тебе помочь». Правда, через пару недель я попросил Сергея Немчинова устроить Старикова тренером в его детскую хоккейную школу.
Я уже рассказал о проблемах своего физического состояния. Но удар меня ожидал еще и с моральной стороны. Мы приехали летом 1989-го. Советский Союз еще существовал, казалось, на века, и мы являлись для американцев советскими людьми, коммунистами. Я это заметил не сразу, хотя по себе знал, что нас ненавидели во всем мире. «Братья» чехи и словаки терпеть нас, хоккеистов, не могли, так же как и поляки, шведы, финны. Нас боялись (мы же всех обыгрывали), но и ненавидели. Начиная с 1972 года, когда встречи клубов из СССР и североамериканских команд приобрели более или менее регулярный характер, нас уже не переваривали в Канаде и Америке, потому что мы были советскими игроками. За все годы, что мне пришлось прожить в спорте, я знал, что меня, как советского, уважают за силу. Но за силу, которая против. И когда я оказался в одной команде с американцами, не с теми, кто вел переговоры, а с игроками, первое, что почувствовал, – неприязнь. Уже потом ребята, когда я подружился с ними, рассказывали, что еще до того, как мы появились в «Нью-Джерси», они, узнав о том, что в команде будут играть советские, заранее нас, мягко говоря, невзлюбили. Заблаговременно, ни разу не увидев, не поговорив, не пожав даже руки. Пресса в Нью-Йорке, естественно, была на сто процентов антисоветская. В ней постоянно раскручивались какие-то фантастические истории о СССР, впрочем, точно так же, как в московских газетах о США. И я здесь ощутил то же давление, что выдержал в Союзе, которого, по сути дела, в свободной стране быть не должно, а оно меня прижимало ежедневно. К такому повороту я оказался не готов. Я начал чувствовать, что этот моральный прессинг сказывается на моей игре.
Команда, куда я попал, тогда в Лиге ничем не выделялась, а уровень мастерства у игроков был далек от того, к которому я привык, играя в ЦСКА и сборной. Тренерский состав в «Нью-Джерси» менялся с необыкновенной скоростью: за пять с половиной лет, что я играл в клубе, в нем поменялось пять тренеров. Каждый приходил со своим понятием игры, со своими мыслями. Но это мне было пережить куда легче, чем ситуацию, когда партнер, который должен прикрыть меня, делал вид, что прикрывает, а потом уходил в сторону – и я получал удар в спину. Выходило, что я сражался за то, чтобы быть свободным, чтобы попасть в свободную страну, а столкнувшись с таким отношением, думал: «Для чего я здесь?» Я играл в своей стране, меня в ней почитали, меня уважали во всем мире… И вдруг для того, чтобы я получил травму или чтобы плохо выглядел, меня подставляют мои же партнеры! С подобным я никогда на льду не сталкивался. Я играл в команде, где, если возникала какая-то проблема, выходящая за рамки нашего дела, мы с ребятами могли и без тренеров собраться, чтобы поставить человека на место: или ты будешь играть так, как надо, или у тебя начнутся неприятности. Но здесь обстоятельства складываются так, что я на них повлиять не могу. Ужасное чувство: ты заходишь в раздевалку, а где-нибудь в углу смеются, и ты не знаешь, над тобой смеются или нет, потому что не понимаешь, о чем разговор, так как почти не знаешь английского. Оттого постоянное напряжение, невозможно расслабиться даже на час. Одну неделю играю прилично, две недели – спад.
Хозяин и менеджер команды относились ко мне прекрасно. Дима Лопухин был с нами постоянно как связной от офиса клуба. Бытовые вопросы, записанные в контракте, решались сразу же. Но ведь для всего, начиная от поиска дома и до покупки вилок и скатертей, нужно было время. Нужно поехать, выбрать, купить, привезти. Нас с Ладой возили выбирать дом. Предлагали всевозможные: и отдельно стоящие, и большие, и поменьше, и совсем маленькие. Мы остановились на кондоминиуме – это когда дома сложены вместе в цепочку и они за забором, с охраной, с общественным центром. Лада боялась оставаться одна, а так соседи кругом, есть к кому обратиться, если что случится. Выбрали местечко Вудлендс в городе Вест-Орандже – это штат Нью-Джерси, но в получасе езды от Манхэттена, то есть на границе штатов Нью-Джерси и Нью-Йорк. Двадцать минут по хайвею, потом через Линкольн-туннель под Гудзоном – и ты в центре Нью-Йорка. Дом нам так понравился, что теперь он наш, мы его выкупили. После сезона надо иметь место, куда можно вернуться и отдохнуть.
Выбрали дом, стали смотреть мебель, покупать миллион мелочей, а на все про все у нас получилось всего три недели. А еще надо было получить «сошиал секьюрити» (карточку социального страхования, что-то вроде нашего паспорта) и водительские права, потому что «родные» права в то время в Америке не действовали, на них нельзя было получить страховку, а без страховки нельзя ездить. С одной стороны, это приятные хлопоты, с другой – занимали время, отвлекали от главного, ради чего приехал: настроиться на то, что через две недели начинается тренировочный кемп, во время которого я должен подготовиться к сезону. Кемп – это шесть-семь дней, и сразу начинаются выставочные игры. Всего неделя, что для меня совсем несерьезно, а надо уже начинать играть, тебя хотят проверить, как ты вписываешься в новую команду. Тебя рассматривают со всех сторон в этих предсезонных играх, когда нет удалений и за грубость не наказывают, не штрафуют, как в регулярном чемпионате.
Я думаю, все упиралось в одно: я приехал из совершенно другого мира, где другая культура, другие взаимоотношения. И проблема проблем, конечно, язык. Без него ты не можешь общаться с партнерами, не слышишь, что о тебе говорят, не можешь давать интервью. Без языка ты глухонемой. Кто-то улыбается, говоря с тобой, а ты думаешь: «Что-то, наверное, не так», и чувствуешь себя дурачком. Английский язык у меня к приезду в Нью-Джерси был на нулевом уровне. Пока ездил со сборной, все, что освоил, – «привет» и «как дела». Нам сразу наняли педагога, симпатичную женщину Элен, но времени у меня свободного почти не оказалось. Иногда я раз в неделю с ней занимался, реже – два. Но базу она все же дала, а в основном пришлось учить язык, как говорят, по ходу пьесы – в общении. Крис Драйпер, мой сосед по комнате в отеле и удивительно организованный человек, был первым, кто постоянно мне объяснял все, что вокруг происходит. Потом его сменил Дагги Браун, интеллигентнейший парень, в конце концов мы с ним подружились семьями. Браун закончил колледж, исторический факультет, много знал о России, о Советском Союзе. С Дагги я играл в «Нью-Джерси» почти пять лет. Когда меня поменяли в «Детройт», Дагги уже бился за эту команду. Так получается, что мы пока все время в одном клубе.
Через три года после того, как я приехал в Америку, Дагги, парень из известной богатой семьи, подошел ко мне и предложил мне стать крестным отцом его первого сына. Я испытал настоящий шок! Я спросил, как же так, вы – католики, а я – православный? Дагги отвечает: «Я ходил к своему священнику, он сказал, что в нашей религии подобное допустимо». Церемония католического крещения намного проще нашей, но такая же торжественная. Один из дедушек моего крестника, рыжего Патрика, – хозяин «Джайнтс» («Гиганты») из Нью-Йорка, популярной футбольной команды с огромными традициями. Крестины Патрика – одно из самых приятных событий в моей жизни.
Так вот, Дагги мне очень помогал, и не только в английском языке. Он вводил меня в американскую жизнь, объяснял, как себя вести, что делать в определенных ситуациях, а его жена Моурин взяла шефство над Ладой. Но все это происходило уже к концу первого года жизни в Штатах. А поначалу нервы не выдерживали и приходили минуты, когда хотелось все бросить и уехать обратно в Москву, но я говорил себе: «Нет, ты не имеешь права это делать, иначе для чего ты прошел через весь этот кошмар?»
И все же первые полгода были мучительные, и Ладе жизнь в Америке давалась не так просто. Она учила язык по телевизору, сидела одна дома, смотрела бесконечные мыльные оперы и потихоньку по ним учила разговорную речь. Лада к языку оказалась способнее меня. У нее хороший слух, а мне медведь на ухо наступил. Люди с хорошим слухом гораздо легче воспринимают чужой язык, у Лады и произношение намного лучше моего. Но и ей было непросто, пока не нашлись друзья, не появился круг общения. Так незаметно мы прижились, и как только появился язык, все стало намного проще. Я начал разговаривать с партнерами, причем не только о хоккее – на любые темы. У них, оказывается, много вопросов ко мне накопилось, и все они висели в воздухе до тех пор, пока я не заговорил. Вдруг выяснилось, что жизнь намного интереснее, и отношение ко мне в команде совершенно изменилось.
Я не ищу оправдания: почему Фетисов в НХЛ не стал таким же героем, как в советском хоккее? Этого не могло случиться по нескольким причинам, но прежде всего из-за возраста.
ЛАДА: Первые недели или месяц после приезда в Америку мы жили в гостинице. Существование как в горячке: наконец мы сюда попали, но еще до конца не понимаем, где находимся. Языка не знаем, совершенно другой мир, другая культура, другой стиль и образ жизни. Мы жили в «Хилтоне», нас специально поселили недалеко от арены. Надо отдать должное: нас очень хорошо приняли и хозяин клуба, и генеральный менеджер. Дали переводчика, тренера по общей подготовке, Диму Лопухина, он говорил по-русски ломано, но говорил. Во всяком случае, мы понимали друг друга. Дима для меня был как соломинка для утопающего, потому что Слава – с командой, а я все время одна, с собакой. Я выводила Рэди рядом с гостиницей гулять к камышам у озера, и в один прекрасный день – около Рэди пудель гуляет, черный королевский. И гуляет он с мужчиной, который мне улыбается и о чем-то начинает со мной говорить, а я: «О’кей, о’кей», а что о’кей – сама не знаю. Мужчина что-то объясняет и на свою собаку показывает. А я в сторону и на другую сторону озера. Стыдно: взрослая женщина, а не может нормально общаться с людьми. Может быть, он с улыбкой, как у них принято, делает нам замечание? Я уже знала, что здесь абсолютно все высказывается с улыбкой. А потом оказалось, что это менеджер гостиницы, он видел, что я гуляю с собакой, узнал, что мы русские, а Слава – хоккеист, который приехал играть в «Нью-Джерси», и, чтобы наша собака не чувствовала себя одинокой в чужой стране, он привез из дома свою собаку, пусть побегают рядом. Я, наверное, неделю прийти в себя не могла. Писала письма моим знакомым, звонила и рассказывала об этой истории. А меня в Москве не понимали: «Пошла ты знаешь куда? У нас детям еду купить негде, а ты со своими собаками».
Через несколько месяцев после нашего устройства в Нью-Джерси я возвращалась после матча «Дэвилс», а так как сама еще машину не водила, то Слава попросил Дерека, нашего друга-американца, чтобы он меня подбросил домой. Рэди, счастливый, что я вернулась, рванул мне навстречу по лестнице и вдруг упал и забился в судорогах. Американец тут же схватил телефон и стал вызывать «скорую помощь» для собаки. Но выяснилось, что в пяти минутах от нашего дома есть клиника для собак. Мы завернули Рэди в одеяло, повезли к врачу, а время уже шло к полуночи. Влетаем в клинику, а там приемный покой весь в кожаных диванах, на стенах красивые картинки, в углах реклама собачьей еды, одежды.
Встречают нас две милые женщины. Одна – медсестра, другая – врач, обе в белых халатах, забирают собаку. Выходит другая девушка, садится со мной, достает блокнот и начинает задавать вопросы. Я тогда по-английски не говорила, и наш приятель мне переводил. Русский у него был явно не второй язык, но более или менее мы могли общаться. А вопросы были такие: моей собаке нравится оставаться в комнате одной – или она любит, чтобы кто-то находился в помещении вместе с ней; она любит, чтобы телевизор был включен, чтобы магнитофон играл, телефон звонил, радио работало – или предпочитает тишину; что она любит кушать: печень курицы или печень индюшки, говяжье мясо или телятину, а может, какую другую собачью еду? Пока мне задавали эти вопросы, у меня начинал ком расти в горле, потом и слезы потекли градом, они спохватились, бедненькие, вызвали вторую девушку, лекарства мне принести. Они думали, что я так переживаю за собаку. Я, конечно, волновалась за Рэди, но вспомнила, как мы с моей подружкой совсем недавно сидели в московской поликлинике с грудным ребенком. Он был весь в жару, явно с высокой температурой. Мы ждали приема с ребенком, который задыхался в кашле, сорок минут. Вокруг такие же больные маленькие дети. Медсестра вышла, сунула градусник, причем после того, как я, через полчаса ожиданий, открыла дверь в кабинет и спросила: «Вы здесь работаете или отдыхаете?» Там на лестницах сестры курят, сквозняки гуляют, кафельный холодный пол. Открытые окна зимой в Москве! Но курят, надо выветрить. Грязь неописуемая и лозунги советские, что все лучшее – детям. И когда я увидела эту собачью клинику и услышала, нужно ли Рэди радио, началась истерика.
Потом, когда меня привели в чувство, повели показывать, как моя собака уже лежит под капельницами. Объяснили, что Рэди себя уже хорошо чувствует, все нормально. У собаки был эпилептический приступ. Спрашивают историю се болезни, чем болели ее мама с папой. Через пару часов мы забрали собаку, но наутро нам звонят из этой клиники и говорят, что нужно срочно привезти Рэди на повторный анализ, потому что у нее повышенный сахар в крови. Я думала, может, я ненормальная или у меня что-то случилось с головой, а скорее всего, может, у них здесь что-то не так с головами.
Славы дома нет, команда только-только отправилась в поездку на неделю. Я позвонила Дереку, который ездил со мной в клинику, он сам не мог приехать, но связался с офисом «Дэвилс» и сказал, что мне нужно срочно отвезти собаку на анализ. Клиника – в пяти минутах езды от нашего дома, а офис «Дэвилс» – в сорока. За мной приехал лимузин, который отвез меня в клинику, ждал час и потом привез обратно домой. Самое интересное, что бедный Дерек не спал всю ночь, провозился с нами до трех-четырех часов утра, а ему утром на работу в Манхэттен, мне было неловко перед ним, и когда я ему стала говорить: «Ради бога, Дерек, извини, спасибо тебе большое», он меня остановил такой фразой: «Лада, это тебе спасибо, потому что бог и ты дали мне шанс искупить какой-то мой грех». Вот тогда я поняла, что мы не только в другой, пусть очень богатой, стране. Мы в другом мире.
Я учила язык по соуп-операм – мыльным операм. Смотрела подряд четыре соуп-оперы, с десяти утра и до часу. Как раз когда Слава находился на тренировке, А если Слава уезжал, я сидела по 24 часа около телевизора на диване, смотрела один и тот же фильм раз, наверное, по двадцать, пока не начинала понимать, о чем в нем говорят. Когда столько раз видишь одно и то же, невольно начинаешь понимать диалоги, что означает это слово или эта фраза. Я стала запоминать фразы и переносить их в свою речь. Ребята из «Дэвилс» были очень удивлены, что к зиме я уже могла им что-то отвечать. А вначале я приходила во время матча в комнату жен игроков, сидела на диване, улыбалась и думала, о чем они говорят. Чтобы не мучиться, я стала приводить в эту комнату русских, чем безумно удивила других жен, потому что это не принято. Туда, где команда, где игроки, где комната жен, необходим специальный пропуск, и никому доступа нет. По-моему, Слава был единственный в команде, кто все время просил по три-четыре пропуска. На нас, конечно, странно поглядывали, но что делать.
В команде все вместе, все общаются. Когда ребята на игры уезжают, жены звонят друг другу. Сегодня идем к одной жене смотреть по телевизору, как мужья играют, завтра у другой собираемся на посиделки. Во время моей беременности мне преподнесли сюрприз – устроили вечеринку и подарки всякие делали для будущего беби. В НХЛ сложно дружить, потому что игроков часто меняют. Вот Брауны – наши самые близкие друзья в Америке, но это же чудо, что мы в Детройте снова оказались вместе. Уже в Детройте познакомились с семьей Брошер, Лори и Крисом, он финансирует строительство. Настенька подружилась в детском саду с их дочкой Алисой. Дети любили играть вместе, ходить друг к другу в гости, и мы очень быстро сошлись с родителями Алисы. Подружились в Нью-Джерси с Рутсалайненами – прекрасные ребята. Мы много времени проводили вместе, потом в одночасье Рейо поменяли. Поначалу мы часто перезванивались, но когда Рейо с семьей перебрался в Швейцарию, звонки стали реже, раз или два в месяц. Правда, летом мы встретились. Они отправились отдыхать во Флориду, перед этим несколько дней пожили у нас в Нью-Джерси. Дружили мы и с семьей Питера Счастны, но и его поменяли, теперь общаемся по телефону: они в Сент-Луисе, мы – в Детройте. Приезжаешь, знакомишься с ребятами, а на следующий год половина команды – другая. Когда, например, Бобби Холика взяли в «Нью-Джерси», он подходит к Славе: «Мне папа говорил, что ты против него играл?» Слава отвечает: да, играл, только не надо так громко об этом. Когда приехал отец Холика, они обнимаются со Славой, а мы смеемся: «Слава, ты скоро с внуками будешь играть».
Когда мы въехали в свой дом, Дима меня отвез покупки сделать: тряпочки, полотенчики. Мы же с собой ничего из Москвы не привезли. Приехали в дом абсолютно пустой, даже спать не на чем. Нам показали, где напрокат берется мебель. Ночь провели в гостинице, на следующий день Слава поехал на тренировку, а меня привезли в дом, чтобы я показала, куда что поставить.
Когда уже осели, возникли некоторые сложности. Слава большую часть времени проводил в команде, а я оставалась хозяйкой в этом огромном доме. Пешком никто в магазин не ходит, а прав на вождение у меня нет, не было их и в России, значит, надо сдавать экзамены. Села я за руль только в ноябре, а до ноября – как под домашним арестом, пока за мной кто-нибудь не заедет, не заберет с собой. Первое время от «Дэвилс» присылали лимузин, чтобы отвезти меня на стадион, когда играл Слава. Но потом, когда мы подружились с семьей Браунов, Марина – жена Дагги – стала меня забирать с собой на стадион. Смешно, как мы общались. Первая фраза, которую я выучила, это: «Ай пик ю ап… эт сикс». Марина звонит: «Ай пик ю ап?», а я повторяю. Она: «Но, но, но. Ай пик ю ап». То есть она мне звонит по телефону предупредить, чтобы я была готова. Потом ей надоедало, что она мне объяснить по телефону ничего не может, вешала трубку, приезжала ко мне: «Я тебя с собой возьму. Хоккей». Показывала на часы. Я отвечала: о’кей. Я говорю – Марина, на самом деле – Моурин. Это Настенька так ее зовет – Марина. Моурин, молодец, помогала во всем, не жалея времени. Потом Элен Мандел, учительница английского, взялась за нас. Элен нанял клуб «Дэвилс». Она приходила раз в неделю давать уроки, при этом по-русски ни слова не знала, приносила с собой картинки, вырезая их из журналов. По ним Элен нам объясняла американскую жизнь. Первое, что мы выучили, – как в ресторане заказать ужин, как заправлять машину, как отвечать по телефону, как спросить то, что тебе нужно. Мы со Славой полтора-два часа конспектировали эти уроки. Она нам помогала весь первый год. В конце концов мы стали большими друзьями и до сих пор общаемся. Элен говорит, что тоже нам благодарна, что никогда не забудет, как она была со мной в тот момент, когда я рожала. Обычно при родах разрешено присутствие только одного человека из семьи: мамы или мужа, а для нее сделали исключение. Видеть, как рождается ребенок, по мнению Элен, – это такое счастье.
И конечно, Дима Лопухин со своей женой Терезой – наши первые помощники. Очень был смешной наш со Славой первый поход по магазинам. Мы въехали не только в пустой дом, но и холодильник в нем тоже был пустой. Вот мы впервые и отправились за едой. Магазин в пяти минутах от нашего дома. Заплатили 500 долларов, но в коляски напихали все: что поесть, чем помыть, чем постирать. Провели в магазине, наверное, часа три. И большая часть этого набора на следующий день переехала на помойку, включая все продукты в баночках. Да, еще мы увидели замороженные хвосты лобстеров! Давай купим? Давай. А как их готовить? Решили разморозить, положили в духовку, смотрю – на коробке 375 F написано, поставили 375 градусов по Фаренгейту. Сколько минут готовить – непонятно. Вытащили – резина резиной, откусить невозможно. Мы изучали гастрономию методом тыка. Зато потом, когда через год приехали Валера Зелепукин со Стеллой, Юля и Саша Симаки, я уже все знала. Подсказывала – это масло не покупай, если надо сгущенку, бери в этом магазине. У меня был самый жуткий счет за телефон. Шутили в команде на эту тему много, потому что, когда к нам пришли первый раз брать интервью, я сказала, что получила счет на 1200 долларов. Немая сцена, журналисты открыли рты. А потом прошло во всех местных газетах, что на столе у меня письма на Родину в слезах, а также телефонные счета на 1200 долларов. После таких публикаций начались звонки от болельщиков: чем они могут нам помочь? Люди приходили на хоккей и приносили нам пироги, искренне считая их русскими, потому что дедушки, бабушки у них родились на Украине. Кто-то подарил даже игрушку для собаки. Они хотели нас поддержать, за что мы им очень благодарны.
Первое время мы никуда не ходили – ни у меня, ни у Славы не было знакомых среди эмигрантов. Моя московская подруга случайно узнала наш телефон и позвонила. Это была Марина Трошина, актриса Ленкома, которая в том же году оказалась в Нью-Йорке, встретилась с молодым человеком, вышла за него замуж и осталась в Америке. Новые приятели появились в Америке благодаря Саше Розенбауму. Он приехал на гастроли с женой Леной, и они познакомили нас со своими друзьями еще по Ленинграду. Позже мы подружились с совладельцем русского ресторана «Самовар» Романом Капланом, с переводчицей Региной Казаковой, так постепенно начали обрастать своим кругом.
Трудно находить новых друзей, особенно когда тебе за тридцать, да еще в новой, незнакомой стране. Но мы удачливы, у нас здесь есть настоящие друзья.
Многие в России помнят фильм «Рожденная свободной», западное кино о львах. Так вот, надо быть рожденным свободным, чтобы чувствовать себя в Америке как рыба в воде. Мы же были рождены несвободными, поэтому мне с таким трудом приходилось привыкать ко всему. Я оказался в совсем иной общественной системе. И даже в хоккее мне следовало перестраиваться. Сначала я старался внедрить игру, которую знал досконально, – игру с «пятерками». Но я быстро понял, что ни исполнителей, ни понимания такого стиля в «Нью-Джерси» нет. Я вскоре пришел к мысли, что являться в чужой дом со своими правилами тоже, наверное, не стоит, и тогда стал упрощать свою игру. Я честно выполнял свои профессиональные обязанности и при этом старался отдавать все силы в каждом матче. Но творческого удовлетворения, как раньше, от такого хоккея я не испытывал, зато чисто профессиональные навыки легионера со временем появились. К тому же и команда начала играть намного увереннее. За пять с половиной лет, что я играл в «Нью-Джерси Дэвилс», клуб ни разу не оставался за бортом розыгрыша Кубка Стэнли. А в нашей подгруппе были такие команды, как «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питсбург», «Филадельфия». До моего прихода «Дэвилс» за десять лет всего лишь раз попали в розыгрыш Кубка Стэнли. Но теперь команда была боеспособной, она могла играть с любым противником. И так просто мы уже никому не уступали. Правда, в плей-оффе первый раунд поначалу нам не удавался, но все игры серии проходили в настоящей борьбе. Нехватка опыта не позволяла «Нью-Джерси» переигрывать противника. Со временем пришел и опыт: команда получила хороший кубковый статус, с ней стали считаться. В конце концов «Дэвилс» выиграли в 1995-м Кубок. К сожалению, без меня: в середине сезона состоялся мой переход в «Детройт». На следующий год, когда меня не было в составе «Дэвилс» уже весь сезон, клуб не попал в плей-офф. Интересные зигзаги порой выписывает судьба.
Единственное, что было упущено, – это момент, когда я мог стать лидером обороны в команде. Через год после моего приезда в команде появился Скотт Стивенс, он и получил эту роль. Хотя я не считаю, что первый сезон в НХЛ вышел у меня неудачным, скорее всего все получилось нормально – без взлетов и падений.
Проблемы начались во втором сезоне. Через месяц после начала чемпионата я заболел воспалением легких и продолжал с ним играть. Так до конца сезона я из болезней и не выкарабкался. Второй год в Лиге отбил у меня мечту стать в НХЛ тем, кем я был в советском хоккее. Я играл только так, как требовалось команде. Я старался о лишнем не думать, выходил на лед и действовал точно по заданию. Потом мне сказали, что первого тренера убрали из «Дэвилс» из-за меня, потому что он не понимал, что происходит на площадке, когда я играю. На самом же деле я считаю, ничего у меня из того, что я хотел сделать в «Дэвилс», не получилось. В команде в то время не было классных исполнителей, которые могли бы поддержать мои идеи. Те же, с кем я играл, мне не верили. Для американца получить шайбу в центре – фантастическое событие, такому их никогда не учили. Здесь должны видеть шайбу, вброшенную защитником в зону противника – в угол или за ворота. Это делается для того, чтобы нападающего никто не мог в этот момент ударить. Поэтому понимать иную ситуацию мои партнеры были не способны не из-за тугодумия, а просто оттого, что они никогда не играли в такой хоккей. Впрочем, чтобы играть по этой системе, необходимо взаимопонимание всех пятерых игроков. Именно так получалась знаменитая «детройтская карусель», когда мы, пятеро русских, выходили вместе. И хотя Слава Козлов и Сергей Федоров моложе Ларионова, Константинова, меня, но выросли они в русском хоккее, он у них в крови.
Еще в «Нью-Джерси», года за три до «Детройта», я как-то разговаривал со шведом Патриком Сандстремом, стараясь привлечь его на свою сторону. «Это не будет работать, – говорил он, – потому что остальные не будут тебя понимать. Я здесь уже давно, так что мой тебе совет: упрощай игру, вбрасывай, выбрасывай, вбрасывай». Конечно, это смешно – люди всю жизнь только и делали, что вбрасывали шайбу, как вдруг им на голову сваливается русский и начинает перестраивать их, пытаясь заставить играть по-другому. При этом лучше, чем они, он вбрасывать в зону и выбрасывать шайбу все равно никогда не будет.
Мой внутренний конфликт в понимании хоккея накладывался в «Нью-Джерси» на тренерскую чехарду – все это не шло на пользу моей игре. Потому что каждый новый тренер приходил со своими идеями. Был один, прямолинейный, он говорил так: «Про хоккей я знаю следующее: если мы их перебили, значит, мы выиграли, если не перебили, значит – они». Он считал, кто сколько раз врезался и в кого. Но даже этот, на мой взгляд, отрицательный опыт руководства командой может помочь мне в дальнейшем, если я займусь тренерской работой.
Никакого сплава европейского и канадского хоккея в НХЛ не произошло. То, во что там играют, – это нормальный североамериканский хоккей. А в «Нью-Джерси» даже мысли о робком влиянии европейцев быть не могло. Правда, одно время, когда в команде еще играл Питер Счастны и как раз Валерий Зелепукин приехал, пара канадцев под нашим влиянием заиграла с нами в нечто похожее на этот сплав, но две-три игры сыграем хорошо, а потом нас опять разбивают. Не знаю почему. По-моему, тренеры считали, что у нас получается слишком вычурный хоккей, а игра, по их понятию, должна быть проще. Они объясняли, что так она и привычнее и понятнее зрителю, поскольку он в итоге все определяет, не будет ходить на матчи – клуб разорится. Ссылка на зрителя здесь так же свята, как у нас раньше на цитату Ленина, которую никто не знал.
Я имею право так говорить потому, что мы в «Детройте» выходили на лед «пятеркой». И выясняется, что зрителю приятно смотреть, как мы играем. Они действительно не все понимают, иногда у меня после матча спрашивают: а как так получилось, что у вас правый защитник Константинов выбежал один на один и забил гол? И мне сложно объяснить, что это идет от взаимопонимания, взаимостраховки, чему вроде конкретно не учат, а получается само собой.
В Америке тренер никогда не скажет защитнику, чтобы он постарался открыться у дальней линии, получить там пас и убежать один на один с вратарем. Я не знаю в США и Канаде ни одного тренера, который мог бы такую систему предложить на занятиях, даже в шутку. А у нас это получается, Вова в сезоне 1996/97 года убегал, наверное, раз десять один на один и стабильно забивал. Даже тренер к нам подходил: «Я все вижу, но все равно не могу понять, как вы играете?» Тренер нашей команды! А мне в этой системе намного проще находиться, я «читаю» партнера, я всегда знаю, что мне делать, партнер «читает» меня. Как ни странно, мне легче в запутанных комбинациях русского звена, чем взять шайбу и, видя, что нападающий бежит, просто выбросить ее, используя борт, чтоб он бежал дальше, соревнуясь с защитником соперников, кто быстрее дотянется до шайбы. Если я начну играть с американцами, как я играю с Ларионовым, Федоровым или Козловым, то у нас будет полное непонимание. Начнутся такие ошибки, которые в лучшем случае меня высветят как «белую ворону». Партнер вроде все делает правильно, а я не подыграл ему. Поэтому, выходя с другим звеном, постоянно надо помнить: «Куда? Зачем? Почему?» А играя со своими, казалось бы, в более сложный хоккей, чувствуешь себя намного свободнее. Острые игровые моменты проходят совершенно интуитивно.
Однако вернемся в Нью-Джерси. Мои первые ощущения от раздевалки, от своего места в ней, от новой формы – все было необычно. Все совершенно иное. Конечно, организация хоккейного бизнеса в Америке настолько была выше, чем в СССР, что нечего и сравнивать, терять время. Приходишь в раздевалку перед тренировкой – форма постирана, развешана, клюшек неограниченное количество, коньки – две пары всегда готовы. В раздевалке – баня, сауна, массажист, полностью оборудованный медицинский кабинет. Все, что нужно для дела. Шнурки тебе надо – сто пар шнурков лежит, носки – лежат кучами. И вначале это не то что шокировало, а озадачивало: почему у нас на все дефицит? Комплект тренировочный – на тренировочном катке, а в раздевалке на стадионе у нас другая форма, игровая, только коньки привозили и увозили. Идеальная работа, которую выполняли всего три человека. Формы игрок касался, только когда ее надевал и снимал. Он ее не собирал, не разбирал, не стирал. После Москвы это казалось чудом.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу