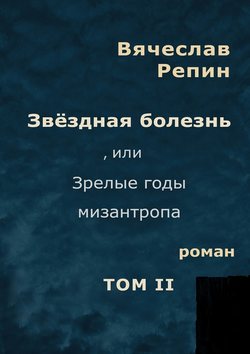Читать книгу Звёздная болезнь, или Зрелые годы мизантропа. Роман. Том II - Вячеслав Борисович Репин - Страница 3
Часть третья
ОглавлениеГлубокие перемены назревали в жизни Мари Брэйзиер не первый год, но сама она уже не могла разобраться, где конец, а где начало всей той путаницы, мало-помалу скопившейся в ее жизни и в один прекрасный день сросшейся в мертвый узел. Она старалась видеть во всём лучшее. И в результате, перестав видеть худшее, потеряла связь с реальным миром. Реальность вдруг как волна накрывала ее с головой. Боль сегодняшняя казалась сто раз знакомой, вчерашней. Незажившая рана вновь и вновь напоминала о себе. Заживают ли такие раны вообще? На этот вопрос всё труднее становилось ответить…
Трещина в отношениях с мужем давала о себе знать не первый год. Но в настоящий тупик отношения зашли только сегодня, когда дети разъехались. Равновесие удавалось сохранять в себе лишь в силу какой-то внутренней инерции, черпавшей себя, как ни странно, в благих намерениях: как сделать так, чтобы не наломать дров и не усугубить? как не стать причиной еще большего зла?.. Иллюзий от этого не убывало. Но со временем появившееся ощущение, что перелом в личной жизни, обычно врывающийся в жизнь внезапно, это в действительности нечто постепенное и длительное, наполняло душу уже не апатией ко всему, а настоящим ядом…
Чувство душевного истощения и опустошения, постоянные сомнения в себе, в своем прошлом, в отношениях с близкими, сомнения в самих своих ощущениях… – Мари зачастую не знала, где заканчивается граница ее впечатлительности, а где начинаются ее реальные жизненные невзгоды. Когда душевный спазм немного отпускал, когда с приливом новых сил она могла копнуть в себе поглубже, то перед ней, с какой-то нарастающей беспощадностью, громоздились еще более мучительные вопросы.
Только ли сегодня она открывала для себя всю эту безысходность? Как всё это могло длиться годами? Ведь еще задолго до отъезда детей она констатировала в себе утрату интереса к совместной жизни. Не было ли это отчуждение каким-то обязательным уделом, который рано или поздно уготован каждому? Просто у одних хватает в себе внутренних ресурсов, чтобы перенаправлять свои жизненные интересы на что-то новое. А другие борются с неотвратимым и тем самым отравляют себе жизнь до конца. У других почему-то вдруг не хватает мужества сказать себе всю правду – что жизнь просто-напросто не удалась? Почему же, собственно, не удалась, если это происходит с большинством людей…
Зимой Мари предстояло пережить новую встряску, которая подвела под всем неожиданную черту. Незадолго до Рождества соседка по дому, Матильда Глезе, вдруг заговорила с ней о ее муже, и так уж было, видимо, суждено, что из этого разговора Мари узнала об Арсене больше, чем за все годы их совместной жизни.
Поговорить с Мари Глезе попросили ее давние знакомые, известное в городе семейство, проявлявшее озабоченность по поводу отношений, которые связывали мужа Мари с их двадцатидвухлетним сыном. «Приличный, но безголовый молодой человек» – так Глезе отрекомендовала своего протеже – учился в столице менеджменту, собирался идти по стопам родителя, тулонского дельца, подавал, как все считали, немалые надежды, хотя и постоянно порочил репутацию семьи кое-какими «грешками», и не самыми безобидными: парень отличался «известными наклонностями».
Наведываясь к родным на выходные, «приличный молодой человек» оставался в родном городе на виду не только из-за состоятельного отца, а еще и потому, что нисколько не комплексовал из-за своих наклонностей, да еще и любил гульнуть на людях. Беспокоил семью, собственно, не сам факт его «близких» отношений с Арсеном, мужем Мари, а то, что эти отношения перестали быть секретом для кого бы то ни было. Махнув рукой на «пристрастия» отпрыска, семейство не хотело распространения порочащих слухов и пеклось, попросту говоря, о своем добром имени, на что имела законное право…
Внимая жалобе, Мари ловила себя на ощущении, что удивление, от которого на сердце у нее леденело, не может взять верх над неверием в то, что всё это происходит с ней наяву. Она старалась не упустить ни одной детали, изо всех сил пыталась собраться с мыслями, понять, чего от нее, собственно, хотят. Однако главное из того, что Глезе тактично старалась донести до ее понимания, нечто расплывчатое, так и попахивающее скандалом, от нее всё же ускользало. Или просто не укладывалось у нее в голове? Вникнуть в суть мешало и недоумение по поводу роли, которую взяла на себя соседка. Почему Глезе или семейство не обратилось с претензиями прямо к мужу? Зачем понадобилось впутывать кого-то еще, если дело имеет столь деликатный подтекст?
Очередные новости не заставили себя ждать. С глаз Мари словно спала какая-то пелена. В прошлую пятницу мужа видели возле офиса с очередным «молодым человеком» в фетровой шляпе. С ним же, по всей вероятности, муж появился в субботу в загородном гольф-клубе. А еще через два дня соседские дети случайно проболтались, что в выходные видели мужа в дискотеке для школьников: Арсен якобы танцевал рок-н-ролл с подростками.
Венцом всему стало известие, окончательно выбившее Мари из колеи, что муж будто бы проиграл в Ницце крупную сумму. Речь шла о трехстах тысячах франков. Но поражена Мари была не тем, что муж скатился, вернулся к своей стародавней страсти, принесшей ему когда-то столько бед, и даже не величиной проигрыша, а тем, что это дошло до нее через ее же родителей.
Подозрения о том, что муж ведет двойную жизнь, преследовали Мари не первый год. Игнорировать это сегодня было бы самообманом. Человек по натуре страстный и безвольный, в полном физическом здравии, в расцвете сил, муж не мог вести бесполый образ жизни, а именно это стало реальностью их отношений. Охлаждение, наступившее годы назад, кое-как вошло в норму. У них давно не было общей спальни. Они давно довольствовались «дружескими» отношениями, сами не очень веря, что они возможны. Все попытки вернуться к близости оборачивались крахом, унизительным разочарованием, которое приходилось еще и скрывать друг от друга. И при всей былой откровенности, с некоторых пор они даже не могли больше обсуждать эти темы.
Но привыкнуть, видимо, можно ко всему. Данное положение вещей со временем Мари перестало коробить. А с какого-то момента она стала платить мужу той же монетой…
Жан-Шарль Парис, или просто «Шарли», как Мари прозвала своего тренера по теннису, дававшего ей уроки при местном спортклубе, был уроженцем Ледевы, небольшого местечка под Монпелье. В свои тридцать пять лет Ж.-Ш. Парис оставался бессемейным и неустроенным. Помимо тренерства, ему приходилось зарабатывать на хлеб самыми неожиданными способами. Главное же свое призвание он видел в литературе и, несмотря на то, что ему еще не удалось опубликовать ни строчки, он свято верил, что это только вопрос времени и что именно так складываются судьбы всех «стóящих» писателей. Звезд с неба никто из них не хватает. В этом якобы и состоит их главное отличие от толпы процветающих бездарей, работающих на всё ту же серую толпу, а не на время. А именно время всё и расставляет однажды по своим местам.
Несостоятельность Шарли на литературном поприще объяснялась, по его мнению, нехваткой в нем тщеславия, да и отсутствием уверенности, без которой вообще, мол, не стоит соваться в мир издательств и толпящихся там знаменитостей, что он достиг предела своих личных возможностей и что завтра из-под его пера не народится на свет еще что-то более стóящее. Заявлять о себе, мол, нужно громогласно. Иначе просто не услышат. Шарли не хотел размениваться…
Уже немолодой, крепкого сложения, ростом выше среднего, скуластый, с правильными и немного простоватыми чертами лица, с волевой ямкой на подбородке и, главное, умевший преподнести себя, особенно слабому полу… – Парис чем-то напоминал Мари последнего исполнителя роли Бонда из знаменитого сериала. Самые идиотские приемы, позаимствованные у актеров бульварного театра, действовали самым безотказным образом. И если первое время он покорял ее в первую очередь своими мускулистыми икрами, разглядывать которые ей приходилось через черные очки, чтобы не выглядеть уж совсем полной дурой, то позднее она стала подмечать в нем и другие достоинства, как и в любом «настоящем» мужчине незаметные с первого взгляда. Но Шарли действительно учил ее чему-то новому: не шарахаться в сторону от прямого удара и от условностей, брать все мячи подряд, не только те, которые ей казались посильными. Он учил ее брать всё в кавычки.
Может ли человек с такой внешностью писать рассказы и романы, спрашивала себя Мари. Парис уверял, что не только может, но и посвящает этому всё свое свободное время. Откуда оно у него, если он весь день проводит на кортах? В его молчаливом позерстве на площадке, подчас явном, подчас непроизвольном, в манере прятать кулаки в карманы шорт, которые сидели на нем не по моде в обтяжку, и даже привычка сутулиться, не будучи сутулым от природы, – во всех этих позах и повадках проступала ранимость, которая обычно несвойственна мужчинам его возраста. И это не могло не брать за живое.
На корты при новом клубе, открывшемся неподалеку от дома, Мари ходила уже около трех месяцев. В начале лета, когда истек первый цикл занятий и нужно было внести плату за следующий месяц, кроме чека, причитавшегося клубу, Мари вручила Парису личный презент.
Изящное издание «Дон Кихота» она преподносила ему в знак личной симпатии, с благодарностью за «долготерпение», проявляемое к «бестолковой» ученице. На свою «бестолковость» Мари сетовала уже не в первый раз, но на этот раз она внезапно порозовела.
Парис опустил глаза. И не замедлил истолковать происшедшее на свой лад.
Когда через четверть часа, переодевшись, Мари вышла с кортов и, пересекая газон, спустилась к проезжей части, перед автостоянкой она увидела «опель» Париса.
Сидя за рулем многократно перекрашенного рыдвана с усеченным задом, который пятнадцатью годами ранее сошел бы за вполне пижонский спортивный автомобиль, Парис, кого-то дожидаясь, в такт джазовой музыке, доносившейся из радиолы, покачивал свешенным через дверцу локтем.
– Вас подвезти? – предложил он, когда Мари поравнялась с машиной.
Мари остановилась, машинально обернулась к зданию клуба. И вдруг вспомнила, что забыла в раздевалке очки от солнца, да и всю свою сумку с деньгами и документами, которую зачем-то взяла сегодня с собой. Переведя взгляд на Париса, она вдруг поняла, что возвращаться в помещения клуба ей не хочется, даже если казалось очевидным, что завтра можно чего-нибудь недосчитаться в сумке.
Тренер продолжал сверлить ее полусерьезным, каким-то помутневшим взглядом. В следующий миг Мари что-то быстро произнесла, обогнула «опель» вокруг капота, распахнула дверцу и плюхнулась на сиденье рядом с Парисом.
– Что же вы не заводите? – спросила она после заминки.
– Я хотел сказать… Тут немного не убрано, не взыщите, – пробормотал тот.
Связь тянулась больше года. Здоровая, плотская привязанность, лишенная крайностей, иллюзий, прошлого и будущего, всей той возвышенной мишуры, которая чаще всего и мешает людям находить общий язык, когда речь идет о самых простых вещах. Но именно благодаря своему полному отмежеванию от реальной жизненной почвы и от житейской рутины, эта связь позволяла целиком воплощать себя в жизни каждого дня, позволяла нагонять упущенное… Такими Мари виделись отношения с Шарлем после того, как буря первоначальных сомнений в ней приутихла.
Было ли это очередным самообманом? Было ли в этом что-то столь непостижимо пошлое, как ей казалось первое время, рано или поздно грозившее обернуться опереточной развязкой? Являлась ли такая жизнь, замешенная на мелочном, унизительном обмане и как бы то ни было на неудовлетворенности, уделом всё того же подавляющего большинства людей, к которому она себя относила? Или эта участь поджидала лишь некоторых, менее везучих?.. Ответов на эти вопросы у Мари не было. А поскольку она не могла удовлетвориться двоякими половинчатыми выводами, которые рано или поздно заставили бы вновь истязать себя поисками каких-то решений, опять что-то перекраивать в себе, опять чувствовать себя жертвой очередных заблуждений, она пыталась убедить себя, что попытки найти какое-то радикальное внутреннее решение – это пустая трата времени. Ни прихотью своей, ни даже усилиями воли человек вообще, как ей казалось, не способен разрешать подобные дилеммы…
За год изменилось очень многое. С утратой прежних иллюзий собственная жизнь стала казаться более заурядной, немного стандартной и как бы не такой чистоплотной, как прежде. Но в то же время в ней стало меньше безысходности и однообразия. А временами у Мари даже появлялась уверенность – не менее настойчивая, чем другая, подстегивавшая ее недавно к смирению с неизбежностью смены жизненных вех, смены всего… – что к пониманию этой простой правды жизни не может не прийти любой здравомыслящий человек. Вопрос в том, в какой момент и почему это происходит? Ведь даже слепой от рождения не может не видеть, что, несмотря на кошмарный поток перемен и встрясок, происходящих в окружающем мире, жизнь отдельно взятого человека по большому счету остается неизменной. Всё это как бы задано здесь изначально. И тем не менее Мари нет-нет да преследовало чувство, что она стоит на пороге чего-то нового и что это новое не сводится конечно же к отношениям с Шарли. В этом смысле Шарли воплощал для нее не перемены, а предчувствие перемен.
С коробившими Мари привычками Шарли расставался с легкостью, он словно сбрасывал с себя ненужные обноски. Он больше не подражал на кортах известному немецкому теннисисту, больше не старался имитировать его прославленные на весь мир повадки – не сходившее с лица выражение ленивого раздражения, манера обивать ракеткой кроссовки или еще привычка раскачиваться перед приемом подачи в присогнутых коленях, прикусив правую щеку. Шарли больше не норовил прокатиться на своем «опеле» перед воротами ее дома и больше не носил ярких носков. Но в ответ на притеснения своей свободы Шарли умудрялся тут же восполнять утраченные привычки новыми и не менее обезоруживающими. Чего стоило одно его пристрастие к шейным платкам, которыми он стал вдруг щеголять, заправляя их под ворот рубашки. Мари не удавалось ему внушить, что такими галантерейными аксессуарами пользуются разве что престарелые комики или провинциальные нотариусы. В конце концов, Мари не смогла добиться от Шарля понимания главного, того, что сама она знала, как ей казалось, с пеленок: хороший вкус зиждется на чувстве меры. Отсутствие чувства меры особенно подводило Шарля в его отношении к тем сторонам ее жизни, доступ к которым был для него закрыт на семь замков. Это выражалось в его нездоровом, день ото дня обострявшемся интересе к ее мужу, в непрекращающихся расспросах о ее домашней жизни, о детях. В сложный хаос чувств Мари повергала и неудержимая потребность Шарля «проверять на деле» обуревающие его сексуальные фантазии. Злоупотребляя вседозволенностью отношений, в своем экспериментаторстве Шарль не доходил разве что до кандалов и избиений, что не мешало ему тут же признаваться в своем очередном разочаровании. «Простота – закон природы, и от нее никуда не денешься.., – делился он своими впечатлениями. – Беда в том, что мы часто путаем простоту с однообразием. Это как в стилистике: самое простое – всегда самое долговечное…»
Чистый сердцем вечный недоучка, Парис принимал ее за благовоспитанную гусыню, готовую в любую минуту растаять в мужских объятиях как мороженое, привыкшую растворяться в служении возвышенным чувствам, простым, но утонченным удовольствиям. Развеивать заблуждения на свой счет Мари не хотелось. А иногда ей казалось, что так это и есть в действительности.
Кем Шарли Парис был в душе, неудачливым литератором или доморощенным спортсменом, – это не имело для нее большого значения. Даже если ей и приходилось с некоторой тоской в душе констатировать, что несоответствие между устремлениями в человеке и его истинными дарованиями, проще говоря, расхождение между желаемым и действительным, оказывается куда более неискоренимой чертой людской природы, чем принято считать. На первых порах Мари могла лишь догадываться, какому виду сочинительства Парис предавался, уединяясь у себя в мансарде, которую он снимал под крышей старинного, не очень опрятного здания в старом городе, неподалеку от фонтана «Трех дельфинов».
Показывать свои рукописи Шарль отказывался, заверял ее, что предпочитает щадить ее, не хочет разочаровывать. Мари же казалось, что разочарований боится он сам, что он просто не доверяет ее оценкам. Только со временем, да и то лишь в минуты пресыщения плотскими утехами, когда Мари удавалось ненадолго окрылить Шарли томными уговорами, он вдруг сдавался, расщедривался и зачитывал вслух одну или две короткие новеллы. Читал он завывающим голосом, задыхаясь и едва не всхлипывая от волнения в тех местах своего текста, где речь шла о чем-нибудь вполне забавном или даже банальном.
Новеллы были написаны одинаково кратким, велеречивым слогом. Сами по себе искренние и даже сентиментальные, тексты Шарли имели, казалось бы, более непосредственное отношение не к литературе, а к чему-то театральному, сценическому, но в каком-то упраздненном сегодня понимании этих понятий. Больше всего Мари поражала неточность психологических оценок, совершенно неестественное для пишущего человека непонимание людей и, опять же, заблуждение насчет себя самого. Эта черта казалась Мари вообще одним из самых загадочных и распространенных людских изъянов. Ее поражало полное отсутствие в Шарли чувства юмора, его примитивная, а иногда даже грубоватая чувственность.
Все его герои представляли собой полную противоположность его самого. Шарли описывал жизни, как правило, немногословных, обеспеченных мужчин в галстуках, коммивояжеров, страховых агентов, частных детективов, которые бросали семьи, находили себе новых жен и начинали «все с нуля». Тут же, в духе Бальзака, откуда ни возьмись, появлялись незаконнорожденные дети, которые переплевывали в своих пороках неблагочестивых родителей. Не обходилось, разумеется, и без спорта, без его закулисных сплетен. На взгляд Мари, это и было единственной увлекательной стороной его сюжетов. Здесь-то Шарли знал, о чем говорит. Здесь он легко избегал дешевых приемов и идеализации. Голая суть как бы сама по себе брала верх и спасала автора от безвкусицы, которой неизбежно попахивает от общих рассуждений. Шарли описывал запах пота, едкий головокружительный аромат, исходящий от подстриженных газонов, южную природу с ее вечерним благоуханием, приносимый ветром терпкий настой полевого тмина, как аэрозоль от комаров, пахнущую цитрусовыми ночь, закаты «апельсинового» цвета и т. д. Не забывал он, конечно, пройтись и по своим вислозадым клиенткам, вроде соседки «Глезехи», как он ее называл, которые появлялись на кортах в дорогостоящей экипировке и в считаные минуты начинали лосниться от пота. В то время как какой-нибудь заезжий злоумышленник втягивал их худосочных и состоятельных мужей в темные сделки, буквально не сходя с места, прямо в буфете того же спортклуба…
В Шарле всё было расплывчато. Слова расходилось с делом. Жизнь – с тем, как он ее описывал. Планы на завтра – с его реальными материальными нуждами. Всю свою жизнь он делал ставки на что-то недостижимое – то на теннис, то на литературу, теперь вот и на нее, хотя и утверждал, что у него всегда были какие-то «свои» планы на будущее, которые он собирался воплощать в жизнь любой ценой и независимо от того, как сложатся их отношения.
Меры предосторожности становились тем временем всё более неизбежными. Но к удивлению Мари, не требовали от нее больших усилий. Если промахи и случались, то всегда по вине Шарли.
Как-то раз Мари пригласила его домой на аперитив, он давно хотел взглянуть на ее дом, обстановку. И в тот самый момент, когда, развалившись на диване со стаканом виски, Шарли начал восторгаться исполинским платаном за окном, на проеме веранды вырос силуэт Матильды Глезе. Соседка не могла взять в толк, что здесь делает тренер. Или просто сделала вид, что не понимает. Сцена закончилась обменом любезностями, приглашением на бесплатный урок, но уже на других кортах, находившихся в двух минутах езды на машине, где Шарли вел занятия с отборной клиентурой. Пустив в ход всю свою деревенскую смекалку, Шарли пытался притупить бдительность соседки скидками, подкупом. И своего, пожалуй, добился…
Еще как-то раз, опять после перерыва, домой к Мари заявился курьер, посланный тренером Парисом справиться, не больна ли «мадам» и не желает ли она внести изменения в «график занятий»… Муж, присутствующий при сцене, не мог не выразить недоумения по поводу столь необычной щепетильности со стороны клуба по отношению к своим членам.
– Какие почести!.. Наверное дорого берут? – с усмешкой заметил Арсен, как только курьер удалился.
– Не говори… То есть нет… Я пообещала быть на одном матче, и вот… – Мари запуталась. – Они заманивают народ турнирами… с судьями и всё такое.
Ответ привел мужа в еще большее недоумение. Он впервые слышал о том, чтобы в новом теннисном клубе, открывшемся в двух шагах от дома, проводились теннисные турниры, да и вообще впервые констатировал, что в ней проснулась страсть к теннису – в кои-то веки?
Теннисные занятия при клубе становились всё более зыбким предлогом для свиданий, и вскоре с этим пришлось покончить. Причиной тому была не только врожденная неспособность Шарли владеть собой. Он так и не мог отучиться провожать ее ненасытными, плотоядными взглядами, на что теперь обращали внимание партнерши Мари. Отпадала, собственно говоря, необходимость в поводах для встреч. Они стали ежедневными…
Всё подытожилось в конце года, перед Рождеством. Вскоре после знаменательного разговора с Матильдой Глезе Арсен уезжал в Лондон, намереваясь взять на себя хотя бы часть хлопот, связанных с затеянной им тяжбой. Он должен был вернуться через неделю, к праздникам…
Накануне отъезда мужа Мари попросила у него ключи от дома в Рокфор-ле-Па, куда намеревалась заехать после Ниццы, после поездки к приболевшей тетке, у которой она не могла не побывать перед праздниками; и она предпочитала сделать это сразу же, не откладывая, опасаясь, что, когда съедутся дети, на этот визит ей уже не удастся выкроить времени. В Рокфор-ле-Па ей нужно было забрать забытую там две недели назад сумку с бумагами. Особенно срочная нужда возникла в договоре, присланном ей на подпись редактором женского журнала, мелкие заказы которого, сводившиеся к написанию статей по краеведческой тематике, вряд ли заслуживали того, чтобы их называть работой, но которые приносили Мари определенное удовлетворение.
В ответ на просьбу муж стал сетовать на рассеянность. Он опять забыл заказать запасные ключи. Одна связка оказалась утерянной, другая оставалась с лета у Вертягина. Выхода не было: муж предлагал дождаться его возвращения, тем более что на Рождество они планировали ехать в Рокфор-ле-Па всей семьей.
История с ключом – имевшая самые неожиданные последствия – давала Мари возможность в очередной раз убедиться в том, что именно чрезмерные предосторожности могут обернуться самыми плачевными промахами. Насчет своих ключей от дома в Рокфор-ле-Па Мари успела позаботиться: тайком от мужа она давно заказала себе запасные. О ключах она заговорила лишь для того, чтобы ее остановка в Рокфор-ле-Па, вместе с Шарли, не оказалась ни для кого неожиданностью…
Когда после визита к тете в Ниццу (Шарли тем временем дожидался рядом с домом, заказав себе бифштекс с картошкой на террасе кафе) они приехали в Рокфор-ле-Па, уже смеркалось.
Они въехали в тихий, безжизненный и на глазах темневший парк и уже выруливали к дому, огибая выцветшую клумбу, когда Мари вскрикнула.
Шарли дал по тормозам. Уставившись прямо перед собой, оба тупо смотрели на знакомый «крайслер-чероки» темно-серого цвета, стоявший перед крыльцом дома. В первое мгновение Мари даже не поняла, что это машина мужа. Уезжая, он обычно оставлял ее на автостоянке в аэропорту.
В ту секунду, когда Шарли стал подавать назад, от волнения пробуксовывая по гальке, на крыльце показался мужчина.
Это был муж. В бордовом домашнем халате он стоял, сунув руки в карманы, и смотрел в их сторону. В черном проеме дверей за спиной у него вырос еще кто-то, тоже мужчина – в пижаме, с белым узким лицом.
Узнав, разумеется, машину, муж стал что-то быстро говорить в сторону. Человек исчез. В безмолвии прошла минута. Затем Мари тихо приказала Шарли ехать к дому.
Подкатив под сень олеандра, Шарли остановил машину перед лестницей, на которой стоял муж Мари.
Сверкая влажными глазами, Мари опустила стекло, выбросила наружу едва прикуренную сигарету и хотела что-то сказать. Но не могла выдавить из себя ни слова.
Брэйзиер проследил взглядом за выброшенным окурком и странным жестом хлопнул себя по бокам.
– Поразительная чушь! – произнес он. – Поздравляю, Мари…
Мари сгорала от стыда – какого-то адского и даже не внешнего, внутреннего. От стыда перед Шарли и перед собой – за то, что была замужем за гомосексуалистом и умудрилась игнорировать это столько лет. Но Шарли едва ли был в состоянии вникать в такие тонкости. Держась за руль, он уставил тяжелый взгляд перед собой, туда, где перекатывались за пригорок свежие, зеленые газоны, а за ними, в тени столь же свежих невысоких елей, начинала сгущаться вечерняя синева.
– Я знал. Но всё-таки.., – примирительно вздохнул Брэйзиер.
– Что ты знал? – Мари подняла на него умоляющий взгляд. – Скотина! – добавила она.
– Мари! – вмешался было Шарли; больше всего он боялся скандала.
– Да нет, Мари… Я не скотина, – промолвил Брэйзиер. – Знаешь, мы ведь не дети малые… Я уже встречал этого господина?
В проеме двери, на фоне неосвещенной прихожей показалось молодое лицо небритого мужчины. Тот, кто минуту назад вышел к Арсену на улицу в пижаме, скрывался, судя по всему, в полумраке всё это время.
Движимая безотчетным порывом, Мари толкнула дверцу, выскочила из машины и, не глядя на мужа, засеменила вверх по ступенькам. Брэйзиер, а за ним и незнакомец, оба отшатнулись, давая ей дорогу.
– Мадам… – учтиво кивнул незнакомец; его нечисто-бледное, но правильное лицо поразило Мари до содрогания.
Влетев в комнатку, расположенную сразу за прихожей – это был небольшой, отведенный в ее личное пользование кабинет-библиотека, заставленный книжными шкафами, – Мари упала в кресло у стола и, вслушиваясь во враждебную, от неподвижности почти вязкую тишину, вдруг поняла, что не знает, зачем вообще сюда ворвалась.
Схватив с письменного стола полупустую пачку сигарет, она придвинула к себе настольную зажигалку с мраморной подставкой, прикурила сигарету и, свесив с кресла руки, разведя колени врозь, сидела неподвижно, уставившись в настенное зеркало в старинной дубовой раме, поставленное в рост, прямо на пол.
Из зеркала на нее смотрело незнакомое, немолодое женское лицо с узкими черными глазами: ввалившиеся щеки, грязный зигзаг растекшейся туши, что-то изношенное, нечистоплотное в лице, но и сама поза – нелепая, неизящная, с белеющим из-под задравшейся юбки бельем, – Мари испытывала к себе отвращение.
Когда через четверть часа она вышла из комнаты и, прикрывая платком глаза, направилась к выходу, перед лестницей ее нагнал муж.
– Мари, только не стоит раздувать из мухи слона, – произнес он виноватым голосом. – Давай обсудим всё это дома. Я буду в Тулоне завтра.
Ответив покорным кивком, Мари спустилась к машине. Шарли стал делать разворот…
Они молчали всю дорогу. Приехав в Тулон за полночь, Шарли остановил машину перед воротами Мари и вышел. Он предпочитал добираться к себе в центр своим ходом.
Сцена полуночных «адье» вышла такой же молчаливой. Стараясь не смотреть друг другу в глаза, они расцеловались в щеки. В этот момент Мари еще не знала, что видит Шарли в последний раз. Бесповоротное решение она приняла только утром, проснувшись на рассвете.
Жан-Шарль Парис больше не вписывался в новую, по-новому усложнившуюся схему ее жизни. Ей хотелось очищения. Хотелось не то стереть случившееся со счетов, не то начать всё сначала. О самом Шарле она как-то и не думала…
О приезде матери в Париж, который с праздников откладывался на неопределенный срок, Луиза сообщила Петру в начале февраля, как только они вернулись из Бретани.
Ехать встречать мать на вокзале Луиза отсоветовала, поскольку та собиралась остановиться у знакомых и ее должны были встретить. Останавливаться у пожилой бездетной пары, жившей возле Люксембургского сада, Мари любила, потому что круг общения, в который она попадала, даже отдаленно не соприкасался со средой мужа и с ее обычными семейными заботами. Петр знал пару лишь заочно. Мари давно порывалась их познакомить, но случая не представилось. И тем большее недоумение он испытал на следующий день, в среду, когда узнал, что Мари поехала с вокзала в гостиницу…
Мари позвонила ему только в пятницу. Немного храбрясь перед ней, да и перед самим собой, Петр с ходу поинтересовался, что за конспирацию они с дочерью устроили по поводу места ее проживания.
Замешкавшись, Мари с прямотой ответила, что приехала в Париж, чтобы побыть одной и отойти от «всего». Поэтому и остановилась в гостинице, а не у знакомых, как планировала поначалу. Мари стала сетовать на дочерин «длинный язык», спешила сразу расставить все точки над «i», Петр это понимал, сразу же пыталась перечеркнуть всё то, что он слышал о ее домашних перипетиях. Но он не мог взять в толк, чего она этим пытается добиться. Они договорились, что он заедет в гостиницу на рю Сен-Сюльпис в половине шестого, чтобы на месте решить, где и как провести вечер.
Предстоящая встреча с Мари не могла не вызывать у Петра мучительного внутреннего напряжения. Час объяснений пробил, он это понимал. И он готовился к ним, как к страшному суду. Выбора не оставалось: объясниться по поводу Луизы нужно было при первой же встрече. Однако стоило ему на миг представить себе саму сцену, как он впадал в настоящее оцепенение. Сколько раз, с какой достоверностью он мысленно раскладывал всё по местам, но результат – всё тот же.
Вот он прокашливается в кулак. Вот профиль его каменеет. Вот медленно набухают глазные яблоки… Этот физический изъян он замечал за собой в минуты раздражения или неловкости. После чего с подлой непосредственностью губы его должны были изречь: «Кстати, Мари, я хотел с тобой кое-что обсудить…»
Страх перед разоблачением Петр нагонял на себя не из-за Арсена, не потому, что опасался какого-нибудь провала с этой стороны, хотя с момента их разговора в Гарне прошло достаточно времени, чтобы Брэйзиер успел наломать дров. Интуиция подсказывала, что положение Брэйзиера-мужа стало настолько зыбким, что он будет проявлять маниакальную осторожность и уж тем более не осмелится нарушить данный обет молчания. Да и едва ли он пожелал бы оказаться в этой роли. Ведь в этом случае Брэйзиер получил бы все шишки на свою голову. Мучительную неопределенность вызывало у Петра понимание того, что ему предстоит подвести черту под многолетними отношениями с Мари. И он не знал, чем всё закончится.
Юношеские отношения между ними вылились в нечто большее, чем просто ухаживании. В пятнадцать лет родители забрали Мари из интерната, где она провела несколько лет на попечении у «сестер», и Петр не смог остаться безразличным к белокурой кузине-провинциалке, которая проводила досуг за чтением, умела просто, но хорошо одеваться, играла на фортепьяно, исполняя сонаты на радость рукоплескавшей родне из одних законченных мещан. На некоторое время отношения прервались. Они жили в разных городах. Но затем всё возобновилось с новой силой, уже во время учебы Петра в Париже, как только он переехал в столицу из Нанта. Мари к этому времени уже год как вышла замуж. Этот быстрый поворот в ее судьбе не одному Петру казался неожиданным. Все, кто знал Мари, сулили ей какое-то особое будущее. Почему-то для всех это всегда было очевидно. Однако все эти надежды, или просто иллюзии, никак не мог воплощать собой Арсен Брэйзиер – человек добродушный, но заурядный и во всех отношениях бесцветный.
Как получилось, что в одну из побывок Мари в Париже, после выгуливания провинциальной замужней кузины по улицам города, они оказались средь бела дня в дешевом отеле с кривой и затхлой лестницей, в приземистой комнатке с бездействующим камином, из которого несло свежей гарью, – этого Петр уже не помнил и, восстанавливая подробности, уже спустя, лишь с мучительным усилием пытался вывести себя из ступора нереальных, отвратительно-приторных ощущений, похожих на уже однажды испытанные в далеком детстве, когда его привезли на побывку к тетке и он без разрешения, тайком, съел один целую банку апельсинового джема, от которого болел потом двое суток…
Вечером они пошли в китайский ресторан. За ужином он ничего не пил, отказывался даже от вина, как и она, в то время не потреблявшая никаких других напитков, кроме своего ритуального «Евьяна» и апельсинового сока. Он чувствовал себя в ударе, испытывал к кузине нечто большее, чем просто физическое влечение…
На следующий день всё повторилось. В знобящем дурмане плотских терзаний и утех проходил день за днем, пока Мари не спохватилась. Внезапно, без предупреждения она села на поезд и уехала домой, по-видимому осознав, что стала жертвой даже не страсти, а какого-то наваждения.
Позднее Петру казалось вроде бы понятным, что с ней произошло: помимо давней привязанности к нему, настоянной на чувстве детской преданности, Мари поддалась внезапному отчаянию, которое не могла не испытывать из-за своего поспешного и неуклюжего брака, заключенного с человеком, которого она конечно же не любила…
И пришлось на отношениях поставить крест. Позднее никто из них не вспоминал о прошедшем. Такой радикальный выход из положения казался неожиданным. Реальность вряд ли может измениться от того, что закрываешь на нее глаза. Однако годами всё отстоялось. Расплатой за компромиссное здравомыслие стала утрата прежней душевной близости. Хотя на дне глаз Мари, еще в те годы и уже позднее, Петр улавливал упрек. Хотела Мари того или нет, она продолжала считать его виновником случившегося, а возможно, и чего-то большего, даже если и загнала эти чувства на дно души. В последующие годы Петр пытался загладить вину – мнимую или действительную, это уже не имело значения – услугами, оказываемыми ее мужу, по мере сил добрым отношением к нему, сколь бы Брэйзиер-муж ни казался ему чужим по духу человеком. Пытался загладить свою вину привязанностью к подрастающим детям… Петр даже не знал, посвящен ли Арсен в эту историю. Но со временем это тоже утратило всякий смысл.
Близоруко щурясь, какая-то крохотная и хрупкая, Мари сорвалась с дивана, скрытого за пальмой в глубине гостиничного вестибюля, когда в шесть часов Петр показался на входе, и бесшумно поплыла ему навстречу, пряча очки в лакированную сумочку.
– Петр! – бросила она, вопросительно скользя по нему робким взглядом.
Взяв ее за плечи, он хотел прильнуть к ее нарумяненным щекам, но Мари отстранилась:
– У меня грипп, заразишься.
– Температура?
– Нет, ерунда… Когда я в Париже, всегда начинаю с гриппа или с аллергии.
– Я попал в пробку, – проговорил он с робкой улыбкой. – Хотел выехать раньше, но не получилось.
– Ты из Версаля?
Он всё же прильнул к ней щекой и, пространно ухмыляясь, махнул рукой. Откуда же еще? Они прошли к пальме, Мари опустилась на диван. Он сел в мягкое кресло с деревянными подлокотниками, взвалил на стол пухлый портфель, заложил ногу на ногу и стал покачивать рыжим английским башмаком.
Разглядывая ее с интересом – ее светлые, пепельного оттенка волосы были аккуратно собраны под серым беретом, и оголенный, чистый затылок придавал профилю что-то трогательное, девичье, – Петр вдруг обратил внимание, что глаза Мари, красноватые от простуды, от природы серые и мягкие, с очень характерным для них сонно-вопросительным выражением какой-то врожденной беспечности, были поразительно похожи на глаза ее дочери. Этого сходства он прежде никогда не замечал.
– Ты стал какой-то не такой, – произнесла Мари.
– Ты тоже…
– В тебе появилось… по-моему, что-то русское.
– Русское? В чем же это выражается? – удивился он.
– Не знаю. В лице что-то есть…
– Нос картошкой?
– Вот именно – нос! Только не картошкой. Но правда, ты на отца стал похож как две капли воды.
На секунду задумавшись, Петр отстранено кивнул и произнес:
– Знаешь, как он выражался по этому поводу? Говорил, что, когда смотрит на себя в зеркало, видит провансальскую дыню. По-моему, был прав.
Справившись с мимолетным смущением, Мари расцвела в прежней, хорошо знакомой улыбке, обнажая ряд мелких, белых зубов. Напоминание о чем-то ушедшем, обоим понятном с полуслова, заставило ее вздохнуть и потупиться.
– Ты всё такой же… Такой же болтун, – сказала она.
– Ну, рассказывай! Что ты здесь делаешь? Надолго? – Сложив руки на коленях, он приготовился слушать.
– Приехала подышать городской гарью. – Мари уставила на него неуверенный взгляд. – Мы ведь там совсем одичали. И вот… Голова разрывается. Чудовищный воздух.
– А что в Тулоне?
– Ты имеешь в виду меня и Арсена?
Петр помедлил и кивнул.
– Луиза понаговорила, я представляю… Но зачем это обсуждать? Петр, сделай одолжение… – Мари хотела сохранить на лице прежнее непринужденное выражение, но в глазах у нее опять появилась нерешительность.
– Хорошо. Чтобы не возвращаться к этому… Арсен нанес мне визит, где-то в первых числах, – сказал он.
– Знаю… То есть знаю, что он в Париж ездил, но… Он не говорил, что вы виделись… У нас был разговор о тебе. Я просила его не донимать тебя. Ты ведь знаешь, чувство меры его иногда подводит…
– Сначала я был удивлен… да, это правда, – выжидающе закивал Петр.
– Это когда Луиза от нас вернулась?.. Я вспылила поначалу. Но теперь… теперь всё остыло. – Мари скользнула по его лицу недоверчивым взглядом. – От развода я отказываться не хочу. Просто не хочется кошмарных историй. У Арсена, конечно, свое на уме. Но куда он денется?.. Уладит дела, и всё – конец. С разделом будет нервотрепка… Но ты в курсе. Он наверное уже поделился… всё как попало было оформлено с самого начала. Но кто мог подумать?.. Ну и вот… Я уже обратилась кое к кому. Нашла адвоката, ты не беспокойся об этом. Ты здесь ни к чему.
– Ну предположим… А что потом? – помолчав, спросил Петр.
– Потом?.. Что может быть потом? Ведь это не просто: пожили и разъехались. Тут другое… Петр, я не знаю, всё ли тебе объяснила Луиза? Про Арсена?
– Что он за мальчиками приударяет?
– Тем лучше. Тогда ты не можешь не понимать, что жить с человеком, который… – Мари осеклась, видимо не ожидая, что разговор получится сразу откровенным. – Ведь не всё так просто. Столько всего накопилось… Ты, наверное, не понимаешь, как всё сложно и запутано…
– Всего никто не сможет понять.
– Бессмысленно искать правых и виноватых. Я тоже могла бы покаяться… – Сказав это, Мари помолчала. – Мне сорок исполнилось. И с того дня как я это поняла… Когда я поняла, что способна взять себя в руки, всё встало на свои места. Я начала дышать. Как все нормальные люди! Оказывается, можно жить по-другому. Можно чем-то заниматься… Ну, хотя бы можно стремиться к этому. Мне вдруг стало казаться, что всё еще возможно! Как я жила все эти годы? Во что я превратилась?.. Ну разве ты не видишь?
– Наивно думать, что для того, чтобы заниматься чем-то новым, нужно разнести в пух и прах то, что есть.
– Ты считаешь, что лучше терпеть этот обман?.. Но это так унизительно!
– Обманывать себя не обязательно, – ответил Петр. – Можно найти середину… и ничего не ломать, не усугублять.
– Это ты про себя говоришь. Но дело даже не в середине. Арсен ведь… Петр! – Мари осеклась и с каким-то новым упрямством смотрела ему в глаза. – Ведь это всё смешно. Ну согласись?
– Кому смешно? Тебе? Или кому-то там?.. Если кому-то, то какое нам дело? Черт с ним!
– Я не то хотела сказать… Это перечеркивает для меня годы жизни. Встань на мое место. Ну что мы заладили?.. Хватит на эту тему… Ты лучше о себе расскажи, – встрепенулась Мари. – Что в Гарне-то нового? Я слышала, и в кабинете у вас перемен полно?
– Всё по-старому.
– Говорят, разрослись. Это правда?
– Кабинет, ты имеешь в виду?.. Да, правда.
– Луиза столько рассказывала мне про твою новую работу. – Морща лоб в точности как дочь, Мари с веселой грустью закивала. – Ну о том, что ты стал помогать… Я была удивлена и очень… очень тронута. Но это не то слово.
– Больше разговоров.
– Слышала, что у тебя сейчас даже кто-то живет. Бывший военный?
– Что ты, какой военный! – отмахнулся Петр. – Легионер бывший… Я взял его садовником, а он мне всё перечинил. Золотые руки… Это началось осенью. Если честно, я просто увлекся. На какое-то время. Но иногда бывает стыдно. Стыдно отмывать грехи ценой чужих несчастий. Ведь всё равно ничего не изменишь.
В глазах Мари появился едва уловимый блеск. Она явно не хотела поверить в то, что подобные поступки можно совершать лишь для того, чтобы искупить собственные согрешения.
– Куда бы ты хотела пойти? – спросил Петр. – Можно поехать к Бастилии. Да и тут, неподалеку, я знаю одно место – рыба, устрицы… При простуде хорошо что-то легкое, но калорийное. А может, просто ко мне поедем? Не хочешь? Мой военный, как ты говоришь, обожает визиты… И на редкость хорошо готовит. Мари, ты могла бы, если серьезно, остановиться у меня на эти дни. Мы бы тебя подлечили как следует. У тебя будет спальня наверху. А мой легионер… Его даже не видно.
– Нет, что ты! Мне здесь очень хорошо. А потом, я так давно не жила в гостинице. Такое чувство, что попала на край света… Может быть, нам просто пройтись? Я почти не была на улице за весь день. И погода удивительная – ветер, тепло… Хотя эти улицы тебе наверное опостылели?
Быстро что-то обдумав, Петр одобрил идею прогулки и даже вдруг чем-то воодушевился…
На улицах было еще светло, но город уже погружался в вечернюю серость. Было тепло и вдруг ветрено. Сильные порывы ветра рвали над витринами маркизы. Грохот крыш угрожающе перекатывался над головой. Из-за непривычного для зимы потепления, которое установилось с начала недели, на закате небо приобрело опять необычный, темно-серый оттенок с синим подсветом. Облака, изъеденные оранжевыми пятнами, стали похожи на рваную апельсиновую кожуру. А город, черневший под ними, прорисовывался каждым своим штрихом и казался покрытым слоем свежего, еще не высохшего лака…
За Пантеоном на улицах было людно. Праздная людская толпа, вроде бы типичная для конца недели, переполняла узкие тротуары, и для того, чтобы разминуться с идущими навстречу, приходилось выходить на проезжую часть, выискивая просветы между плотно запаркованными машинами. Прогулка становилась утомительной. Оказываясь впереди, Мари не переставала оглядываться на Петра, словно боялась потерять его из виду.
Они вышли к Сене. Набережные оказались перекрытыми. Уровень воды поднялся до красной черты, и часть береговых аллей была частично затоплена.
Мари указала на группу людей, спускавшихся куда-то вниз по улице. Они прошли в ту сторону и обнаружили, что дальше, возле причалов с баржами, набережные всё же оставались открытыми. Спустившись к самой воде, они вдруг были поражены видом Сены. Стальная гладь воды, изрытая волнами, сплетавшимися в многочисленные косы, с устрашающей быстротой перемещалась влево по течению и лишь каким-то чудом не переливалась через каменные края.
– Когда попадаю в такой поток… в поток людей, я часто замечаю за собой одну странность.., – заговорила Мари о чем-то другом, когда они, постояв у самого края набережной, двинулись дальше по безлюдному променаду вправо. – Из всех проплывающих мимо лиц, из ста, скажем, или из десятка, несколько уж точно покажутся понятными или даже близкими. Какой большой процент! Ведь в жизни за десять, за двадцать лет такого количества близких людей не встретишь.
– Смелое утверждение. – Петр улыбался углами рта. – Встречаясь с людьми на улице, ты просто не успеваешь понять, что между вами мало общего.
– Один мой знакомый говорит, что если взять и поставить в ряд десять человек, то из этих десяти случайных лиц получится самый полный портрет нации, какой только можно вывести даже при помощи статистических методов. А если поставить рядом двести, то получится просто какой-то отряд. Но есть народы, в которых эти десять – как двести, все на одно лицо. Это вроде бы признак древности народа. Так и у французов… Не обращал внимания?
– Нация – это ведь не только… рожи, а прошлое, неизбежность его, – сказал Петр. – Это как в людских отношениях. Если в них нет чего-то неизбежного, вынужденного, какой-нибудь круговой поруки, они всегда рано или поздно заканчиваются. Причем сами по себе, от нашего желания это даже не зависит.
– О, ты стал фаталистом.
– Да нет… Я просто всё меньше нахожу смысла в этом… вареве. Мне всё меньше верится, что от нас что-то зависит. А в то же время смысл есть во всем, это тоже очевидно. Вот и получается…
– Получается, что смысл нам непонятен.
Петр развел руками. Они дружно рассмеялись.
– Как же тогда принимать решения? – спросила Мари, возвращаясь, видимо, к прежнему разговору, начатому в холле гостиницы.
– А что толку их принимать? Жизнь всё равно по-своему распоряжается.
Какое-то время они шли молча и почти в ногу, наблюдая за баржей, которая непонятно каким чудом маневрировала в узких пролетах каменных мостов.
– Ты всегда точно знал, что хочешь, – сказала Мари. – И это замечательно. Вообще из всех, кого я знаю, ты, по-моему, единственный, у кого всё сложилось как-то логично.
– У меня? Какое заблуждение! Меня постоянно преследует чувство, что я занимаюсь не своим делом, что я ошибся профессией, что живу по ошибке. Честное слово!
– Что же тогда о других говорить?
– Заблуждение, – повторил он. – Если хочешь перейти на ту сторону, лучше подняться здесь. – Он показал на каменную лестницу, выводившую к улице.
Они поднялись на проезжую часть, направились к мосту и, перейдя на другой берег, прошли квартал в направлении Нотр-Дама, и Мари сказала, что у нее, по-видимому, опять поднимается температура; разумнее вернуться в гостиницу.
Петр остановил такси. Они доехали до гостиницы, распрощались, договорившись встретиться на выходные. Мари предложила увидеться в воскресенье, но не за ужином, а в обеденное время.
Поговорить о Луизе так и не удалось… Однако и встретиться в воскресенье им тоже не удалось. А в середине следующей недели Мари внезапно уехала домой, чтобы появиться в Париже лишь к концу месяца, но уже проездом. К удивлению Петра, она летела во Флориду, решив наконец навестить сына, и планировала пробыть в США три недели.
От Луизы Петр слышал, что у матери появились серьезные трудности с деньгами, вызванные очередной неудачей в делах Арсена, из-за которой семья лишилась наличных средств, а пустить в ход капитал, вложенный в ценные бумаги, Мари будто бы не хотела, опасаясь, что это может привести к разногласиям во время предстоявшего вскоре раздела общего имущества.
Однажды утром, еще в те дни, когда Мари Брэйзиер находилась в Париже, в Гарн позвонил приятель Луизы Робер Лесерф. Не здороваясь, ледяным голосом Лесерф потребовал немедленной встречи.
– Нет, Робер, не сегодня… До следующей недели не может потерпеть? – Голос в трубке завис, и Петр уточнил: – Что-то случилось у вас?
– Занят не занят, а придется освободиться.
– Робер, давайте обсудим всё как взрослые люди, по телефону, – предложил Петр. – И не будем морочить друг другу голову… Бегать, встречаться…
– Да не будет никаких обсуждений по телефону! Встреча в ваших интересах, – пригрозил тот.
– Хорошо. Я предлагаю увидеться послезавтра. В обед – подходит?
– Нет, сегодня вечером.
Петр помолчал и добродушным тоном произнес:
– Только не горячитесь, Робер… Мне кажется, что я вас понимаю.
Робер чего-то выжидал, видимо и в самом деле понимая, что его понимают, но затем стал опять гнуть свое:
– В шесть часов, на машине, на стоянке перед главным входом в Лувр… там, где улица отходит от набережной в сторону почтамта… Перед церковью…
Вечером Петр собирался встретиться с Луизой, обещал за ней заехать, чтобы забрать ее в Гарн. Но теперь пришлось менять на ходу все планы. Петр приехал на четверть часа раньше назначенного времени. Робера еще не было. Прождав в машине полчаса, Петр спрашивал себя, не ошибся ли он местом встречи, и уже хотел уезжать, как новенький «Мерседес-500» белого цвета остановился в полуметре от его дверцы.
За рулем сидел Робер с сигаретой во рту. Из-за опущенного стекла доносилась не музыка, а буквально грохот.
Петр кивнул в знак приветствия и не смог побороть улыбку.
Робер презрительно отвернулся. В молчании прошло несколько секунд.
Петр жестом попросил приубавить громкость в машине. Робер опять отвернулся, но просьбу выполнил.
– Что, так и будем сидеть? – спросил Петр. – Или вы решили гранату бросить мне в машину, как в фильмах про гангстеров?
Робер запустил недокуренную сигарету в воздух, убавил громкость и стал размеренно, взвешивая каждое слово, излагать всё то, что заставило его добиваться неотложной встречи прямо посреди улицы. Объяснения звучали еще менее вразумительно, чем по телефону.
Высказавшись до конца, при этом ни словом, ни жестом не упомянув имени Луизы, Робер выдержал паузу и набрался храбрости заявить главное: если Петр не отказывается от своих притязаний на нее, то он заплатит ему той же монетой, будет вынужден поставить мать Луизы в известность о том, какие отношения связывают ее с дядей.
– Вот это уже совсем некрасиво, милый друг. – Петр усмехнулся. – Я вас считал приличным молодым человеком. До чего вы докатились, даже не верится…
– Да брось ты мораль читать! – пробормотал Робер, впервые называя Петра на «ты». – Старый бабник…
– Не такой уж старый, – заметил Петр с улыбкой. – И не такой уж бабник… Вам должно быть стыдно, Робер.
Молодой человек на мгновение растерялся, а затем уже другим голосом стал объяснять, что Луиза измучена своим «двойственным положением», что она еще слишком «неопытна», что он, ее дядя, – «и черт с ним, что дядя!» – хотя и годится ей в папаши, хотя и является «отпетым эгоистом», «тоже неплохой парень», но что это не помешает ему, Роберу, добиваясь своего, пойти «на всё». Робер завершил свои доводы утверждением, что Петр сует свой нос в вещи, в которых «ни шиша не смыслит», и что даже о Луизе ему известно далеко «не всё».
– Заглушите, пожалуйста, двигатель, – попросил Петр. – Не слышу, что вы говорите. Или музыку уберите…
Робер выключил и музыку, и зажигание. На протяжении нескольких секунд они с удивлением всматривались друг в друга.
И вдруг Петр понял, что Робер действительно способен на многое. Он попытался на миг представить себе, что будет, если Робер приведет свою угрозу в исполнение – какова будет реакция Мари, когда из какой-нибудь анонимки, склеенной из газетных заголовков, она узнает о том, чего он не смог ей сказать с глазу на глаз.
И ему стало не по себе. Единственное, что его несколько успокаивало, так это здравое соображение, которым он и сам был на миг озадачен: Мари никак не могла получить такого письма сейчас, находясь в Париже. На такую подлость понадобилось бы время. Или Робер знал, что Мари в Париже? Что, если он знал, где она остановилась?
– Робер, неужели вы думаете, что таким способом можно завоевать расположение женщины? – вздохнул Петр.
– У каждого свои методы.
– С этим спорить не стану. Но ваш подход мне кажется опрометчивым. Хотите, скажу вам, как бы я поступил на вашем месте?..
Робер молча смотрел ему в переносицу.
– Женщины не терпят давления. С ними нужно обращаться…
– Ваша племянница – не женщина, а девушка! – криком перебил Робер.
– Допустим. Но завоевывать доверие и любовь всё равно невозможно грубостью. Нужно иметь хотя бы чувство собственного достоинства. Ну немного… А когда речь идет о таких девушках, как Луиза, тем более. Уж поверьте мне…
Враждебно насупившись, Робер вставил в рот новую сигарету.
– Ну хорошо… Что я могу для вас сделать? Дать вам денег? Чтобы действительно было как в кино… раз уж вам нравится играть в эти штуки. Только много я не могу. – На лице у Петра появилась брезгливость.
– Какое вы всё-таки дерьмо! – отрезал Робер. – Вы пользуетесь ею! Таким, как вы, на всё наплевать!
– Ну вот что, Робер… Сейчас мне некогда разбираться… Я предлагаю на этом разойтись и дома всё спокойно взвесить, – с твердостью в голосе сказал Петр. – А дня через два или три приезжайте ко мне. Позвоните вечером и приезжайте. Мы всё спокойно обсудим. Дорогу вы знаете…
– Три дня! – отрезал Робер. – Я тебе даю три дня и ни часа больше. А потом… Сам увидишь.
– Три дня на что?
– На последние «адье» с племянницей… Ты меня понял? А теперь будь здоров, дядюшка!
«Мерседес» взревел и рванул с места. Робер вылетел к перекрестку, не обращая внимания на красный свет, развернулся посреди улицы Риволи в обратную сторону, промчался мимо, и автомобиль исчез на набережной…
Мольтаверн жил в Гарне уже пятый месяц, но в его положении не произошло ни малейших сдвигов. Намерение Петра обучить его садоводству оборачивалось крахом.
Поначалу старик Далл’О обнадежил было Петра согласием прибегать к помощи Мольтаверна и давать ему простые задания, но затем стал делать всё, чтобы не подпустить его к работе в саду.
Как здоровый полноценный мужчина может жить в нахлебниках? Откуда он вообще взялся? Далл’О смотрел на Мольтаверна как на низшего. Беспримерная покладистость, рвение, готовность нести в саду дежурство с утра до ночи и даже демонстративный отказ Мольтаверна надевать рабочие рукавицы, отчего руки его по локти покрылись коростой и ссадинами, после работы в розарии требовавшими обработки, но он даже от этих процедур отказывался.., – Мольтаверн делал всё, что мог, чтобы пробить эту стену недоверия к себе. Старик же оставался непреклонен.
Ремонтные, уборочные, слесарные и гораздо реже садовые работы, которые Петру удавалось с горем пополам подыскивать в округе через соседей и знакомых, не могли изменить положения в корне. Труд разнорабочего не стоил ломаного гроша. Перепадали лишь подачки, с которых не могло хватить даже на карманные расходы. И с каким бы пылом сам Мольтаверн ни хватался за любую возможность подзаработать, проявить себя, какое бы безразличие он ни испытывал к тому, что ждет его завтра, так не могло продолжаться до бесконечности.
Петр понимал, что не может ставить себе в вину неудачи с трудоустройством. Но от этого не становилось легче. И он удваивал свои усилия. Обзванивать всю округу и ездить по разным местным адресам он продолжал всю зиму…
Трудности с определением Мольтаверна на постоянную работу упирались не только в дефицит рабочих мест, который давал о себе знать, как и повсюду, но в его анкетные данные. Ничего неожиданного в этом вроде бы не было. Но поначалу Петр всё же недооценил ситуации. Хотя уже в декабре, при первых попытках подыскать что-нибудь через личные связи в муниципальных хозяйственных службах, ему пришлось констатировать, что далеко не все готовы ринуться на помощь не глядя.
Посвящать всех подряд в подробности биографии Мольтаверна, разумеется, не было необходимости, а тем более когда вопрос стоял об определении его на работу к частным лицам. Но с большинством из тех, к кому приходилось обращаться, Петр был знаком лично, и как-то не получалось не говорить всю правду. К тому же казалось естественным, что само отсутствие какой-либо корысти в его ходатайстве должно придавать его обращениям дополнительный вес. У нормального человека прошлое Мольтаверна не могло, казалось бы, вызвать сочувствия. Разве не так происходило с ним самим? Ведь, соглашаясь дать работу человеку бездомному, побитому жизнью, тот или иной потенциальный работодатель делал в итоге двойное приобретение: получал искомые рабочие руки, а заодно еще и удовлетворение от своего широкого жеста, раз уж отважился на благое дело. Но филантропический подход к делу других скорее настораживал.
Именно из-за судимости Леона отказались принять на работу в лесничество, а затем и на лесопильную фабрику, куда Петр обращался в декабре. Ни к чему не привели ни переговоры в клубе любителей собаководства, куда Петр ездил по рекомендации Сильвестра, ни в фирме по садовому обслуживанию, ни в местной строительной конторе, ни в дампиеррских бакалейных лавках, где всегда была мелкая работа – пусть даже просто доставщиком. Повсюду, где Петр успел побывать за зиму, как только до него доходило, что есть свободное рабочее место, всё происходило по одному и тому же сценарию. Сочувствие сменялось растерянностью. А почему именно я? Да неужели больше не к кому обратиться? Первоначальная отзывчивость и как будто бы готовность прийти на помощь в лучшем случае оборачивались добропорядочной болтовней на темы дня. Нет, мол, правды на свете. Как, мол, мир несправедлив… А через день от услуг Мольтаверна тактично отказывались.
Стоило ли удивляться такой реакции? Вряд ли. Для любого постороннего человека Леон не представлял собой ничего такого, что должно было заставить его жертвовать своими интересами и во что бы то ни стало идти ему навстречу. Тысячи и миллионы людей, подобных Мольтаверну, изо дня в день мыкались в поисках заработка и при этом часто даже не видели в своем существовании ничего анормального. Столь же глупо было бы схематизировать положение другой половины, даже с учетом того, что эта привилегированная «половина» представляла собой явное меньшинство, – а именно положение тех, кто может, кто хочет или должен разделить с менее имущими часть того, что имеет, но этого не делает. Привилегированность нередко оказывается тоже условностью и преувеличением.
Однако Петр выделял для себя еще один нюанс, и он представлялся ему самым важным. Ему казалось, что обобщения, да и вообще рассуждения о том, что кто-то, может быть, заслуживает тех невзгод, которые с ним происходят, а кто-то другой не заслуживает своего благополучия, – оставались голым допущением, домыслом. Это мгновенно понимаешь, когда оказываешься перед лицом реальной жизненной проблемы, решить которую невозможно одном голословием, просто копаясь в стерильных вопросах. На деле всё легко становится на нужные рельсы, выход из самой трудной ситуации не заставляет себя ждать при наличии у других пусть мизерного, но реально существующего намерения изменить что-то вокруг себя к лучшему. Ведь помощь, за которой в таких случаях обращаются, в конце концов, не столь значительна, чтобы усложнить жизнь того, кто на нее отваживается. Да и сами эти подразумеваемые «сложности», реальными они были или мнимыми, представляли собой, на взгляд Петра, прямое, хотя и не совсем явно, легко прослеживаемое последствие этого самого «обобщенного», схематизированного отношения к вещам. Обобщения лишь притупляли взгляд. Тем самым они усугубляли путаницу, а иногда делали ее беспросветной.
Следуя этой логике, он обнаруживал, что в его голове всё быстро сходится. Выявив для себя главную закономерность, Петр даже смог подогнать ее под некое житейское правило, пустил это правило в дело и старался твердо его придерживаться. Это правило заключалось в том, что предпочтение всегда следует отдавать конкретному, соразмерному с реальными личными возможностями, а не абстрактному, соизмеримому с голой истиной, выводимой из обобщений. И на какие бы достоверные сведения эти обобщения ни опирались, правда – в конкретном, ложь, заблуждения – в условном, абстрактном…
Самые большие связи в округе имел архитектор Форестье. Он был вхож в деловой мир департамента, знал лично кое-кого из муниципальных чиновников и при желании мог оказать настоящую помощь. Однако особого энтузиазма к просьбам Петра Форестье не испытывал. За два месяца, прошедшие с того дня, как он пообещал позвонить кое-кому и прозондировать почву, он так и не предпринял ничего конкретного. На филантропию соседа Форестье поглядывал косо, а если и делал одолжение, звонил кому-то и наводил справки, то лишь потому, что сдавался на уговоры своей жены. Элен Форестье Петру сочувствовала и, как могла, помогала.
В январе Форестье неожиданно заговорил о возможности пристроить Мольтаверна в конюшни, куда он возил дочь учиться верховой езде. Форестье-младший даже изъявил желание лично препроводить легионера на встречу с владельцем клуба. Встреча прошла удачно. Хозяин клуба как будто бы согласился взять Мольтаверна на испытательный срок. Но через несколько дней, как и все, ответил отказом, мотивируя это тем, что их «протеже» никогда не имел дела с лошадьми (это было ясно с самого начала), поэтому риск, мол, слишком велик, даже уборку конюшен он якобы не мог доверить человеку, не имеющему нужного опыта.
В те же дни стало известно о вакансии автослесаря в соседнем сервисе, где Петр иногда заправлял машину. Он свозил Мольтаверна на «прослушивание». Проэкзаменовав Леона, навыкам его удивились. Хозяин мастерской заверил, что ему нет дела до того, «кто где сидел, было бы за что…», пообещал не откладывать дело в долгий ящик и явно склонялся к положительному решению. Протянув с ответом неделю, хозяин сервиса позвонил сам и стал нести в трубку что-то невразумительное об условиях страхового полиса, об отсутствии сейфа и должности кассира, о каком-то родственнике-совладельце, которого ему не удалось уломать…
В конце концов, именно благодаря усилиям Форестье в феврале удалось найти подходящее место при муниципальном лесопарке, Леону было предложено работать в охране, одновременно исполняя обязанности дворника, а также иногда участвовать в садово-парковых мероприятиях.
От дома до лесопарка было пятнадцать километров езды. Мольтаверн уверял, что сможет добираться на работу на автобусе или даже на велосипеде. Вариант казался идеальным. О большем трудно было бы и мечтать. Петр решил приложить максимум усилий, чтобы не упустить такую возможность.
Когда они поехали на очередные смотрины, он предпочел не выкладывать всю подноготную, как это делал обычно. И вопрос был мгновенно решен. Трудовой договор предлагали подписать временный, всего на шесть месяцев. Но по истечении этого срока речь могла идти уже и о постоянном трудоустройстве.
В ознаменование столь долгожданного события Петр устроил вечером праздничную пирушку, пригласил на нее соседей. Мольтаверн приготовил на всех ростбиф и пирог с черносливом. Вечер вылился в настоящую попойку и закончился в третьем часу ночи на десятой бутылке шампанского – начиная с пятой, архитектор посылал Леона за шампанским в свой погреб, – в атмосфере бурных россказней о всевозможных доблестях времен беззаботной молодости, которую разогревал жар камина и дружный хохот…
Первое дежурство Мольтаверна в лесопарке выпало на понедельник.
Он встал чуть свет, приготовил на всех завтрак, накрыл стол в столовой и, сияя докрасна вымытыми щеками, приодетый, в шерстяном пиджаке и в галстуке с бежево-голубым узором – галстук был явно ни к селу ни к городу, – потчевал всех чаем и кофе, но при этом выглядел всё же немного подавленным. Он явно волновался.
Стараясь поднять в легионере боевой дух, Петр настоял на выдаче ему после завтрака аванса, заставил принять четыреста франков в счет будущей зарплаты, а затем для первого раза решил всё же отвезти его в парк на машине…
Домой Мольтаверн вернулся другим человеком. Но о самой работе он почему-то помалкивал. Ужин протекал в натянутой атмосфере. Тянуть его за язык Петр не хотел и терпеливо ждал, что Мольтаверн расщедрится на какие-нибудь объяснения. Луиза же принялась над ним подтрунивать: теперь он наконец может позволить себе обзавестись настоящим одеколоном, и от него больше не должно, мол, пахнуть «пятилетним медом», всякой дешевкой, которой он запасался в супермаркетах. А затем она стала бесцеремонно уговаривать его продемонстрировать свои бицепсы. Ей хотелось проверить, на сколько они «разбухли» за один «трудодень».
Не реагируя на колкости, с бесстрастным видом Мольтаверн продолжал обслуживать стол. Этакий обтекаемый мажордом, настоящий профессионал. Он не собирался ни перед кем отчитываться. Однако по его непроизвольной манере угождать в мелочах легко было догадаться, что всё прошло гладко. Может быть, даже слишком гладко для первого раза. И, видимо, поэтому за один-единственный день он настолько вырос в собственных глазах, что даже не знал теперь, как себя держать: я, мол, всё тот же вчерашний, да не совсем.
Уже на следующий день произошла новая неприятность. Она поставила Петра перед очередной проблемой. По дороге домой с работы – подробности случившегося стали известны позднее – Мольтаверн завернул в кафе. В ту самую местную забегаловку, находившуюся на перекрестке двух главных шоссейных дорог, в которой Петр покупал сигареты и иногда посылал за ними Мольтаверна. После восьми вечера здесь собирались местные рабочие и заодно всякий сброд. Мольтаверн принялся угощать всех пивом, решил таким образом обмыть свое трудоустройство.
Щедрый гость уже с полчаса казался всем поддатым, когда хозяин заведения, умевший избегать ненужных сложностей, отказался выполнить очередной его заказ – тот попросил еще одно пиво. Мольтаверн принял отказ за оскорбление и полез на рожон. По рассказам хозяина и его жены, помогавшей мужу обслуживать вечерами, буян перевалился через стойку, сгреб хозяина за шиворот, притянул к себе и дыхнул ему в лицо перегаром.
Хозяин постарался замять инцидент и пиво всё же подал. Однако, не удовлетворившись достигнутым и на глазах теряя над собой контроль, Мольтаверн продолжал куражиться. И дело неминуемо закончилось бы вызовом полиции или выяснением отношений на кулаках, если бы не жена хозяина. Она знала буяна в лицо, знала, где он живет. Отыскав в телефонном справочнике нужный номер, она решила позвонить в Гарн…
Не прошло и десяти минут, как Петр появился на пороге заведения. В кафе царил неимоверный тартарарам. Вглядываясь в душное, переполненное помещение, в клубы дыма, висевшие под низким потолком, Петр разглядел наконец и хозяина. Тот стоял за стойкой в дальнем углу и помахивал ему рукой.
В следующий миг он увидел и Мольтаверна. Непохожий на себя, какой-то окаменевший, с подслеповатой физиономией, Мольтаверн стоял тут же, в конце барной стойки, среди каких-то работяг в синих комбинезонах, сверкал белками глаз по сторонам, облокотившись о край.
Петр приблизился к компании. Рабочие расступилась.
– Хорош, нечего сказать… – Петр осмотрел Мольтаверна с головы до ног, перевел взгляд на рабочих, на какого-то старичка в фуражке, непонятно кому улыбающегося, обвел глазами молодых мужчин с раскрасневшимися лицами, которые выжидающе наблюдали за сценой через головы соседей, затем спросил: – Что здесь происходит, а Леон?
Мольтаверн наградил его пустым взглядом. Он не узнавал его, не то принимал за кого-то другого. Метнув взгляд в зал, Мольтаверн всё же выправился, еще одну секунду оторопело смотрел на Петра неприятным, мутным взглядом. Но затем убрал локоть со стойки и выровнялся, словно собираясь встать по стойке «смирно».
– Что происходит, я тебя спрашиваю? – повторил Петр свой вопрос.
– Эт-то вы?.. Что вы тут д-делаете? – с трудом пробормотал Мольтаверн. – Во-первых, здрассти…
– Рассчитывайся! – приказал Петр.
Хозяин, как и все, наблюдавший за происходящим из-за стойки, сочувственно закивал и сделал рукой отрицательный жест, давая понять, что заказ то ли оплачен, то ли вообще того не стоит, после чего, сложив волосатые руки на груди, радушно присовокупил:
– Щедрый парень. Опоил всю братию… А, пацаны?! Вы что, совсем сегодня обалдели все?
– Прошу извинить меня… и его, – произнес Петр, не совсем понимая, к кому хозяин обращается. – Спасибо, что позвонили.
– Вы не переживайте, – успокоил тот. – Мы и не таких видали… Хотя не понятно, что бы я с ними делал, если б вы не приехали?
Глядя на Мольтаверна, Петр только теперь осознал, что тот пьян вдребезги, хотя и умудрялся каким-то образом держаться ровно. Мольтаверн даже не шатался. Подступившись к нему, Петр тронул его за железный бицепс и чуть слышимо приказал:
– В машину!
– Вы, главное, не расстраивайтесь, а-спадин Вертягин, – забормотал Мольтаверн, брызгая слюной. – Я им покажу, этому быдлу!
– Покажешь… – Петр подталкивал его к выходу. – Шевели ногами.
Всплеснув руками, Мольтаверн стал проталкиваться к выходу, растопыренными пальцами придерживаясь за столы.
Они вышли на улицу. Уже совсем стемнело. Взяв Мольтаверна за рукав, Петр перевел его через дорогу, подвел к машине и открыл дверцу:
– Усаживайся, дружок, и поживее! Куда ты дел велосипед?
– Велосипед?.. Какой велосипед? Я где-то… Я, в общем, пьяный. Извиняюсь, конечно.
Втолкнув Мольтаверна в машину, Петр вернулся ко входу в кафе и сразу же увидел велосипед, прикованный тросиком к столбу с дорожным знаком. Ключ остался у Мольтаверна. Возиться с замком было не время, к тому же было непонятно, вместится ли велосипед в багажник машины. И Петр вернулся в кафе, попросил хозяина присмотреть за ним до завтра…
Наутро, проспавшись и абсолютно ничего не помня, Мольтаверн клялся и божился, что не возьмет впредь в рот ни капли. Петр потребовал от него предоставления счета за сабантуй. И оказалось, что тот пропил все деньги, которые получил день назад в виде аванса, все четыреста франков.
Инцидент кое-как удалось замять. Но в глубине души Петр не знал, как относиться к случившемуся. Поспешных выводов делать тоже не хотелось. Он предпочитал списать всё на срыв. На радостях бывает и не такое. В конце концов, длительные хождения по мукам – поиски работы, увенчались успехом. Мольтаверна можно было понять. К счастью, в тот вечер, когда всё случилось, Луизы не было дома, и поставить на истории крест было нетрудно. Но неприятности на этом не закончились.
Мольтаверн не проработал в парке и недели, как его уволили с работы. Это произошло в пятницу…
Уехав в этот день с работы раньше обычного, Петр приехал на Аллезию, назначив Луизе встречу в кафе рядом с ее домом, чтобы уже вместе ехать в Гарн. Дожидаясь ее прихода, он сел за столик на террасе у окон, чтобы присматривать за машиной, оставленной посреди пешеходного перехода, заказал стакан воды с мятным сиропом и стал листать «Монд». Когда Луиза вошла в кафе, опоздав почти на час – в джинсах и коротеньком пальто мышиного цвета, которое ей очень шло, – на улице уже смеркалось. Когда же они приехали в Гарн, было темно как ночью.
Еще издалека, на въезде на аллею с дороги, Петр с удивлением заметил в своих окнах свет. Мольтаверн должен был вернуться с работы позднее. Подкатив к ограде, Петр остановил машину и, не дожидаясь Луизы, гонимый каким-то неприятным предчувствием, первым заторопился в дом.
Мольтаверн сидел на диване не раздеваясь, в верхней одежде, и крутил в руках разобранный штепсель с проводами. При виде Петра он потупился.
– Здравствуй, Леон… Что это ты так рано? – спросил Петр, на ходу снимая верхнее.
Мольтаверн поднял лицо, но смотрел мимо. Поднявшись с дивана и шаря глазами по сторонам, он уничижительно, будто лакей, мотнул головой, прежде чем сделать шаг навстречу Луизе, которая тоже появилась на пороге, – он обычно забирал у нее верхнюю одежду. Вчерашний налет гордыни исчез с его лица как не бывало.
Петр и Луиза переглянулись.
– Давайте пальто, – предложил Мольтаверн. – Там некуда повесить.
– Леон, тебя же спрашивают? – потребовала ответа Луиза. – Ты что делаешь дома в такую рань?
– Списали, – буркнул Мольтаверн, и по лицу его расползлась глупая улыбка.
– Что значит, списали? – не поверил Петр. – Откуда списали?
– С работы, откуда…
– Как это? За что?
– А ни за что… Вам звонила Шарлотта, как ее…
– Нет, ты, пожалуйста, растолкуй понятным языком, – потребовал Петр. – Ни за что – так не бывает.
– Директор вызвал меня… Ну этот, помните, косоглазый тип? И спросил, есть ли у меня судимость.
– И что?
– Я сказал, что есть.
– Ты сказал, что есть… – Петр развел руками. – Мы же с тобой договаривались… что без меня ты ничего никому не будешь рассказывать. Да или нет?
Мольтаверн молчал.
– Хорошо. И что дальше? – подстегнул Петр.
– Ну что… потребовал справку о несудимости. – Мольтаверн опять глупо ухмылялся. – Ну а когда заполучил бумажку, говорит, забирай свои манатки и чтобы духу твоего тут не было… Ну что тут непонятного?
– Справку! И ты ему эту справку принес? Когда ты успел?!
– Да нет!
– Не понимаю… Какого черта ты отвечаешь на такие вопросы? Или тебя за язык тянули?
– Что же вы-то предлагаете? Врать без зазрения совести?
– Ну дает… И соврал бы, ангелочек! – попрекнула Луиза. – Тебя ж не на исповедь отправили, а работать… охранником, на хлеб зарабатывать.
Мольтаверн не знал, куда девать глаза. Предвидя, по-видимому, и не такую реакцию, явно приготовившись к взбучке, он, скорее всего, не ожидал, что это произойдет в столь резкой форме. На лице его появилось отрешенное и беззащитное выражение. Стараясь преодолеть неловкость, он глядел то в пол, то в сторону, а затем вдруг еще и покраснел, чего за ним не водилось вообще.
– Пожалуйста, Луиза.., – проговорил Петр. – Ну что, так просто и выставили? – спросил он смягчившимся тоном.
Мольтаверн смотрел в окно и как ненормальный покачивался.
– Скоты… Я им устрою увольнение! – пригрозил Петр и прошел в свой кабинет, чтобы оставить там портфель и верхнюю одежду.
Мольтаверн оставался непробиваемым весь вечер. Но в то же время не мог скрыть своей подавленности, выдавал ее затравленной молчаливостью, выражением какой-то упрямой сосредоточенности, которая выступала у него на лице, когда он кромсал репчатый лук на кухонном столе, рукавом вытирая слезы, когда он тут же шинковал петрушку для салата, уставившись в стол бездонным взглядом круглого сироты и немо шевеля губами. Выдавала даже походка: Мольтаверн расхаживал по дому, как-то по-иному разводя колени и растопыривая локти – как будто для равновесия, словно под ногами у него был не паркет, а сплошные ямы.
Наблюдая за ним, Петр не мог не испытывать жалости, а то и вины за случившееся. Вины за свою неспособность помочь по-настоящему? Разве не он настоял на обмане, запретив говорить о судимости? В эти сомнения врывалось и другое неожиданное чувство. Едва ли это была просто жалость. Но что-то не переставало жечь его изнутри и становилось нестерпимым, как только он припоминал поразившую его деталь: реакцию на свои первые слова, произнесенные с порога, когда они вошли с Луизой в комнату и застали его на диване – униженный лакейский кивок Мольтаверна. Почему-то именно этот кивок так сильно бередил теперь душу…
После ужина он позвал Мольтаверна к себе в кабинет. Тот подробно рассказал, при каких обстоятельствах произошло увольнение. В момент оформления на работу – это происходило уже после того, как все условия были обговорены в присутствии Петра – административный служащий, занимавшийся наймом, добросовестно проэкзаменовал Мольтаверна по некоторым другим обычным вопросам, касавшимся его социального положения. И в этом не было ничего удивительного. Слишком явно Мольтаверн подпадал под категорию лиц «социально неустроенных». На этот раз, согласно наставлениям, полученным от Петра, свое тюремное прошлое Мольтаверн обходил молчанием. Петр считал, что позднее, даже если этот факт однажды и всплывет, он уже не имел бы существенного значения, так как Мольтаверн успел бы проявить себя в деле, как это и произошло при его появлении в Гарне. На черное пятно в его анкетных данных, скорее всего, закрыли бы уже глаза. В конце концов, ни один закон не запрещал брать на работу людей, отбывших тюремный срок.
Но как Леона угораздило хвастануть при собеседовании, что у него есть знакомый полицейский, который может отрекомендовать его по всем статьям, да еще и сообщить, в каком комиссариате тот служит? Этого объяснить было уже невозможно. Здесь проглядывало что-то иррациональное. Соблазн ухватиться за что-нибудь прочное, весомое в глазах обывателя? Чувство неполноценности, причем настолько глубоко въевшееся в подсознание, что Мольтаверн уже был не способен его в себе контролировать?
Стоило ли удивляться, что служащий не смог пропустить мимо ушей такое откровение. Ошибался Мольтаверн и насчет знакомого полицейского. Ничто человеческое не было чуждо, судя по всему, и полицейскому. Но казалось очевидным, что, добиваясь доверительных отношений с Мольтаверном, «друг-полицейский» преследовал в свое время простую цель – хотел ускорить процедуру дознания по делу, которое велось против Мольтаверна, и попросту втерся к нему в доверие. Но до этого Петр докопался уже позднее…
В комиссариате, куда позвонили с работы Мольтаверна, его отрекомендовали в таких терминах, что не всякая тюрьма обрадовалась бы его возвращению. Уже на следующий день от Мольтаверна потребовали справку о судимости. Мольтаверн тянул резину, отмалчивался, надеялся, что буря утихнет. Тем временем нужную справку запросили напрямую, в обход Мольтаверна. И таким образом в считаные дни о нем узнали всё необходимое. Неизвестно – всё ли до конца или только то, что касалось его последней эпопеи. Но этого оказалось достаточно, чтобы расторгнуть временный договор, на основании существующих «внутренних инструкций» и несуществующих законов об ограничении доступа к подобной работе определенной категории лиц. Оспаривать решение? Жаловаться? Судиться?
Было уже около полуночи. Сидя в своей рабочей комнате, Петр продолжал обсуждать с Мольтаверном случившееся, всё еще стараясь выяснить, имелись ли у него хоть какие-то шансы отстоять его права, когда за окнами раздалась грозовая канонада. Через минуту хлынул такой ливень, сопровождаемый ураганным ветром и градом, что вздрагивали стены и казалось, что кто-то ухватился мертвой хваткой за карниз и пытается оторвать крышу.
Луиза кинулась закрывать уличные ставни. Она сразу позвала на помощь. Они поспешили на террасу. Борясь с ветром и со ставнями, все трое вымокли до нитки. Спать все разошлись только после чая, который Мольтаверн принес к камину, когда уже пробило два часа ночи…
Ураган, не стихавший всю ночь, к утру спал, а к десяти часам даже распогодилось. Теплый весенний ветер преспокойно гнал по небу большие кучевые облака, над горизонтом всё еще налитые лиловой тяжестью. С неестественной быстротой облака плыли прямо навстречу взгляду. Со стороны холмов ветер приносил обжигающе свежие, насыщенные чем-то приторным запахи леса, сырой земли и прелой зелени.
Петр с рассвета хозяйничал в розарии. В джинсах, в старом ирландском свитере с косичками на рукавах, в сером парусиновом бобе, он возился в кустах, вычесывал из газона обкромсанные ветки, загружал мусор в тачку и свозил его в дальний угол.
К одиннадцати часам на террасе ударила дверь, и показалась Луиза. Всё сразу же пришло в движение. Утро было хотя и свежее, но столь ясное, что она попросила Мольтаверна, застывшего в дверях наготове, накрыть завтрак на улице. Мольтаверн исчез и через минуту стал носить в беседку под навесом посуду, горячий шоколад, кофе, поджаренный хлеб, банки с вареньем и фрукты.
Через несколько минут Петр поднялся к беседке, выпил за компанию со всеми чашку кофе, после чего вернулся к кустам и, перегнав тачку повыше, к самой террасе, продолжал начатое с утра. Из сада он слышал, как Луиза, едва проснувшись, уже вовсю отчитывала Мольтаверна за разбитый вечером фаянсовый горшок для цветов.
Выставив стул из тени на газон, Мольтаверн грелся на солнце и реагировал на всё стоическим молчанием.
– В мире, Леон… в том мире, в котором мы живем, люди больше ценят барахло всякое, вещи, а не друг дружку. На тебя всем наплевать. Поэтому ты должен хотя бы стараться показаться полезным, интересным.
– Это вы свой мир описываете, – сказал Мольтаверн. – Мой мир… он совсем не похож на ваш.
– Ну конечно!.. Ты хочешь сказать, что я, Пэ и все мы живем в этом реальном мире, а ты почему-то – нет? Что ты нашел себе теплое местечко, пригрелся и будьте здоровы?
Мольтаверн молча поигрывал коленями, отделывался одними ухмылками.
– За это тебе и достается.., – заверила Луиза и стала размешивать какао ломтиком поджаренного хлеба.
– В волчьей стае надо выть по-волчьи… Вы это хотите сказать? – спросил Мольтаверн. – Эту школу я прошел, когда вас еще на свете не было.
– Если не хочешь выть со всеми, так хоть бы подвывал… так, для вида. Правила игры соблюдать нужно. Или не лезть в игру вообще, сидеть в стороне от всяких игр.
Обменявшись взглядами, они вдруг рассмеялись. На некоторое время в беседке воцарилась тишина. Панибратский тон и неведомо на чем замешенное единодушие, благодаря которому им удавалось понимать друг друга с полуслова, Петра удивляли уже не в первый раз, но теперь немного озадачивали.
– Хорошо, давай подойдем к этой проблеме с другой стороны, – продолжала Луиза. – Вот смотри: в нашем обществе… ну, в нашем свинском обществе, в котором нам приходится жить, деньги – это всё равно что кровь… Как кровь, которая течет по сосудам, чтобы организм, живые ткани могли получать вещества, необходимые для жизнедеятельности. Ведь так?.. Тогда ответь, пожалуйста, как вот ты к деньгам относишься, а Леон? Или тоже всё отрицаешь?
– А никак, – ответил тот.
– Что значит никак? Это не ответ… Богатым ты стать не хочешь, это и дураку ясно. А то ведь потом придется сторожить нажитое добро, как оружейный склад. Сохранить добро труднее, чем его нажить… Правильно я тебя понимаю?.. Но иметь что-то, как все нормальные люди, получать эти полезные вещества, о которых я говорю?
– Чтобы любить богатство, надо быть бедным, – ответил Мольтаверн.
– А чтобы любить бедность, надо быть богатым?
– Можно и так.
Луиза пригубила какао, обожглась. Отставив чашку, она неожиданно согласилась:
– Может быть, и так, конечно. Тебя не переспоришь. То же самое утверждает одна моя знакомая. Она живет на три тысячи в месяц. – Луиза принялась рассказывать Мольтаверну о том, как ее подруга Мона питается одним рисом и макаронами и этой суммы ей якобы хватает на удовлетворение всех ее запросов.
– Вот я и говорю, что счастливым можно быть без денег, – сказал Мольтаверн.
– Ты – наглядный пример… Этих перлов ты у Пэ, по-моему, нахватался.
– Ничего подобного! Я тоже так думаю.
– Тогда объясни… Каким же образом?
– Не тем богат, что есть, а тем, чему рад, – произнес Мольтаверн.
– Чего-чего?
– Человек, у которого есть деньги, не понимает, что почем. Ну что тут непонятного?.. Вот у вас хватает денег на новую машину, вы можете купить ее, когда вам захочется. Одна сломалась – купили другую, – быстро заговорил Мольтаверн. – Но вы уже не можете любить машины, они для вас ничего не стоят. Логично?.. Так – средство передвижения. Вот как для Пэ. Какая ему разница? А когда своя, единственная… Когда мучился, берег, сам ремонтировал – совсем другой разговор. Можно быть счастливым, когда хорошо поел. Когда на тебе новые джинсы. Или когда где-то рядом хорошо пахнет. Вы не понимаете… Если вам стоит только захотеть и у вас будет всё, что вы хотите, это непонятно. Вино окажется кислое. Шоколад горький. Всё не то, не то…
– Философия, Леон, – вздохнула Луиза, помолчав. – Когда человек хорошо ест, у него лицо подтянутое, кожа блестящая. Когда плохо – серое, опухшее. Какая между ними разница?.. Да огромная!
– Мы говорим о разных вещах. Я вот люблю, например, сушить одежду на улице, потому что она потом хорошо пахнет, – привел Мольтаверн еще один пример. – А другой даже не понимает, что одежда хорошо пахнет, если у него всегда был такой огород. – Мольтаверн показал в сад.
– Это не огород, а розарий.., – поправила Луиза. – Но я поняла, что ты хочешь сказать. Какой ты всё же притвора, Леон! Ты ведь понимаешь больше чем десять адвокатов, вместе взятых! Не знала, что ты философ.
– Это не философия. Это опыт жизни, – изрек тот не без самодовольства.
С минуту они помолчали.
– Ну, раз ты такой опытный, такой умный, ответь мне вот на какой вопрос. Помнишь, мы с тобой говорили про армию, про жестокость и всё такое… Как ты всё это совмещаешь? Ты лев, по-моему, по гороскопу?
– Нет, я не лев.
– А похож… Так что я хотела спросить… Ты в Бога вообще веришь? Любой нормальный человек должен задумываться над такими вещами.
Задержав на собеседнице иронический взгляд, понимая, что такой вопрос невозможно задавать серьезно, Мольтаверн сложил руки на груди и, изображая из себя тугодума, ответил:
– А почему нет? Бог – это такое дело.
– Какое дело, Леон?
– В Святой Дух я верю, а в Отца нет.
– Чего-чего?.. Повтори-ка, не расслышала!
Мольтаверн, улыбаясь, отрицательно покачал головой, повторить сказанное отказывался.
– Ну ты даешь! Откуда же он взялся, Святой Дух? С неба, что ли, свалился?
– Он ниоткуда не взялся.
– Как это ниоткуда? Объяснил бы темноте!
– Объяснять нечего. Он всегда был, и точка.
– Послушай… Ты, случайно, не сектант? А то, глядишь, тебя в твоих крестовых походах завербовали грешным делом?
– Нет, крещеный и не сектант.
– Леон, а что ж ты тогда в эти войска полез, раз ты такой. Ну, как сказать…
– Так надо было, – ответил Мольтаверн без смущения.
– Я серьезно спрашиваю… Встань на мое место.
Мольтаверн нетерпеливо озирался по сторонам.
– Значит, ты и в вечную жизнь веришь? – продолжала Луиза донимать его.
– Верю.
– А вот я этого не понимаю… Что это такое? Как ты себе это представляешь?
Мольтаверн помялся, нарочито зевнул и, устремив взгляд вдаль, вымолвил:
– Душа не умирает… Ученые это давно доказали.
– Что-то не слышала таких доказательств.
– Я в журнале читал, – сказал тот. – Я вам дам – наверху валяется.
– В журналах чего только не пишут. Душа, говоришь… Мы же не про душу говорим, а про тебя. Ты, значит, умрешь, а душа останется. Где же тут вечная жизнь?
– Я – это только тело, оболочка. А душа…
– Ну-ну, – подстегнула Луиза. – Что дальше?.. Пэ! Ты только послушай, что он несет. Мы, говорит, – одна оболочка!
Остановив тачку неподалеку от беседки, Петр вытер лицо рукавом и рассеянно улыбался.
Мольтаверн, подперев себя кулаком в бок, продолжал смотреть вдаль.
– Удивил ты меня, Леон.., – качала Луиза головой. – С оболочкой…
– Кукушка, слышите? – сказал Мольтаверн. – Обычно ее слышно немного левее. Новая наверное появилась.
– У русских есть такая игра, – сказала Луиза. – Мы же русские – на донышке, но всё-таки. Ты не знал?
– Нет, вот этого не знал.
– Ты-то небось француз потомственный. Тебя из соски красным вином кормили.
– Луиза, как можно говорить такие глупости? – вмешался Петр.
– Да он не обижается… Правда, Леон?
– Не из соски, а из миски, – сказал Мольтаверн. – Одну на всех ставили, и мы всей сворой бросались похлебать. Хвосты вверх и вперед! Смотрите, какой вырос… – И он дважды врезал себе кулаком в грудь.
– Остряк, подумайте… – Луиза сокрушенно качала головой.
За продолжением разговора в беседке Петр следил с напряжением, всё больше чем-то пораженный.
– Эта русская игра заключается в том, чтобы спросить кукушку, сколько человеку осталось жить. Сколько раз прокричит – столько лет и осталось… Повторяй за мной: кукушка-кукушка, сколько мне жить осталось? – Луиза подала пример.
Со стороны холмов почти сразу послышались отдаленные крики кукушки.
– Всего три раза! – встрепенулся Мольтаверн. – Что-то маловато.
– Ты за меня не переживай! Ты про себя спроси. Ну?
Мольтаверн медлил. Чувствуя, что забава к добру не приведет, он не хотел пасть лицом в грязь, но в то же время хотел угодить и, словно нерадивый ребенок, который не осмеливается идти наперекор до конца, странным голосом пробурчал:
– Кукушка-кукушка, сколько мне осталось?
Ответа не было.
– Громче надо спрашивать, сонная ты тетеря! – отругала его Луиза, и в тот же миг раздался один-единственный крик кукушки. – Всего один! А говоришь, маловато… Вот тебе и вечная жизнь! Еще раз попробуй! Ошибка, наверное.
– Кукушка-кукушка, – проговорил Мольтаверн уже нараспев. – Сколько мне осталось жить?
Луиза подняла в воздух указательный палец. Петр вслушивались вместе с ними. Кукушка опять прокричала всего один раз.
– Слышишь, всего один год?! Ну, Леон! Готовься к бане. Один год как миг пролетает, глазом моргнуть не успеешь…
После обеда Петр унес поднос с кофейником в свою рабочую комнату и сидел в кресле перед окном, просматривая альбом о местной флоре и фауне, чтобы научиться, если случай представится, отличить кукушку от перепела, а ими кишела, как он слышал, вся округа.
С радостным недоумением он открывал для себя, что эта птица ведет паразитический образ жизни, всегда приживается в чужих гнездах. Серую европейскую разновидность кукушки cuculus canorus из-за горизонтальных полосок на груди якобы путают обычно не с перепелами, а с ястребом-самцом. Что же касалось знаменитых криков этой птицы, раздающихся над лесом, то издавали их, как оказывалось, самцы, а не самки…
На пороге появилась Луиза. Она была босиком и в одном белье.
– Я забыла купить сигареты. Пошлем Леона?.. У-у, да у тебя здесь… как у черта за пазухой! – проговорила она, замечая, с каким комфортом он расположился возле книжного шкафа с включенным радиоприемником.
– Посиди со мной, – предложил Петр. – Ты кофе уже пила?
– Леон принес наверх чашку.
– Скажи мне… там, наверху, ты его принимаешь в таком виде? – поинтересовался Петр. – Не совестно тебе, Луиза?
– Да он внимания не обращает.
– Зря ты так думаешь. Я же вижу, какими глазами он на тебя смотрит. Демонстрировать перед мужчиной лучшие части своего тела… Нужно понимать такие вещи.
– Да какой он мужчина!
– Ты ведь знаешь, что я прав, – упрекнул Петр, не отрывая глаз от альбома. – И сама это замечаешь.
– Ну, хорошо, хорошо! Я скажу ему, чтобы он отворачивался, когда я прохожу мимо.
Заложив страницу книги засушенным листком платана, Петр поднял на нее глаза и вдруг понял, что просит ее о чем-то невозможном. Он не пользовался у нее ни малейшим авторитетом. В глубине души он был даже рад своему наблюдению – аналогично тому, как бывал иногда рад за Мольтаверна, замечая в его поведении нормальные, свойственные обычным людям реакции. Сам факт, что Луиза могла приводить того в смущение и что тот не мог оставаться к ней равнодушен – такая реакция казалась Петру вполне здоровой. Какой нормальный мужчина смог бы реагировать по-другому? Эта мысль даже вселяла уверенность, что в жизни Мольтаверна всё еще поправимо. Петр видел в этом собственную заслугу. И оптимизм опять переполнял его.
Вернувшись в середине марта из отпуска, Шарлотта Вельмонт обратилась к Петру с новой просьбой. Он мог бы оказать ей большую услугу, если бы согласился помочь в ведении двух не связанных между собою дел. А уже при встрече Петр был вынужден констатировать, что Вельмонт не рассталась со своими прежними иллюзиями на его счет. И то и другое дело были в духе ее прежних поручений. Вельмонт всерьез надеялась его уговорить…
Встреча произошла в городе, неподалеку от ее офиса, в уже знакомом ресторане. Вельмонт удивляла своим видом. Новая прическа. Новый наряд, пара из серой фланели, на ней сидел несколько чопорно. Заметно похудевшая, с втянувшимися щеками, она выглядела свежей, помолодевшей, и в этом было что-то неожиданное.
Заказав себе один зеленый салат, сыр, бутылку воды, но не отказавшись, как еще недавно, от вина, Вельмонт тараторила обо всём подряд: о своем отдыхе, проведенном в Альпах, где она каталась на лыжах, о замысловатой операции по удалению опухоли, которую перенес ее бедлингтон-терьер, о судебном разбирательстве, наделавшем шума в Германии, которое грозило, по ее мнению, расшевелить мозги законодателям и во Франции…
Петр кивал, сморкался в белый носовой платок, извинялся за насморк – вторую неделю он ходил с недолеченной простудой, – на что Вельмонт разразилась шквалом рекомендаций: советовала бросить, как и она, курить, принимать по утрам поливитамины, пить минеральную воду, не меньше чем по два литра в день. При этом она не переставала скользить по нему быстрым, внимательным взглядом.
– Попало ко мне одно дело… к сожалению, с запозданием. Девятнадцатилетнюю девчонку привлекают по совершенно ужасному делу.., – перешла Вельмонт к сути дела. – Подождите, сейчас поймете, что всё это не так старо, как мир, – заверила она, уловив на его лице какую-то тень. – На редкость привлекательной внешности, почти сирота. Послужной список длиннющий: проституция, наркомания, за что давно состоит на учете. Мать, профессиональная проститутка, часто меняла сутенеров. Так что девчонка много чего повидала на своем веку. Один сожитель матери выставил ее из дому в двенадцать лет. Другой пытался изнасиловать, искромсал ей бедро кухонным ножом. Третий колошматил, и мать и ее, до потери сознания. А в прошлом году бедняжка дошла до того, что уговорила друзей, знакомую шпану, устроить темную очередному покровителю мамы. Банда подловила сутенера на улице, его скрутили, затолкали в машину, привезли в загородный подвал, и девчонка измывалась над ним всю ночь с паяльной лампой, добиваясь, чтобы он вернул пять тысяч франков, отобранные у матери. Сами понимаете – грязь непролазная… Следствие проходит вяло. Кому хочется ее преследовать? Но суд, конечно, состоится, и приговор будет. При нормальной защите девчонка отделается минимумом… Что еще сказать? Суд на следующей неделе, как раз в Версале… Вы можете взять дело?
Помолчав, Петр поморщился:
– Почему вы мне предлагаете?
– Не попадаю на слушание, долго объяснять… Больше некого попросить.
– Вы валите всё в одну кучу… Лыжи, паяльная лампа, пытки… Как можно помочь человеку в считаные дни?
– Возьметесь или нет?
– Она под арестом?
Вельмонт кивнула.
– Досье хорошее… Я всё подготовила, – заверила она и, сама себе подлив вина, всматривалась в Петра каким-то новым взглядом; после чего столь же внезапно, как начала этот разговор, перешла к другой теме: – Как у вас с Жоссами? Что там нового?
– Да ничего. Всё так же.
– А ведь вы обещали… обещали держать их в курсе, – упрекнула Вельмонт. – Они звонят мне, интересуются. Вас донимать стесняются. Догадываются, конечно, что вы к ним пылких чувств не питаете. Ну да бог с ним… Я хотела вас попросить вот о чем. Жоссы периодически участвуют в перепродаже ценных произведений искусства. В основном антиквариат, фигуратив, классика. Бывает – и современное искусство, но реже. Такими перепродажами занимаются многие владельцы галерей. Так им удается свести концы с концами, выставлять современных художников… Так вот, они попали в дурацкий переплет…
Вельмонт стала излагать запутанную историю. Проворачивая недавно обыкновенную «операцию» по купле-продаже, пара погорела на кругленькую сумму, доверившись знакомому, который выступал в роли доверенного лица. Знакомый оказался профессиональным аферистом. Американский подданный, состоявший в браке с внучатой племянницей одного из бывших президентов, Арчи Котсби разъезжал будто бы по всей Европе, жил с размахом. До того, как всё случилось, у Жоссов будто бы не было причин ему не доверять: несколько совместных сделок прошли удачно. При участии американца Жоссы готовили очередную посредническую сделку по продаже небольшого, но дорогостоящего рисунка Пуссена. Сделка провалилась. И с тяжелыми для них последствиями. Рисунок принадлежал швейцарскому коллекционеру и хранился в Женеве. Интерес к работе проявляли во Франции, с целью последующей перепродажи в Японии. Как только удалось достигнуть предварительной договоренности о покупке, американец доверил рисунок Жоссам, которые должны были показать его своему покупателю. В залог Жоссы оставили американцу чек на сумму в два миллиона франков, что составляло лишь незначительную часть от полной цены, которую просили за рисунок. Такая практика, хотя и не совсем законная, существовала повсюду и считалась общепринятой… В результате многодневных переговоров сделка в конечном счете провалилась. Жоссы вернули рисунок владельцу. Выписанный в залог гарантийный чек подлежал уничтожению – так это обычно происходило. Но они не удосужились проверить, уничтожен ли чек, постеснялись попросить Котсби сделать это в их присутствии, положились на его обещание. И вот, не прошло и месяца, как чек был предъявлен американцем к оплате, в самом что ни на есть законном порядке, через свой банк. Хотя американец конечно же не рассчитывал на то, что чек окажется необеспеченным. Он принимал Жоссов за людей состоятельных, а сами они эту легенду подогревали всеми силами из деловых соображений.
Далее история Вельмонт становилась уже совсем темной. Котсби, американец, имея, видимо, связи во французской полиции, нашел способ оказать на Жоссов давление. Да не просто давление. Ранним утром к Жоссам домой ворвалась бригада полицейских в штатском, которые перевернули верх дном весь дом. Затем обоих увезли в город для проведения обыска уже в галерее. К концу дня Сюзанну Жосс доставили в наручниках в участок – на чеке стояла ее подпись – и освободили только ночью после вмешательства Шарлотты Вельмонт. Однако палку полиция перегнула явно неспроста…
Давая Вельмонт высказаться и тем временем припоминая подробности своей первой встречи с парой, когда, приехав для знакомства с Мольтаверном и не застав хозяев дома, он был вынужден сидеть и ждать их в окружении домочадцев, вздрагивая от воплей попугая, оравшего человеческим голосом, – припоминая эту атмосферу какого-то коллективного помешательства и свои первые впечатления от крохотной докторши в мини-юбке и от ее молчаливого, худосочного мужа, предложение Вельмонт Петр спокойно, но с твердостью отклонил.
Она как будто бы не удивилась его реакции, но не могла скрыть досаду и замолчала. Он стал объяснять, что не может быть настоящим помощником в таком деле. На его взгляд, здесь нужен опыт, чем он не мог похвастаться. Подобные дела, если они и попадали в кабинет, их поручали Фон Ломову или, на худой конец, Клаудиусу.
Но Вельмонт и не думала сдаваться. Будучи в курсе того, что в кабинет и по сей день поступают дела, связанные с авторским правом – сам же Петр и говорил ей об этом, – она попросила поговорить с компаньонами и поспешила сразу пролить свет на вопрос с оплатой. Дело Жоссов не имело отношения к деятельности ее ассоциации. Поэтому услуга должна была оплачиваться как обыкновенная адвокатская работа.
В тот же день вечером, перейдя после ужина с Луизой из столовой в гостиную, чтобы дать Мольтаверну убрать со стола, Петр просматривал папку с делом, переданным ему Шарлоттой Вельмонт, время от времени недовольно мотал головой и вслух делился своими впечатлениями:
– Непостижимо!.. В двенадцать лет собственная мать выставила за дверь! А затем заставляла терпеть ухаживания всяких дальнобойщиков… Ты можешь себе представить? А еще раньше отчим укладывал спать с собой в постель… Вроде бы ничего нового, всё известно, а всё же странно думать о таких вещах. Я хотел сказать, страшно.
Луиза не оторвала глаз от сборника рассказов Карвера, с которым не расставалась второй вечер.
– Как зовут несчастную? – спросила она.
– Девчонку?.. Ее зовут Шарлей.
– Это еще что за имя?
– В простых семьях иногда дают детям имена голливудских звезд.
– Фотографии нет у тебя? – спросила Луиза, подставив голые пятки поближе к камину.
– Девочки?
Петр протянул ей два крупных, в страницу, черно-белых снимка, которые как раз разглядывал, удивляясь тому, что Вельмонт позаботилась даже об этом – о качественных фотографиях. На одном из снимков большеглазая, лет четырнадцати, но быстро повзрослевшая девушка, одетая в дамское платье, сидела на траве, обняв себя за колени. На другом снимке она была заснята крупным планом, с косящими в сторону смеющимися глазами.
– Ничего себе… Да она же красавица! Это ее ты собираешься защищать? – изумилась Луиза.
– Ну да.
– И когда это будет?
– Суд?.. В среду.
– Я пойду с тобой.
– Не знаю, возможно ли. – Петр медлил. – Зачем тебе в суд?
– Пэ, ну пожалуйста! Я ведь в жизни не видела, как это происходит. – Отложив книгу, сев в кресло с ногами, Луиза впилась в него умоляющим взглядом.
– Что ты там увидишь? Я же тебе всё рассказал.
– Она такая… Такая странная история. И на тебя заодно полюбуюсь… Мне ужасно хотелось бы, Пэ. Я же никогда еще тебя не видела в этом наряде. Вы же там в черные мантии одеваетесь, правда?.. У меня в среду свободный день. Ты обещаешь?
– Не обещаю, но посмотрим, – сказал он, понимая, что это желание должно, скорее всего, развеяться к среде само собой.
Какое-то время они молчали.
– Мне всё же бывает так странно иногда, так непонятно.., – нарушила молчание Луиза.
– Что, Луизенок?
– Скажи, только честно, Пэ… Ты в Бога, конечно, не веришь. Я имею в виду в такого, который сидит на облаке или на троне, как Нептун с трезубцем. Но в какую-то силу, во что-то высшее, разумное?
Оторвав лицо от бумаг, Петр уставил на нее неуверенный взгляд. Аналогичный вопрос, или буквально тот же самый, он на днях уже слышал, но не мог вспомнить, где именно.
– Просто в силу не верю, – ответил он. – А в Нептуна… Если честно, не знаю. Но если я говорю себе, что Его нет, всё кажется бессмысленным… слишком мелким, что ли, одноразовым. – Он усмехнулся и замолчал.
– Значит, веришь, – заключила Луиза и, встрепенувшись, погрозила пальцем: – Скажи мне тогда, почему у одних людей есть все, а у других ничего? Ну вот посмотри на эту Шарлей на фотографии. Чем она хуже меня? Ему это что, безразлично? Это же несправедливо! А если он нас так любит, почему он допускает такую несправедливость?
Петр отложил папку в сторону и с какой-то неловкостью за необходимость отвечать на такой вопрос раздумывал.
– Не думаю, – сказал он. – Я не думаю, что Ему безразлично. Просто то, что мы считаем для себя несчастьем, бедами, не есть, наверное, несчастье в действительности.
– А что же это тогда?
– Наоборот – благо… – Он пожал плечами. – Но это трудно понять. Трудно этим проникнуться. Ну что мы себе обычно желаем? Всегда чего-то вещественного, чего-то ощутимого или даже плотского.
– Необязательно.
– Да, необязательно, – согласился он. – Но всё равно мы не можем понять. Нам мешает оболочка… всё то, что мы имеем.
– Значит, то, что какие-то дальнобойщики насилуют в двенадцать лет эту Шарлей – это для нее благо? Так получается?
– Мне это так же трудно понять, как и тебе, Луизенок, – сказал он после некоторого молчания. – Вроде бы нет, невозможно. А выходит, что да. Но как можно судить об этом сегодня? Такие вещи нужно рассматривать в протяженности всей жизни человека. Может быть, через десять, двадцать или тридцать лет ей всё зачтется.
На пороге гостиной появился Мольтаверн.
– Я там липу заварил. С медом принести или так?
– Леон, ну что ты постоянно пристаешь со своей заваркой?! – вспыхнула Луиза. – Не видишь, что люди разговаривают?
– Луиза! – попытался удержать ее Петр.
Но Мольтаверн уже успел обидеться и вразвалку поплелся к себе наверх, за рукав схватив со стула свитер цвета морской волны…
Намерение Луизы попасть на слушания в ней так и не перегорело, и Петр был вынужден взять ее в среду с собой в Версаль.
Начало судебного заседания было назначено на полдень. Они приехали к одиннадцати. Уже недалеко от входа в суд он усадил ее за столиком кафе, заказал ей двойной кофе с молоком и объяснил, как затем пройти в нужный зал. Сам же он, не теряя времени, отправился на встречу со своей подопечной, которая по его просьбе была доставлена из изолятора в суд с часовым запасом времени. В присутствии девушки он хотел просмотреть ее досье в заключительный раз, чтобы согласовать последние детали.
Едва ли Петр был поражен видом своей клиентки. Но в его лице всё же появилась тень озадаченности, когда ее ввели в комнату, отведенную им для беседы. Рассчитывая увидеть перед собой приблатненную девушку-подростка, лишенную, как бывает, собственного я, раздавленную тяготами своего положения или изображавшую из себя, что тоже нередкое явление, несчастного ребенка, попавшего в руки безжалостных взрослых, Петр увидел перед собой молодую женщину в скромном приличном платье. В руках – сложенный жакет. Слегка накрашенные губы, несколько детское выражение прилежания на лице, которое бросалось в глаза и на фотографиях, недоверчивый взгляд. В синих, упрямых глазах, с ходу провоцирующих на откровенность, отчетливо проглядывал тот беззастенчиво-наивный блуд, который поражает иногда в подростках. Впрочем, поражало Петра другое – насколько блудливый взгляд девушки напоминал ему некоторые выражения лица Луизы…
Заседание длилось полтора часа. И всё произошло именно так, как он планировал. Приговор не стал сюрпризом. Клиентка отделалась не столь символическим сроком, как ей хотелось бы: три месяца тюремного заключения, с условным отбыванием оставшегося срока до наступления совершеннолетия. На деле это означало, что девушке придется вернуться в стены камеры. Но, поручая Петру дело, Вельмонт на большее не рассчитывала…
В момент объявления приговора Петр заметил, что Луиза, сидевшая в одном из дальних рядов полупустого зала, пребывает под сильным впечатлением от происходящего. Вид у нее был растерянный или даже потрясенный. Он вдруг пожалел о том, что взял ее с собой. Мрачное выражение не сходило с лица Луизы весь день.
Вечер прошел на Аллезии. В этот день Петр помог Луизе перевезти из антикварного магазина небольшой секретер, купленный матерью, который та поручила ей забрать и временно подержать у себя. И уже дома Луиза приняла решение в Гарн не ехать. С утра ей всё равно нужно было идти на занятия. Они спустились поужинать и уже в ресторане заговорили о прошедшем суде.
– Я никогда не видела тебя таким… таким важным. Нет, правда, Пэ… Ты был – класс! В этом черном балахоне… А она… Говорят, что в курятнике так всегда происходит.., – пыталась Луиза объяснить что-то непонятное. – В курятнике пощады не дождешься. Стоит одной курице заболеть, захромать, как все набрасываются на нее и заклевывают. Вот как мы живем! Она так была похожа на больную курицу, Пэ… видел бы ты со стороны!
– А я тогда на кого? – спросил он, радуясь ее оживлению. – На драчливого петуха?
– Да, было что-то от петуха… Как ты точно заметил! Только не от драчливого. Ты как-то странно топчешься, когда разглагольствуешь на публике.
Петр кивнул, пытался что-то припомнить, после чего с грустью добавил:
– Да, удивительно. Многим кажется, что если женщина наделена внешностью, то она не пропадет, что ей… как бы это сказать?.. Больше дано шансов. А видишь, что получается. То, что происходит в реальном мире, иногда даже трудно придумать. Мир гораздо беспощаднее, чем мы думаем… Да что мы о нем знаем? Что я о тебе знаю? Что ты знаешь обо мне? – рассуждал он уже шутливым тоном, следя за ее реакцией смеющимся, совсем другое выражающим взглядом. – Ну, скажи, Лисенок?.. Так вот и со всеми, наверное.
– Да, ты прав, – согласилась она с серьезностью. – Я об этом часто думаю. Что я про тебя знаю?
Внутри у него дрогнула какая-то струнка. Петр сделал вид, что не понял сказанного.
– Ну, кроме того, что живем вместе.., – продолжала Луиза развивать тему. – Спим вместе, занимаемся всякими упражнениями, как в индийских брошюрах… А потом что? И страшно, знаешь, и тошно становится.
– Зачем ты так? – Чем-то вмиг напуганный, Петр даже отпрянул. – Это ведь разные вещи.
– Сам же только что сказал! Скажи мне… – Луиза в нерешительности медлила. – А нельзя для нее что-нибудь сделать?
– Для девчонки?
– Да! Что обычно делают?
– Не знаю… – Петр чувствовал, как его наполняет теплая волна благодарности. – Что же ты можешь сделать, душа моя?
– Какую-нибудь новую жалобу нельзя подать? Ведь не могут же они так…
– Это невозможно, – вздохнул он и продолжал изучать ее умиротворенным взглядом. – Всё закончилось не так плохо, поверь мне.
– Или послать ей что-нибудь… Посылку, например, или немного денег? Всё это, конечно, ерунда, но всё-таки? Кто-то вроде позаботился, понимаешь? Как только я пытаюсь встать на ее место, мороз так и дерет по коже.
– Денег? – переспросил он, подняв на нее удивленный взгляд. – Конечно можно. Но что это изменит?
– Да ничего не изменит! Но ты же понимаешь…
– Ты действительно хочешь, чтобы я это сделал? – спросил Петр.
– Пожалуйста, Пэ. Пошли! – взмолилась Луиза, вдруг сияя всем лицом. – Мы вместе это сделаем! Немножко, символически… Мне как-то тяжело обо всём этом думать. Дурно становится. Ну, понимаешь? Если бы я там, на суде, не присутствовала – это было бы другое дело. А я была, видела. Это уже не где-то там, за облаками… Ну как объяснить?
– Я понимаю, – сказал он.
– Какое-то гадкое, гадкое чувство… – Луиза показала себе в живот. – А мы сидим в ресторане и набиваем себе кишки всякой дрянью…
На следующий день Петр послал своей подопечной почтовый перевод, равный по сумме небольшому, но всё же причитавшемуся ему за работу гонорару, приложив к нему пятьсот франков, добавленные Луизой из своих личных денег. Луиза сопроводила свой жест короткой запиской:
«Дорогая Шарлей! Мы с вами не знакомы. Но адвокат, который защищал вас на суде в среду, он мой друг. Вместе с ним мы и решили послать вам эту скромную сумму. Мы в этих деньгах не нуждаемся. Примите их просто. Я всем сердцем с вами. Крепитесь, всё будет хорошо. Всего вам самого лучшего, Л. Б.»
Первые эмоции в адрес отца в Луизе вскоре перегорели. Уже по истечении нескольких дней все разговоры на эту тему и недомолвки стали ей казаться преувеличением. Зачем делать из мухи слона? Уже сами факты, инкриминируемые отцу, выглядели неправдоподобными или, во всяком случае, недостаточно весомыми для того, чтобы напрямую влиять на отношения между ними.
Отношения с отцом вернулись в прежнее русло. Но в них не было былой непосредственности. Прежняя растерянность захлестывала Луизу не меньше, чем прежде, и по-прежнему заставляла леденеть от своих сомнений. Больше всего сегодня удивляло то, что между ними появилась какая-то необъяснимая двусмысленность или даже фальшь. Луизе казалось, что отношения с отцом теперь подчиняются каким-то зыбким, невидимым ограничениям и что она вынуждена принимать чуть ли не меры предосторожности, чтобы не выйти за их рамки. Как это произошло? В какой момент? Кем эти ограничения были навязаны и для чего?
Разобраться в себе ей не удавалось. Хотелось поговорить с Петром, он худо-бедно понимал, что происходит. Но она откладывала этот разговор со дня на день, чувствуя, что всё еще не находит в себе нужных слов, чтобы объяснить всё то, что творится у нее на душе.
Безотчетность и противоречивость чувств к отцу тем временем повергали ее буквально в ступор перед принятием самых простых решений. А в какой-то момент путаница срослась в такой комок, что ей уже не верилось в возможность его распутать. Первое время мучило отвращение к нечистоплотности, к грязи, как ей чудилось, которую подразумевала под собой двойная жизнь отца. Чувство отвращения усугублялось еще и от смутного страха стать жертвой предательства, на которое близкий человек, казалось бы, не способен. Это был страх (и даже он казался немного предательским) лишиться той невидимой опоры своего существования, возможности опираться на естественное, казалось бы, ничем не обусловленное единство, существующее между близкими, чему они не придают значения, пока не получают как следует по голове, пока до них не доходит, что лишиться всего этого проще простого. Но в душе как-то не приживалось, не находило себе места сделанное Луизой открытие, что жизнь других людей, являющихся частью этого единства, тех, на ком держится кажущаяся гармония, в подчинении которой до сего дня протекала жизнь каждого из них, не ограничивается общими для всех интересами. Жизненные интересы у всех, оказывалось, свои. Каждый жил, оказывалось, своей жизнью. Ничего удивительного в этом вроде бы не было. И тем не менее какая-то прежняя правда о жизни, более непосредственная, чистая, оказывалась сведенной тем самым на нет. Всё разом превращалось в фикцию. Всё вдруг казалось каким-то примитивным и жестоким обманом.
И уже позднее, когда буря в душе утихала, верх в сердце брали, как всегда, не эмоции и не требования рассудка, а безрассудная внутренняя потребность верить в лучшее, на чем, вероятно, и зиждутся отношения между людьми вообще, не только близкими. Изначальная непримиримость уступила место всепронизывающей жалости к родителю. Неотвязные мысли о том, что он не может не страдать от тех же противоречий и от тех же сомнений, примиряли с отцом, а заодно и с грязноватой прозой жизни, с собой.
Отец сильно изменился. Это бросалось в глаза даже в его внешности. Он стал больше прежнего хлопотлив, проявлял болезненную щепетильность по каждому пустяку, завел привычку звонить ей чуть ли не каждый день, внезапно повысил ей содержание. Уже в третий раз отец переводил на ее счет в Париже вместо восьми тысяч, как делал прежде, двенадцать тысяч франков. И как Луиза узнала от брата – с приездом матери к нему в США брат тоже стал ей иногда звонить, – отец повысил содержание и ему.
Не совсем понятным оставалось отношение отца к Петру. Отец не переставал о нем расспрашивать. Но в тон вкрадывалась какая-то настороженность. Ворвавшись в жизнь Петра со своими домашними дрязгами, отец почему-то не считал нужным объясниться с ним теперь, после того, как всё утихло. Луизе иногда казалось, что, проявляя нерешительность или даже малодушие, – раньше этого за отцом не водилось, – он просто ждал, что она возьмет эти объяснения на себя. Поведение отца могло объясняться и тем, что он начинал догадываться, какие отношения связывают ее с дядей, и что он просто не знал, что делать в этой ситуации. Но эта мысль Луизе казалась невыносимой…
Когда в конце марта отец неожиданно вернулся к своей старой и, казалось бы, похороненной идее купить ей в Париже квартиру, раз уж появилась очередная возможность, Луиза приняла эти разговоры поначалу в штыки.
Дальний родственник отца по матери, его троюродный дядя, живший в Париже и имевший какое-то отношение к полиграфической промышленности, собирался продавать свои апартаменты на улице Нотр-Дам-де-Шам. Из-за многолетней, не поддающейся лечению астмы большую часть года ему приходилось проводить в Бернских Альпах, неподалеку от Интерлакена. И теперь он намеревался приобрести в тех краях постоянное жилье, чтобы больше не тратиться на аренду. С этой целью он планировал расстаться с квартирой в Париже.
По словам отца, квартира находилась в прекрасном районе, в двух шагах от бывшей мастерской Фернана Леже. Закрытый тихий дворик. Новое, небольшое четырехэтажное здание, построенное лет двадцать тому назад, но вписывающееся в стиль близлежащих старых строений. Терраса, две спальни, большая гостиная с двойной высоты потолками за счет убранного когда-то межэтажного перекрытия – просторное, полное удобств, первоклассное городское жилье. Родственнику принадлежала еще и часть крыши здания, где он устроил настоящий цветник. Цена квартиры переваливала за два миллиона. Но, по утверждениям отца, последнее слово оставалось за покупателем, то есть за ними. При соблюдении кое-каких условий родственник готов был снизить цену процентов на десять.
Луиза не понимала, из каких средств отец собирается раскошелиться на подобное приобретение. Ведь еще вчера, на день отъезда матери в Нью-Йорк, та не знала, где взять деньги на билет и на пропитание. Объяснения отца, что необходимая сумма может быть получена с продажи принадлежавших семье акций дочернего парфюмерного предприятия, которое приносило будто бы одни убытки и закрытие которого было якобы не горем, а спасением, звучали неубедительно уже потому, что мать всегда противилась «разбазариванию» тех средств, которые ей самой достались в наследство.
Как бы то ни было, казалось очевидным, что отец решил сделать широкий жест. Одним махом он хотел поправить свою репутацию, вернуть себе утраченную роль главы семьи. Тем труднее, однако, было его отговаривать.
Когда мать в очередной раз позвонила, Луиза поделилась с ней новостями насчет квартиры.
– Пусть покупает, конечно… Ты же не будешь жить вечно по квартирам родственников. – Мать с ходу всё одобряла, но с некоторой медлительностью, с заметным безразличием. – Нужно устраивать свою жизнь, Луиза… Не забывай об этом, ради бога… А что за квартира? Ты ее видела?
– Гигантская, как я поняла. Терраса, крыша… Ну знаешь, с собственным выходом наверх. На крыше оранжерейка – на велосипеде можно кататься.
– Обязательно сходи посмотри. А потом расскажешь… До моего возвращения это не может подождать?
– По-моему, нет.
– Луиза, ты же у меня взрослая девочка… Да или нет? – заговорила мать тем голосом, который обычно брал дочь за живое. – Так вот и прими решение самостоятельно. Тебе ведь там жить. А потом разберемся, что к чему…
Когда Петру стало известно о затее Арсена с квартирой, он занял позицию выжидательную. Недоумение вызывала не только горячка, с которой Арсен взялся провернуть сделку с недвижимостью. Даже если к делу и можно было относиться как к обыкновенному капиталовложению: покупка квартиры в этом смысле никого ни на что не обязывала, неожиданными были бы разве что растраты в счет общего имущества, которое еще вчера все собирались отвоевывать друг у друга через суды. Этот аргумент не имел в глазах Петра достаточного веса и по другой причине: будучи дельцом-профессионалом, Арсен умел размещать избыточную ликвидность во что-то более доходное, чем квадратные метры жилплощади.
Казалось непонятным, почему Арсен, добровольно затронув эту тему во время их прошлой встречи, вдруг перестал посвящать его в свои планы. Ведь он не мог не понимать, что всё, что связано с Луизой, отныне касается его непосредственно. Еще большее удивление вызывал тот факт, что Арсен в начале апреля наведывался в Париж и вместе с Луизой ходил осматривать квартиру на Нотр-Дам-де-Шам, но во время этой побывки даже не удосужился дать о себе знать.
Луиза уверяла, что не смогла предупредить о приезде отца. Тот нагрянул будто бы как снег на голову. Приезд выпал как раз на те дни, когда сам он оставался в Версале допоздна, работая над срочным досье, и они не виделись три вечера подряд. Она уверяла, что отец провел в Париже всего два дня и что он с утра до вечера пропадал по своим делам, прежде чем уехать в Бельгию. Объяснение звучало неубедительно: она сообщила об этом с недельным запозданием…
Квартира понравилась Луизе с первого взгляда. Высотой стен, застекленным потолком в главной комнате, белизной панелей, планировкой, чистотой и особенно современной комнатной печью с никелированным дымоходом, которая была установлена прямо посредине гостиной и в окружении диванов выглядела не просто уютно, а впечатляюще – прямо как за городом, а не в городской квартире. Да и к интерьеру руку приложил дизайнер-профессионал.
Всё решилось в считаные часы. Однако квартиру решили не покупать, а пока лишь снять ее, уже с текущего месяца, подписав договор на годичный срок, с тем чтобы Луиза пожила здесь какое-то время и осмотрелась, прежде чем придется принять окончательное решение.
В считаные дни были улажены формальности, Брэйзиер выделил дочери бюджет на покупку мебели, если ей захочется что-то сменить; до принятия ими окончательного решения родственник ограничился вывозом библиотеки и ценных вещей, всё остальное он оставил в пользование. И уже через неделю был назначен день для переезда на новое место…
Луиза предпочла приурочить переезд к субботе. Отец не мог задержаться в Париже до этого дня. И Петр пообещал взять на себя главные хлопоты. Но после отъезда отца Луиза отговорила Петра от участия в перевозе вещей. В его помощи больше не было необходимости. Американец МакКлоуз пообещал привести целую бригаду друзей и знакомых…
Дожидаясь прихода МакКлоуза, который пообещал взять напрокат мини-фургон и приехать с обещанными помощниками, Луиза открыла окна, обложила подоконник подушками и, забравшись на него с ногами, листала томик Мишимы, на днях подаренный одним из друзей американца. Поминутно отрываясь от книги, она спускалась босыми ногами на паркет, что-то вновь перекладывала и перепроверяла, опять крошила остатки белого хлеба голубям, которые целой стаей осадили соседский балкон.
Утро выдалось теплое, солнечное. Уезжать никуда не хотелось. И тем более очевидным казалось, что переезд не нужен, затеян зря. Еще с вечера ее одолевали сомнения. И не только в переезде. Путаница с отцом, с Петром, с друзьями, которые вечно чего-то не могли поделить, – всё это отравляло жизнь, а не только настроение. Думать обо всём этом не хотелось. Хотелось просто сидеть не двигаясь на солнце и смотреть в открытую книгу. Но читать тоже не получалось. Не удавалось запомнить содержание прочитанной страницы. Когда в дверь наконец позвонили, Луиза испытала некоторое облегчение.
На пороге вырос Робер. Уже по одному выражению его лица не трудно было догадаться, что он пришел раньше всех не просто так.
Луиза вернулась к окну, забралась на прежнее место и, не удостаивая гостя вниманием, стала что-то быстро штриховать карандашом в блокноте.
Разглядывая приготовленные для вывоза вещи – чемоданы, коробки, чехлы с одеждой, мелочи из мебели, сдвинутые к передней, – Робер прошелся по квартире. После чего решил приготовить себе кофе. Казалось, что он просто хочет удостовериться, что, несмотря на грядущие перемены, всё оставалось между ними по-старому, что перемена не упраздняет его прежних прав и привычек.
Робер внес в комнату поднос с чашками, опустился в свободное от вещей кресло, отшвырнул в угол чьи-то валявшиеся мокасины и, потрепав листья высокой, безжизненно обвисшей монстеры, томным голосом спросил:
– Цветы ты разве оставляешь?
– Там их целый ботанический сад. Если хочешь, забери себе, – ответила Луиза, не отрывая глаз от блокнота. – Где застрял МакКлоуз? Скоро двенадцать…
– В прокате теперь всегда надувают. Не хватило машин, и морочат ему голову.., – высказал Робер злорадное предположение и, ударив кулаками по пухлым подлокотникам, прошелся взглядом по ее голым икрам. – А может, пробки в городе. Вообще жалко, что ты съезжаешь. Я любил эту квартиру. Целая эпоха для нас обоих.
Метнув в гостя презрительный взгляд, Луиза предпочла не отвечать.
– Да, представь себе… Мне грустно до слез. – Робер сцепил пальцы рук на животе и шнырял глазами по груде вещей. – Нет, скажешь? Было время, когда мы все…
– Давай о чем-нибудь другом…
– О чем о другом?
Луиза нахмурила брови и молчала, понимая, что Робер опять добивается своего, пытается «вывести ее на чистую воду», как он выражался, внушив себе, что последнее время она живет в чем-то мутном и небезвредном для нее, вплоть до ее здоровья. Уже на протяжении нескольких месяцев каждый раз, когда они оставались наедине, Робер не мог говорить ни о чем другом.
– Ты хочешь сказать, что было время, когда все мы спали кучей вот в этой постели? – с раздражением уточнила Луиза. – Что было, то прошло… Время групповухи прошло, Робер. Всё однажды проходит. И пора привыкнуть. Ну вот, смотри, что получается: ты приходишь ко мне, я тебе рада, а чем ты платишь? Опять и опять за свое. Как надоело, знал бы ты! Как надоело…
Стараясь не уронить своего достоинства, Робер вынул из кармана пачку «Кэмела» без фильтра, выудил короткую сигарету, постучал ею о помятую пачку, немного удивляя своей жестикуляцией, да и тем, что собирался курить, – до сих пор он был некурящим.
– Какой ты ребенок.., – произнесла она.
– Ты очень, очень изменилась, – произнес Робер. – Да, Луиза. С тех пор как твой дядя-розовод…
– Вот на этом стоп! Остановись, пожалуйста, и больше ни слова! – пресекла Луиза; она свесила ноги с подоконника и, исподлобья уставившись на гостя, проговорила: – Ты за этим и явился?.. Я тебе не позволяю смаковать эту тему, слышишь? Если ты хочешь, чтобы мы остались друзьями, Робер… Хочешь или нет?
Робер вроде бы не обижался. Неопределенно поведя головой, он размял шею и вдруг на глазах помрачнел.
– У тебя нет зажигалки? – спросил он.
Она соскочила с подоконника, стремительно прошлепала ногами на кухню и вернулась в комнату с большим коробком хозяйственных спичек:
– На, кури на здоровье! И, пожалуйста, я тебя прошу, Робер, хватит! Ты ведь близкий мне человек… – Она умоляюще наклонила голову. – А кроме этого, ты, между прочим, еще и мужчина. Это тоже немного обязывает.
– Этого ты как раз и не понимаешь, – пробормотал Робер невнятным баском. – Луиза! – провозгласил он, задыхаясь от дыма, не то от наплыва бурных чувств.
– Ну что – Луиза? Что – Луиза?
Резко подавшись вперед, Робер ухватил ее за голые бедра, силой привлек к себе и уткнулся лицом ей в пах.
Чувствуя, как его рука всё выше подбирается по ее бедру под юбку, Луиза оставалась неподвижна, а затем, налившись холодной яростью, сдавленным голосом процедила:
– Убери сейчас же свои лапы… дурачок!
Робер замер и, еще крепче вцепившись в ее ягодицы, вдруг разразился рыданиями. Луиза сбросила с себя его руки, отскочила в сторону и вне себя от ярости проговорила:
– Я тебе запрещаю! Ты понял? Чтобы это было в последний раз! В следующий раз…
Не пряча лица, по которому скатывались крупные, мутноватые слезы, Робер откинулся на спинку кресла, вцепился кулаками за подлокотники и бормотал:
– Луиза… я ведь ничего, ничего от тебя не хочу. Только…
– Только что? Затащить меня в постель?.. Время от времени? По старой дружбе – это ты хочешь сказать?
– Нет, ты не понимаешь…
– К чему тогда эти лапания? Почему ты меня доводишь? Робер, ты прекрасный парень. Но я… я больше не отношусь к тебе как к мужчине, заруби себе это на носу!
Робер уронил глаза в пол, быстро, взбудораженно дышал, производя впечатление человека обреченного и невменяемого. Она впервые видела его в подобном состоянии.
– Чтобы это было в последний раз, – повторила она. – Ты понял меня?
– Я ему устрою.., – пробормотал Робер.
– Что-что? Повтори, пожалуйста! Кому это ты устроишь?
– Твоему розоводу… Этой скотине дядечке. У тебя нет выхода.
Луиза застыла в оцепенении. Глядя на бывшего любовника и близкого, как она считала, «друга», она впервые отдавала себе отчет в том, что разговоры об их былых отношениях он заводил неспроста.
– По-моему, у тебя там что-то заскочило… Ум за разум зашел… – Обняв себя за локти, Луиза стала разъяренно расхаживать между чемоданами. – Нет, не ожидала от тебя такого…
Раздался звонок в дверь. Понимая, что нелепо открывать дверь, пока Робер сидит в кресле со слезами на глазах, Луиза медлила.
– Иди, пожалуйста, в ванную, – приказала она.
Робер покорно встал и, качаясь, заковылял из комнаты.
В переднюю с шумом ввалился МакКлоуз. За его спиной виднелось еще пять силуэтов, пять физиономий. Молодые люди все как один были в джинсах. Двое – в кепках, насаженных задом наперед. Все с любопытством глазели на хозяйку. Все вместе они, видимо, и приехали в арендованном фургоне.
– Знакомиться, думаю, не будем… Некоторых ты уже знаешь. Извини, что опоздали.., – лопотал, улыбаясь, МакКлоуз. – Твой чек не хотели брать под мои документы, пришлось заплатить наличными. Машина под домом. Правда, посреди улицы, поэтому… – Быстро всё же представив ей двоих незнакомых парней, МакКлоуз принялся распоряжаться, но, поскольку роль была для него всё же непривычной, у него появился резкий американский акцент. – Начнем с крупных… Коробки потом… В лифт диван не влезет…
Двое незнакомых Луизе парней – один из них, блондин, был в шерстяном пиджаке, другой носил остроносые сапоги, черные круглые очки и вряд ли был французом – с готовностью принялись разворачивать диван, годы назад купленный отцом на аукционе еще для ее детской спальни, – Луиза не хотела с ним расставаться. Другие подхватили секретер, недавно купленный матерью, который она успела укутать в шерстяное одеяло. МакКлоуз, вдруг оказавшись лишним, стал готовить для выноса мелкие вещи, которые загромождали прихожую. Он подхватил столик с лампой, сумел водрузить на него еще и чемодан, коробку с книгами и стал протискиваться к выходу.
Когда Робер вырос на пороге ванной, МакКлоуз оглядел его, да и Луизу, с веселым удивлением, скорее всего догадываясь о том, что между ними произошло. Осветив свою скуластую физиономию молчаливой всепонимающей улыбкой, МакКлоуз поддал Роберу по плечу, многозначительно вздохнул и попросил его вынести к лифту коробки, мешавшие проходу.
Новой квартиры Луизы Петр еще не видел. В субботу, в день переезда, он приехал на улицу Нотр-Дам-де-Шам немного раньше, чем они условились, и был в легком, возбужденном настроении.
По-домашнему одетый в джинсы и свитер, с пышным букетом белой сирени в руках и с бутылкой шампанского, он топтался перед огромными запертыми воротами, не зная, как войти во двор. Луиза не предупредила его, что на входе во двор придется набирать код.
Ему удалось войти лишь через десять минут, раскланявшись с пожилым жильцом, который возвращался домой, выгуляв черного лабрадора.
Вымощенный и вытянутый вглубь обширный двор, наглухо замурованный со всех сторон стенами старинных зданий, выглядел на редкость ухоженным. Полностью изолированный от улицы, так что городской шум сюда почти не проникал, двор утопал в тени зеленых насаждений. По центру была разбита большая клумба. Несколько кадок с папирусами и фикусами были выставлены на улицу вдоль стены невысоких, видимо более поздних пристроек, в которых размещались офисы. Небольшой, аккуратный палисадник окружал и невысокое здание в четыре этажа, высившееся в конце двора особняком, – по описаниям нужный ему дом.
Вызвав лифт, Петр поднялся на последний этаж и позвонил в лакированную дверь, на которой уже красовалось имя: «Брэйзиер Л.», а под кнопкой звонка была приклеена временная картонка с надписью: «Просьба звонить долго и упорно!»
Дверь распахнул МакКлоуз.
– Питер! Сто лет, сто зим! – Американец выставил ладонь для пожатия.
– Здравствуй, Тимми… Переехали? Всё нормально?
– Да давно уже… Вы что-то исхудали. Заработались?
Петр протянул сирень МакКлоузу. Но и сам не знал почему.
– Сами отдадите, – сказал тот и посторонился.
МакКлоуз провел его в большую и, видимо, центральную комнату. Петр не ожидал застать здесь гостей в таком количестве. В высокой светлой комнате находилось человек пятнадцать молодых людей, парней и девушек, которые сидели кто на кожаных диванах, кто на стульях, расставленных вокруг длинного низкого стола. Ведущие на террасу раздвижные двери были распахнуты настежь. Там курили. В одном из молодых людей, вернувшихся с террасы в гостиную, Петр узнал своего шантажиста Робера. На молчаливый кивок Петра тот ответил презрительной усмешкой.
Луиза, не замечая его появления, копошилась над подносом с закусками, которые выкладывала на блюдо, стоявшее на низком столике. Какой-то незнакомый малый лет тридцати тут же откупоривал бутылку шампанского. Несколько уже оприходованных бутылок стояло под столом. Все наперебой тараторили, и казалось непонятным, как гости могли слышать и понимать друг друга в таком гаме.
Заметив Петра, Луиза подлетела к нему, схватила его за рукав, вовлекла в гущу гостей и громогласно представила его всем, кого он еще не знал, то есть большинству:
– Кто хочет, может звать его Питером! Кто хочет – Петром! – пыталась перекричать гостей Луиза. – Самый настоящий, самый лучший, самый порядочный адвокат всего Парижа!
Петр слегка поклонился. И не успел он получить в руки широкий, приземистый бокал с шампанским, как Луиза, снова растягивая рукав его свитера, повлекла его в соседнюю комнату, хотела сразу показать квартиру. Из смежной комнаты они попали в коридор, застеленный ковром и ослеплявший белизной своих стен со стеклянными фрамугами по всей длине потолка. С мягким упреком Петр спросил:
– Луиза, зачем говорить всякую чепуху… Что они все подумают?
– Не волнуйся… Что надо, то и подумают… – Она подступилась к нему вплотную и прильнула горячим ртом к его уху. – Я никогда не знаю, как тебя представлять… Да им же всё равно до лампочки, ты не переживай. Ну, скажи, что ты думаешь?.. Тебе нравится? Или всё-таки по-мещански?
Не успел он ответить, как Луиза толкнула дверь в ванную комнату, просторную, отделанную под потолок бледно-голубым кафелем. Ванная была столь же светлой, ослепительно-белой, как и вся квартира. После чего она провела его в спальню, затем в другую, более просторную. Слегка приперев дверь, она обвила руками его шею и разгорячено зашептала:
– Я бы их всех выставила к черту, Пэ… Давай выставим, чего нам стоит?
Он с трудом владел собой. Поймав ее за запястья – этот жест вошел в привычку, – он с усилием прижал ее руки к телу и с молчаливой строгостью глядел ей в глаза.
Луиза судорожно обмякла, и они вышли на террасу, которая сообщалась со всеми комнатами квартиры, а через террасу вернулись в гостиную.
Петр не ожидал увидеть подобных апартаментов, как не ожидал обнаружить в себе всех тех сложных, смутно-несправедливых и, в сущности, тяжелых чувств, которые вспыхнули в нем в первую же минуту, как только он переступил порог квартиры. Он только теперь с ясностью сознавал, что переселение Луизы на новую квартиру не входило в его планы. Ее независимость обретала отныне реальную почву. А комфорт нового жилья придавал этой независимости что-то вдвойне, как ему казалось, незаконное…
Теплые и ясные весенние дни стояли уже больше недели. Город менялся буквально на глазах. Стоило не побывать на знакомых улицах всего один день, как они становились неузнаваемыми. Повсюду распускалась листва. По утрам воздух оставался еще свежим, но к концу дня успевал разогреваться до духоты жарких летних будней. В атмосфере городских улиц наступление весны чувствовалось даже сильнее, чем в окрестностях города, хотя внешне перемены там больше бросались в глаза.
Занятия у Луизы шли с перебоями. Весенняя новизна чувствовалась даже в том, что добрая половина всего студенческого потока на лекции не являлась. В светлых, разогретых солнцем и безлюдных аудиториях царила атмосфера томительного ожидания, и это ожидание вливало в душу немое ощущение уюта и какой-то беспечной самотечности. Вырываться из этого состояния, оказывалось куда труднее, чем им проникнуться.
Из-за массовых пропусков назначенные на конец апреля практические работы едва не оказались сорванными. Занятия предполагалось провести в близлежащем парке, который только-только перестроили и наново озеленили, с тем чтобы студенты курса смогли «переснять» рельеф и предложить проект новой, более оригинальной реконструкции парка.
В учебную программу это практическое занятие не входило, оно было очередной новацией ассистента Бертоло, педагогические новшества которого удивляли не только штатный преподавательский состав, но подчас и самих студентов. Несмотря на свои громогласные заявления, что целью учебного процесса является слияние теоретических знаний с «потребой дня», со всей той демагогией, которая неизбежно сопутствует этим древним, как мир, профессорским притязаниям – демагогией по поводу специфических и без конца возрастающих требований к «современному искусству», – высший преподавательский состав давно оброс таким консерватизмом, что производил впечатление коллектива законченных неудачников, которых мирила между собой разве что всеобщая заинтересованность в своих рабочих местах и будущих пенсиях. Хоть под конец своей карьеры они начинали понимать, что зарабатывали на жизнь не так уж плохо, как им всегда казалось.
Бертоло был единственным на кафедре, кто не подпадал под эту категорию. И он не мог не снискать себе симпатий. Он умел, что называется, заинтересовать предметом, а точнее, умел искусно лавировать между инертными потребностями студенческой братии, частными нуждами профессоров и официальными требованиями к учебе. Любили его и за независимый тон, с которым он противостоял вышестоящей профессуре, за то, что он не стеснялся вставлять палки в колеса штатным преподавателям, конкурировал в авторитете с главой курса, чем и наживал себе частенько неприятности. Бертоло чтили и за то, что он постоянно расплачивался за всех в кафе, а также за вечеринки, которые он время от времени устраивал у себя дома.
Жил он в 20-м округе, в большом, полупустом, причудливо перестроенном лофте. В организации сабантуев на дому, которые не выходили за рамки передовой дидактики. Аапельсиновый сок на вечеринках лился рекой, а дым марихуаны, как Бертоло с ним ни боролся, бывал иногда гуще, чем предрассветный туман, – так отзывались о вечеринках злые языки. В вечеринках принимала участие и его жена, чистокровная японка, выросшая в Европе. Своим присутствием она иногда приводила студенток в отчаяние, тех, что посмазливее, поскольку была довольно красивой зрелой женщиной, словно живая картина воплощая собой тот особый восточноазиатский тип несовременной женской красоты, с чистым молочным лицом без всяких прыщиков, с тающими, но полными практичной строгости глазами, с кроткой непосредственностью в манерах, проявлявшейся в каждом слове и жесте, простота и отточенность которых не могли не подавлять своим неприступным превосходством.
Сецуко Бертоло работала в дизайнерском бюро. Заодно, как и муж, преподавала прикладное искусство, но не в Париже, а в Женевском университете. Этим и объяснялись ее частые отъезды. Обоих супругов отличала страсть к общению со студентами. По слухам, Бертоло попал в ассистенты после того, как, ринувшись отстаивать какие-то несгибаемые принципы, завалил блестяще начатую карьеру дизайнера, перессорился с какими-то боссами и оказался разочарованным во всём на свете. В результате бедняге пришлось искать более простой способ для самоутверждения, а без этого он жить не мог, – преподавание. И вряд ли он просчитался.
Эктору Бертоло было за тридцать. Он был крепколиц, скуласт, породист, с правильным мужским лицом, которое украшала вертикальная волевая ямка на подбородке. Ни для кого из сокурсников Луизы не было секретом, что Бертоло питает к ней слабость. Как, впрочем, и многие другие. Но это оборачивалось для нее не поблажками, а, наоборот, непомерными требованиями. Бертоло во всеуслышание утверждал, что у Луизы Брэйзиер «спящий талант», а талант человека, мол, обязывает. Как перед самим собой, так и перед другими. И под предлогом своих явных заблуждений на ее счет ассистент-преподаватель требовал от нее больше, чем от всех остальных.
Никакими особыми талантами Луиза не отличалась. Сама она это прекрасно знала, как это знает любая разумная женщина, привыкшая смотреть на себя в зеркало. Рядом учились и поталантливей. Что ее выделяло из общей массы, так это умение схватывать на лету. Но это оборачивалось другой проблемой: быстрый ум иногда лишает упорства, усидчивости. В итоге она хватала всё по верхам и не умела посвятить себя чему-либо до конца.
Однокашница Мона Розальба утверждала, что Бертоло законченный бабник. Ведь он столбенел при виде любой белокурой девушки. Иногда это якобы выражалось в патологической робости, в которую он впадал, как школьник, при виде особи слабого пола, которая чем-то привлекала его внимание. Чему и удивляться: «сублимация» подобных «комплексов» происходит через «вытеснение одного другим», поучала Луизу подкованная Мона. Это и приводило к ожесточению, к мании подтрунивать над всеми, особенно над девушками, которые умели за себя постоять. Мона могла обсуждать эти темы часами…
На знаки внимания со стороны Бертоло Луиза отвечала предписанным ей равнодушием и неприступностью. И едва ли отдавала себе отчет, что тем самым лишь еще больше разжигает чувства, не находившие себе выхода…
На май Бертоло готовил серию «культпоходов» в музеи современного искусства. Помимо выставок, планировались ознакомительные экскурсии в исследовательские лаборатории при научно-исследовательском центре. При каком именно, пока не уточнялось. На конец семестра Бертоло намечал проведение обзорного курса по основам фундаментальной физики и прикладной математики. И хотя никто и никогда не ставил под вопрос сами его педагогические таланты, студенческая братия ждала от очередных новаторств Бертоло какого-то провала, уж слишком бредовые он выдвигал программы. И никому не хотелось пропустить этот момент. Отчасти поэтому посещаемость на время улучшилась.
С началом весны Луиза тоже не пропускала ни одного занятия. Не понимая причин столь внезапной добросовестности, Бертоло подтрунивал и над этим…
Одним из излюбленных педагогических методов Бертоло, к которым он прибегал для поощрения в студентах «стадного инстинкта» – крайне необходимого для их креативного будущего, как он язвил, для их ориентации в тенденциях, которые движут «стадами людей в разных странах, в разные периоды их коллективного помешательства», – таким методом стали приглашения на всевозможные мероприятия, проходившие в иллюзорном мире дизайна и всё той же моды. Бертоло раздавал студентам приглашения в виде компенсаций за хорошую успеваемость. Сам же он бывал частым и званым гостем различных мероприятий, поскольку поддерживал отношения с несметным количеством столичного люда, занятого в самых различных отраслях, смежных с дизайном.
В первых числах мая Эктор Бертоло пригласил горстку своих подопечных на весенний праздник, устраиваемый известным рекламным агентством, с которым то ли его жена, то ли он сам состоял в профессиональных отношениях. В числе шести студентов, которым Бертоло выдал пригласительные на вечер, была Луиза и ее подруга Мона.
Приуроченное к юбилею агентства празднество происходило вечером в Венсенском лесу, в арендованном павильоне. Никто из молодых людей, приглашенных с курса Луизы, не ожидал увидеть ничего подобного – такого блеска, шума, размаха, да и разгула, который, казалось, витал в самом воздухе и которым дышала пестрая толпа. Никто не предвидел подобного столпотворения гостей, какое представало глазам еще на улице перед входом в павильон, освещенный ослепительно-ярким светом, а затем и в самом зале, в который вплывали толпы взбудораженной молодежи.
Просторный высокий зал был разгорожен на две половины. Слева от эстрады, загроможденной музыкальной аппаратурой, был устроен длинный буфет, который обслуживали немолодые официанты в белых пиджаках с бабочками. С другой стороны стояло несметное количество столов, накрытых белыми скатертями. Столы еще пустовали. Уже оживленная, но всё еще робкая, безлично гудящая публика теснилась у входа. Над людской толпой стоял душный, тяжелый сонм запахов, в котором ароматы женских духов и мужских одеколонов смешивались с сигарным чадом.
От пестроты кишащего, с каждой минутой всё более уплотняющегося месива людских лиц и от разнообразия женских нарядов – всех видов, на все вкусы – у Луизы рябило в глазах. Длиннополые яркие платья, переливающиеся перламутром мини, в которых проглядывало что-то не разбитное, а первобытное, повсюду обнаженные женские плечи…
Многие девушки поражали Луизу своей красотой. Молодые люди ее возраста были одеты проще, на некоторых были просто рваные джинсы, пожалуй чрезмерно рваные, чтобы это могло выглядеть естественно. Но была публика и постарше: морщинистые дельцы, одетые кто во что-то горазд – кто в светлое, кто в черное, кто в смокинг, кто в блейзер, кто в будничный костюм с жилетом в полоску, а кто, опять же, в джинсы, но «под шестьдесят восьмой год». Особенно выделялись двое лысоголовых мужчин, которые прохаживались по толпе стеклянными глазами и поневоле приковывали к себе внимание.
Всё это скопление людей сплачивало что-то неслучайное. Что именно, определить было трудно. Но мгновениями Луизе всё же чудилось, что она как будто бы узнавала некоторые лица, узнавала лица людей, которых никогда не встречала, и она не могла понять, чем было вызвано это новое ощущение.
Вливавшийся с улицы людской поток вносил новоприбывших в самую гущу зала. Окунувшись в толпу и тут же потеряв Мону, Бертоло и остальных сокурсников, Луиза чувствовала себя белой вороной. Туалет ее явно не соответствовал стилю вечеринки. Вернее было бы сказать – полному отсутствию каких-либо требований к стилю. Темно-серая габардиновая пара с короткой юбкой явно выглядела на ней слишком строго, слишком целомудренно, как отозвался бы о костюме Петр. И уж во всяком случае, этот наряд не был ни летним, ни вечерним, как на большинстве девушек. И чем больше она чувствовала себя потерянной в толпе, тем всё больший трепет испытывала при виде такого столпотворения незнакомых, красивых, как ей казалось, и бесцеремонно-раскрепощенных молодых людей.
Девушки казались ей уже не просто красивыми, а красивее ее во много раз. Этому чувству не могли помешать блуждающие мужские взгляды, которые она ловила на себе. Луиза вдруг ощущала в себе какую-то неуклюжесть, что-то нелепое, неприспособленное, граничащее с глупостью. Габардиновый костюм тянул в плечах. Испарина и влажность тела создавали ощущение несвежести и сковывали в движениях.
Из толпы вдруг вылетел Бертоло. Едва скользнув по ней взглядом, он мгновенно понял, в чем дело. Бертоло подхватил ее под руку и с этой минуты от себя больше не отпускал.
Официанты начали разносить шампанское. Толпа радостно взвыла и зашевелилась. Живые потоки начали перемещаться из одного конца зала в другой. Но большая часть всё же ринулась к буфету. Другие, поопытнее, предпочитали сразу занимали столики.
Бертоло галантно повел Луизу к столику, который показал ей в дальнем углу павильона, при этом останавливаясь на каждом шагу и приветствуя кого-то, а кое-кому отвешивая поклоны. Усадив ее рядом с собой в компании незнакомых и немолодых мужчин, Бертоло почему-то наблюдал за ней. И как только они встречались глазами, начинал странно таять в лице. Луиза даже не обратила внимания на то, что Бертоло знакомит ее с сидевшими за столом.
Официант в белом принес ведерко с шампанским. Другой обходил стол с подносом, предлагая закуски. Продолжая общаться с сидящими за столом, Бертоло подавал Луизе то бокал с шампанским, то крохотные птифуры в виде корзиночек и пирожков, каждый раз интересуясь у нее, с чем она предпочитает – с икрой, с мясом или с овощами, – при этом он скользил по ней взглядом, полным умиления. То ли резкая перемена, которой она не могла не замечать в его поведении, – Луиза привыкла к тому, что Бертоло держался с ней иронично, холодно, приправляя свой тон насмешками, – то ли всё большая растерянность, охватывающая от того, что ее все ели глазами, то ли выпитое на голодный желудок шампанское, – но она чувствовала себя обезоруженной, лишенной обычных в таких случаях рефлексов и позволяла за собой ухаживать.
К столу приблизилась новая мужская компания. Ее возглавлял как раз мужчина в блейзере с блестящим, жирным черепом и с совершенно безбровым, гладким лицом. Трудно было определить его возраст. Сбоку от него топтался немыслимо грузный, исходящий испариной толстяк в белом пиджаке с бабочкой, с густыми бакенбардами, с торчащими в стороны черными усами, кончики которых были чем-то подмазаны и завиты. Бертоло представил его фотографом. Потными, пухлыми лапами толстяк похлопал Бертоло по плечу – они были хорошо знакомы, – после чего, отделившись от своей компании, оба, и толстяк и безволосый, сели к ним за стол и принялись что-то обсуждать.
Луиза за разговором не следила. От шампанского у нее плыло перед глазами, она даже не заметила, как оказалась в гуще дискуссии.
Безволосый, куривший толстую сигару, поглядывал на нее с каким-то поощряющим любопытством. Но в глазах его не было ничего мужского, интерес его был холодным, рациональным.
Бертоло и толстяк с бакенбардами поднялись из-за стола, чтобы сходить к буфету за шампанским, которым официанты по непонятной причине перестали обносить стол. Не успели они отдалиться от стола, как безволосый в блейзере вкрадчивым, полушутливым тоном спросил Луизу:
– Скажите, вы не хотели бы сняться в журнале?
Луиза залилась краской. Внимание, которое ей уделяли, льстило, но она не знала, как реагировать, не понимала, что тот хотел от нее.
– В каком, простите, журнале? – вымолвила она через силу.
– Сейчас я вам всё объясню.., – чуть ли не по слогам выговорил безволосый и, не договорив, развернулся в сторону Бертоло, который уже проталкивался назад к столу без шампанского, высоко подняв перед собой тарелки с закусками, чтобы не испачкать кого-нибудь из столпившейся перед их столом группы молодых людей.
Когда все уселись, безволосый поднял свой бокал перед лицом Луизы и загадочно, с бесцеремонной двусмысленностью, произнес:
– За наши будущие успехи!
Бертоло скептически усмехнулся, догадываясь о том, что произошло в его отсутствие. Он понимал то, чего не понимала пока сама Луиза.
– Ты согласилась? – спросил он. – Они, кстати, еще и платят, да недурно, или я ошибаюсь? – подстегнул он безволосого.
– Разумеется, я говорю о снимках в обнаженном виде, – сказал тот с наглой непринужденностью.
Поражаясь охватившему ее смущению, Луиза не знала, куда девать глаза.
– Ты не пугайся его прямоте, – пришел Бертоло на помощь. – Он, в сущности, равнодушен по женской части.
Безволосый одобрительно усмехнулся, окинул Бертоло ласково-безразличным взглядом, подтверждая миной сказанное, и, откинувшись назад, стал глазеть без улыбки по сторонам. Сделка, по-видимому, не стоила для него выеденного яйца.
– Об этом не может быть речи.., – выжала из себя Луиза. – Не понимаю, как вы смеете! – Она всё же осеклась, понимая, что так вести себя нелепо.
Безволосый, словно предвидя ее реакцию, понимающе кивнул и сказал:
– Мне кажется, вы неправильно истолковываете. Речь идет о вполне приличных фото. Ни одна маменька не придерется. Но вы подумайте… – Он запустил пальцы в кармашек блейзера и плебейским жестом протянул визитную карточку. – А вообще Эктор – моя лучшая порука. Если надумаете, сообщите мне через него. Журнал хороший… – Безволосый стал нехотя объяснять что-то по поводу своего «хорошего» журнала, но Луиза была не в состоянии следить за объяснениями, и тот добавил: – Должен вам сказать, что масса девушек.., – развернувшись в зал, он показал сигарой в толчею, поднявшуюся из-за рок-н-ролла, – всех этих девушек, я имею в виду… не отказались бы. Обычно мы не делаем таких предложений. Но вы… Вы исключение. Вы очень подходите. Вы француженка?
Бертоло пришел ей на выручку, стал что-то объяснять. А в следующий миг всё опять потонуло в бешеном гаме. Голос ведущего на эстраде, который делал очередное объявление, снова разнесся перекатами по всему залу. Толпа ответила ревом и аплодисментами.
К столу вернулся толстяк-фотограф с бакенбардами. Сидевшие стали подвигаться, чтобы поставить для него дополнительный стул, – его прежнее место уже было занято, – и Луиза отодвинулась, не вставая, от края стола. Толстяк, приветливо тряся щеками и ворча с непонятным юмором: «Благодарю-с, благодарю-с, предостаточно…» – вдруг поставил ножку стула ей на ногу, и не успела она высвободить ногу из-под стула, как тот облокотился на спинку.
Луиза вскрикнула. Толстяк, на миг остолбенев, странно изогнулся. Живот мешал ему наклониться. И он был вынужден расстегнуть пару пуговиц, чтобы его белый пиджак не расползся по швам. Побагровев от смущения, толстяк опустился перед ней на одно колено. Искренне обескураженный, громко сопя, он взволнованно выпытывал:
– Вам больно?
– Нет, ничего… Не страшно, – лепетала Луиза.
– Простите, ради бога. С моими габаритами лучше сидеть дома… – Вспаренный толстяк не знал, куда деваться.
Вновь согнувшись перед ней, фотограф быстро сорвал с ее ноги туфлю, так быстро, что Луиза не успела этому воспротивиться, смотрел в замешательстве то на стопу в чулке, то на продавленный и, вероятно, сломанный носок туфли.
– Я возмещу. Скажите, где вы купили обувь, – проговорил он.
– Не нужно. Ничего не нужно. Пожалуйста…
– Нет, даже разговоров быть не может, – пробурчал толстяк. – Для меня это… вопрос чести. Я всё сделаю через Эктора, хорошо? – Он взглянул, какой марки обувь, кивнул и был готов обуть ее, точно Золушку на сцене, но она успела отнять ногу…
Через час голос с эстрады объявил, что праздник переносится на улицу и что через четверть часа в парке начнется фейерверк.
Взбудораженная, охмелевшая толпа хлынула наружу. Бертоло, чувствуя себя повинным, предпочитал не оставлять Луизу одну ни на секунду. После того как часть толпы зал покинула, он вывел ее на улицу через боковую дверь.
– Идиотизм, надо же! – сказал Бертоло с улыбкой. – Не везет так не везет. Он лапоть еще тот. Я ему устрою…
– Никто не виноват. Случайность, – сказала Луиза, чувствуя себя не то охмелевшей, не то запутавшейся в своих чувствах и ощущениях.
– Я сожалею, Луиза. Он испортил тебе вечер, – сказал Бертоло, впервые обращаясь к ней на «ты».
– Я поеду домой, – сказала она. – Где тут можно взять такси?
– С такси будет сложновато. Я отвезу тебя. Ты можешь меня называть на «ты». Пожалуйста… – присовокупил Бертоло чуть ли не с мольбой.
Дышавшее ночной свежестью, черное, как дно колодца, небо раскроили ослепительные вспышки. Поднявшийся фонтан огней брызгал в стороны цветными россыпями искр. Резкие, но не громкие хлопки раздавались один за другим, сопровождаемые всё нарастающими и всё более разнообразными и причудливыми вспышками. Чуть поодаль из парковой аллеи взревел залп такого же брызгающего крика и свиста. А затем шум стал подниматься и нарастать сразу со всех сторон. Казалось, что толпа решила перекричать канонаду.
На стоянке, запруженной машинами, уже собирались группы отбывающих. В одной компании кто-то похохатывал громким, резким голосом, который показался Луизе знакомым. Одна из машин выруливала на улицу. Но Бертоло оказался прав: такси поблизости не было. Как выбраться из парка, Луиза не знала и решила дожидаться отъезда следующий машины, чтобы попроситься в попутчицы до первой стоянки такси.
Бертоло запротестовал. Он продолжал настаивать на том, чтобы отвезти ее домой на своей машине, и не желал слышать никаких отговорок. Оставаться он тоже не хотел, и Луиза наконец сдалась.
Они прошли к его машине, запаркованной в гуще стоянки под кронами исполинских деревьев. Это был помятый, темного цвета джип с хромированным буфером. Оказавшись с Бертоло наедине, в тесной темноте замкнутого пространства автомобиля, Луиза вдруг ощутила новый прилив скованности, еще более неодолимый, чем только что за столом. Ночная прохлада, не то возбуждение, всё еще не проходившее после шумного зала, толпы и фейерверка, которое она не могла в себе пересилить, вызывали в ней какое-то неприятное волнение и мелкую дрожь.
Не успели они вырулить на дорогу и проехать по темной аллее пяти минут, как Бертоло притормозил и съехал на обочину. Он не знал, в каком направлении ехать. По ошибке они, вероятно, поехали в противоположную сторону. В тот же миг он повернулся к Луизе всем корпусом и, задыхаясь, выговорил:
– Луиза… у меня больше… нет сил. Твоя близость – это пытка. Пожалуйста…
В следующий миг Бертоло проделал то, чего никогда не должен был делать ни под каким предлогом, – но этими заклинаниями Луиза мучила себя уже позднее. Он водрузил свою горячую, дрожащую руку на ее бедро.
Ей показалось странным, что Бертоло, любимый всеми преподаватель, кумир факультета, ратовавший за полную самоотдачу, за профессионализм в любом деле, мог оказаться таким беспомощным и неловким. Он яростно срывал с нее мешавшую ему одежду. Затем столь же яростно проделывал всё остальное, что мужчины проделывают наедине с женщинами, поражая своим животным пылом и уже вскоре глубоким, каким-то мертвым безразличием к ее безвольному дрожащему телу…
Уже через пять минут Бертоло рассыпался в извинениях. Но уже ничто не могло затушить в ней ощущения пустоты, немощи и досады, которые пылали в ней каким-то пожаром. Однако мучительнее всего было сознавать другое и уже позднее. Ей казалось, что, прояви он себя как настоящий мужчина, случись всё это не в машине, а в других условиях, вряд ли она пожалела бы о случившемся…
В понедельник Петр пытался дозвониться на Нотр-Дам-де-Шам с раннего утра, но телефон не отвечал. Недоумевая, не понимая, куда Луиза могла запропаститься на все выходные, он продолжал набирать ее номер на протяжении всей первой половины дня. Жест стал уже машинальным, как Луиза вдруг сняла трубку.
Было начало первого. Она только что встала, была не в духе. Она принялась сумбурно объяснять, что не смогла позвонить ему с вечера, казалась на что-то обиженной.
Не дав ей договорить, Петр попросил ее не уходить из дому, он хотел сразу приехать.
Уже через минуту он сидел в машине. Заранее чувствуя, что не удастся ее уговорить пойти обедать куда-нибудь вне дома, по дороге он остановился купить холодный обед – ростбиф, огуречный салат, дыню, бутылку красного «Макона» и мороженое…
Они не виделись с пятницы. Такие перерывы были редкостью, а тем более редко случалось, чтобы Луиза пропадала без звонка на все выходные. Петр знал, что в субботу вечером она собиралась пойти с сокурсницей на вечеринку, проходившую где-то в пригороде, на которую их пригласил преподаватель. Знал он и о том, что по возвращении с вечера она собиралась ночевать у родителей сокурсницы, тоже за городом – Луиза предупреждала его об этом еще за неделю, – но с субботы она уже не раз могла позвонить ему. И от этой неясности он чувствовал в душе неприятное брожение…
Луиза открыла дверь неодетая. Едва с постели, она выглядела заспанной, разбитой, и, как он и подозревал, ей нездоровилось.
Петр выгрузил покупки на кухонный стол и, вернувшись в гостиную, заставил ее померить температуру, а затем настоял на том, чтобы она выпила парацетамол с витамином С и потеплее оделась. Расспрашивая ее о том, как прошли выходные, он накрывал на стол. Для нее готовил завтрак, для себя уже обед.
– Так себе, ничего особенного… Не знала, как сбежать оттуда, – с безразличием отвечала Луиза.
Она объяснила, что вернулась из-за города только утром. Родители подруги, у которой она ночевала, заметили, что она простыла, и не захотели отпустить ее домой, с воскресенья оставили ее у себя еще на одну ночь, а сегодня утром отец подруги был вынужден отправиться в город по делам на машине, заодно и завез ее на Нотр-Дам-де-Шам.
Петр понимал, что простуда – отговорка. Причина крылась в чем-то другом. Но расспросы тоже были некстати. И он принялся разделывать дыню.
– Ты будешь удивлена, но вот что я решил на это лето… Почему не поехать в тропики? Ты ведь никогда не была на Сейшелах.
С полным безразличием ко всему Луиза продолжала смотреть в стол.
– А ты? Ты уже был? – спросила она.
– Мне было… Это было так давно, – сказал он. – Ты даже не знаешь, где Сейшельские острова находятся, могу поспорить… Можно поехать и в Гваделупу. Вот там я никогда не был. В первых числах июля – это было бы идеально. Когда у тебя конец занятий?
На миг подняв на него глаза, Луиза вновь погрузилась в прострацию, а затем всё же тихо произнесла:
– При чем здесь занятия. Я вообще их скоро брошу. Осточертело всё это…
– Ну вот… – Петр отложил нож, помолчал и налил ей чаю. – У тебя плохое настроение, Луизенок? Что-то нехорошее произошло? Я ведь чувствую, ты что-то скрываешь.
Внезапно соскочив со стула, Луиза отрицательно замотала головой:
– Да ничего не произошло, с чего ты взял… Ты же знаешь, у любой женщины есть такие дни… Ты, пожалуйста, ешь, не жди меня. У тебя ведь обед. Только у меня нет хлеба.
– Могу сходить, хочешь?
– Нет, никуда не уходи. Пожалуйста!..
Не притронувшись к еде, Петр позвонил Анне, секретарше, чтобы она перенесла одну из встреч, назначенную в Версале, на четыре часа. Тем временем Луиза, первым же прикосновением к своей чашке с чаем пролив ее на скатерть, с безжизненной сосредоточенностью на лице пыталась высушить салфеткой чайную жижу.
– Кстати! Я должна отдать тебе письма, – сказала она, когда он вернулся к столу; она поднялась, прошла к дивану и вывернула содержимое своего рюкзака. – В прошлый раз я забрала в Гарне почту и забыла отдать тебе. Прости, пожалуйста.
Взяв из ее рук несколько помятых писем, Петр мельком оглядел конверты. Одно письмо, в продолговатом конверте, было из Бельгии. На другом, потолще, с нестандартной зеленой маркой, стоял французский почтовый штемпель. Петр сунул письма в карман. Но, вдруг окаменев, он вынул пачку из кармана, вновь осмотрел конверт с зеленой маркой, надписанный знакомым почерком, перевернул его, взглянул на обратный адрес, быстро распечатал письмо и пробежал глазами по первой странице.
– Что случилось? – спросила Луиза.
– Черт знает что.., – пробормотал он, бледнея. – Я знал.
– От кого?.. От кого это? Если бы я знала, Пэ! Столько дней провалялось.
– Не понимаю, – бормотал он. – Это… от Ломова.
– Который… пропал? Ну вот, а ты сочинял…
Письмо была написано в Москве и датировано двадцатым апреля. Кто-то, видимо, привез его во Францию, потому что на конверте стоял штемпель парижского почтового отделения.
«Не удивляйся. Сначала смирись с фактом, а читать будешь потом. Или отложи, прочтешь позднее. Пытаюсь представить, какой удар тебе наношу, но как-то не получается влезть в твою шкуру. Такое чувство, что нас отделяет сегодня слишком большое расстояние…
Пишу из Москвы. Я приехал сюда в ноябре из Уганды. На один день завернул в Париж. Не смог тебе позвонить. Поверь, это было невозможно.
Весь этот год я так и просидел в Уганде, в миссии «белых отцов». Это на юге, неподалеку от озера Виктория. Знаю, что меня искали. Настойчивость поисков говорит сама за себя. Нетрудно представить, каких усилий всё это стоило. Не твоя вина, что поиски ничем не увенчалось. Я сделал всё возможное, чтобы меня оставили в покое и забыли. Каких усилий мне это стоило, не буду рассказывать. В миссию я попал после той истории с контрабандистом, о которой тебе, конечно, всё известно. Но чтобы развеять все легенды, должен рассказать тебе, как всё произошло.
Из Уганды в Найроби мне пришлось возвращаться не с дядей Леопольдом (он слинял по своим делам, довольно темным, ты наверное это понял), а вместе с бельгийцем, за которым я ездил в Уганду. Но ты, конечно, в курсе. Это было в январе, числа уже не помню. Неподалеку от кенийской границы нас нагнал «Пежо-204», в котором сидело трое черных как черти африканцев. Все что-то тараторили, улыбались, слепили своими белыми зубами. Там это умеют делать, ты наверное и в этом успел убедиться. Мой компаньон, бельгиец, соображал быстрее, чем я, и попросил меня приподнять стекло моей дверцы. Но было поздно. В окно что-то успели бросить. Помню, что он прокричал, мой бельгиец, — граната. Помню, что он попытался отстегнуть ремень безопасности и схватить эту штуковину с пола, чтобы выбросить ее из машины. В этот момент я, видимо, и выпрыгнул. В противном случае непонятно, как я остался жив. От бельгийца, по рассказам, осталась пара башмаков. Прости за натурализм. Я отделался легко – потерял два пальца на ноге, получил легкое ранение в плечо и контузию. Попал к местным жителям. Документов при мне не нашли, сообщить обо мне было некуда. В местной больнице прооперировали, вроде бы неплохо. Но антибиотики там дефицит. Начиналась гангрена. Если бы не случай, я бы наверное не выбрался оттуда никогда. Больницу случайно навестил миссионер-швейцарец, приехавший забирать детей. Пока полиция занималась выяснениями, он предложил мне уехать с ним на юг Уганды, в его миссию. Шансов встать на ноги в больнице всё равно не было. Я согласился. Дорогу в миссию я, кстати, не помню, говорят, что я всё время терял сознание.
Швейцарец Жан оказался человеком терпеливым, возился он со мной долго. Когда я очухался (прошло два месяца), мне стало совершенно ясно, что в моей жизни случилось что-то необратимое. Всё произошло к лучшему, в нужный момент. Только поверь мне, контузия здесь ни при чем. Так все и решили бы, если бы я заявил об этом в то время.
Я вдруг начал по-новому смотреть на всё, начал по-настоящему жить, дышать. Никогда до сих пор я не испытывал такой радости жизни. Радости, вызванной самой возможностью открывать по утрам глаза, смотреть на небо с постоянным ощущением какой-то полноты, о которой все мы давно забыли. Чувствовать, что принадлежишь чему-то целому, чистому и безграничному. Это что-то особое. Но я не знаю, какими словами всё это можно передать. Это необъяснимо. Надеюсь, ты поймешь меня. Если не ты, то кто же еще?
Не знаю, случалось ли с тобой что-нибудь подобное, но бывают минуты, когда в голове появляется невероятная ясность. Внезапно трезвеешь и понимаешь одну невероятную вещь — что в твоей жизни еще не было ничего настоящего. А если такая возможность представляется, нужно быть полным идиотом, чтобы ею не воспользоваться. Для этого нужен, конечно, внешний толчок, нужно пережить встряску, нужно очнуться, вот как я, в одно прекрасное утро на дне черной ямы (ямой и казалась мне вся прошлая жизнь). И всё понимаешь в одну секунду. В секунду сознаешь, что со старым покончено, что назад хода нет, что до сих пор всё было ошибкой, но что жизнь продолжается.
Я, кстати, не исключение. Такого отсева, как я, при миссии ошивалась целая компания: бельгийцы экспаты (навеки осевшие в Африке), белые «заирцы» (потерпевшие крах, уж не знаю, когда точно и отчего). Был среди нас бывший наемник и даже русская из Вашингтона, Ольга, попавшая сюда с мужем-американцем, каким-то люмпеном, завербовавшимся в гуманитарную миссию, с которым рассорилась, да так и застряла. Но благодаря ей я и оказался в России.
Трудно передать, в каком я находился положении. Возвращаться не мог. Куда? С прежней жизнью вроде бы покончено. Но как заявить об этом родственникам? Как сказать об этом вам, тебе? Кто из вас поверил бы, что я в здравом уме? Воля обстоятельств взяла бы, как всегда, верх над моей собственной волей. Я уж не говорю о том, что изменить, приостановить ход вещей в нашей стране трудно, неизмеримо трудно, что бы там ни говорили. Так устроен наш мир. Он превращает человека в раба. Какой груз условностей, действительных и мнимых, довлеет над людьми вроде тебя и меня. Какая всех связывает круговая порука профессиональных и личных отношений, вся эта бытовщина квартирных счетов, банковские, страховые обязательства и т. д. Этот мир держит нас при себе на правах вечных должников. Сначала вкладывает в нас, а потом требует отдачи. Беда в том, что на возмещение долгов и дивидендов уходит вся наша жизнь. Мы живем в стране, где больше нет истории, она в ней закончилась. Так вот, я решил, что проще ничего не ломать. Поставить точку одним разом и тихо уйти со сцены.
Поначалу я думал остаться в Уганде. Так делают многие. Это, в сущности, выход. Но не буду вдаваться в подробности. Тамошняя жизнь полна своих проблем. Есть и плюсы и минусы, как повсюду. Ольга, русская из Америки, с которой мы сблизились, должна была ехать в Москву к матери (мама ее болела и скончалась до ее приезда). Никакого решения я принять не мог. Но в конце концов всё решилось само собой. И всё произошло так быстро, сегодня даже могу сказать, что всё так удачно для меня сложилось, что я не могу не верить в помощь провидения.
Всего не расскажешь. В Москве у меня все, слава богу, благополучно. Думаю, что ты мог бы меня навестить. Вот был бы случай обо всём поговорить! Что же касается здешней жизни, то рассказывать нечего, ты всё знаешь. По большому счету здесь вряд ли что-то изменилось с тех пор, как ты сюда ездил. Да и сколько можно говорить об этом? В каком-то смысле везде происходит одно и то же. Россией правят те же, что и раньше, это факт. А кому, если не им? Об этом все почему-то забывают. Иногда я даже спрашиваю себя: как было обойтись без «прежних», без их наглого стремления к самообогащению? Откуда вообще берется «буржуазия», тот класс-катализатор, или компост – кому как больше нравится, – без которого в наши дни не может развиваться ни одно нормальное общество? Вот вопрос, на который пора найти ясный ответ. Кто, кроме буржуазии, кто, кроме отъевшегося мещанина, способен тратить неутомимую энергию на то, чтобы приумножать свои материальные блага, чтобы процветать гедонистическим способом? Единственное, о чем тут можно, конечно, сожалеть, это то, что всё было свалено в одну кучу, что сегодня невозможно разобраться, кто есть кто. Кто и каким образом, какой ценой приобщил себя к этому слою? Путем какого стяжательства, каких несправедливостей? Путем какого наконец кропотливого труда? Ведь и таких тоже немало. Четкая классификация, хотя бы в теории, была бы, мне кажется, полезным назиданием для всех. Но сводить счеты бессмысленно. Ста лет не пройдет, как все эти различия в достатке и в нравственных достоинствах, столь значимые в нашем представлении сегодня, будут смыты временем. Дети тех, кто сегодня кого-то обирает, станут однажды обыкновенными и, может быть, честными людьми. В таланты, в неравенство, в преимущество одних людей над другими в силу своих задатков, в труд как в добродетель – во все эти социальные «функции», достойные той формы организации бытия, которой подчинена жизнь любого муравейника, и на которых зиждется общественное устройство Старого Света, – в это я вообще перестал верить.
Я убежден, что обществом правят более низменные законы. Нам просто трудно это признать. Там, где отношения между людьми регламентируются денежной единицей или массой, правды нет. И искать ее бесполезно. А значит, в этом смысле ее нет вообще. И лучше оставить все эти разговоры. Уповать можно разве что на здравый смысл имущих, на инстинкт муравья, на то, что они не слишком отдалятся от правды – посредством искупления своих подлостей, посредством дележа, справедливого или мнимого, с другими, с теми, у кого меньше или вообще ничего нет. Но если смотреть на вещи спокойно, как всё становится просто! Зря мы себя терзаем. Всех людей, наверное, можно поделить на две группы: на тех, кто не мыслит своего существования без общества, и на тех, кто отказывается верить, что индивид должен и может развиваться внутри общества, кто верит в муравейник. Одни видят мир, скажем, по горизонтали. Другие – по вертикали. Кто прав – не имеет значения. Во все века проблема стояла одинаково.
Поэтому, пусть удивлю тебя, но я уверен, что всё здесь происходит так, как должно происходить. Мир опрокинулся, бутерброд упал маслом на пол. Но горизонталь осталась горизонталью. Вертикаль – вертикалью. К власти пришла та же самая каста «горизонтальных», как везде и всюду. Инертность сытых является, в конце концов, одним из факторов стабильности. Есть ли вообще другой способ удержать общество от «переворотов»? Ведь «вертикальные», при всей нашей симпатии к ним, править обществом не способны. Им было бы легче править целым миром, чем одной страной. Потому что в них не хватает заинтересованности в малом. Им не хватает чувства меры. Они слишком увлечены погоней за вечным, чего нет или очень мало в людской жизни. Об обществе я и не говорю. Всё же остальное, всё то, что пережевывается беззубым шамкающим ртом наших массмедиа, – это отдает старческим маразмом.
В общем, здесь тяжело, трудно. Но веришь в завтра. В Европе легче. Но не веришь ни в какое завтра, торопишься получить всё сегодня же. И в этом абсурде, в погоне за невозможным, проходит жизнь. Но что говорить…
Жизнь не стоит на месте. Возможно, со временем, лет через пять, десять, всё опять сдвинется с мертвой точки. Возможно, я буду смотреть на вещи по-другому. Пока же я не могу перебороть в себе чувства, что спасся от какого-то падения в пропасть. В этой истории одно ужасно – ваши переживания. Но они являются звеньями того же замкнутого круга. Поэтому я даже не прошу у тебя прощения за содеянное. Ты делал то, что делал бы я на твоем месте…
Напиши мне. Ты не можешь себе представить, с каким нетерпением я жду твоего разгрома. Что нового? Что в Версале? По-прежнему ли вся банда вместе? Не рассорились? Но боюсь спрашивать…
Пока прошу тебя ничего не предпринимать. Я уже пишу в Брюссель, в Париж и т. д.
P. S. Два слова о дяде Леопольде. Ему давно было известно, где я нахожусь. Одно время я надеялся, что он поможет мне, поставит вас в известность о том, что со мной всё в порядке. Но позднее я вычислил, методом дедукции, что заблуждаюсь. Дядя Леопольд был заинтересован в моем «временном отсутствии». Не удивляйся. Заинтересованы были те, чьи интересы он отстаивает в Африке. Тут целый клубок интересов крупных частных компаний, торгующих вертолетами, самолетами, пушками и т. д., и аппетитов государственных… Все ведь стараются идти в ногу со временем. Мой «карантин» всех устраивал, ведь никто не мог представить, как я буду вести себя по возвращении. А дело в том, что тогда, в январе, когда я поехал с дядькой в Кампалу, я стал свидетелем некоторых сделок. Там же, в Кампале, у меня открылись глаза на поездки Леопольда по Африке. На моих глазах происходила возня с «израильскими туристами». Но мало того, он пользовался мною и моей бесшабашностью. Словом, то, что произошло на дороге, – следствие. Я думал, что счеты сводили с бельгийцем (в Заире якобы не хотели его показаний). Но затем вывел, что случилось всё это из-за Леопольда. Просто вышла путаница – скорее всего, из-за шляпы и черных очков, которыми я снарядил в дорогу несчастного бельгийца. Покушаться на дядьку могли и ливийцы, и кто-нибудь из Руанды (он мудрил с заирцами, а тех поддерживали израильтяне). Но тут сам черт голову сломит. Я лоялен. Из-за войны в Персидском заливе в регионе всё, конечно, бурлит и бродит. Поэтому можно понять и наши власти. Но будь с Леопольдом осторожен: слишком свято он верит в «честь мундира» и в непогрешимость своих работодателей. Он обязательно тебе позвонит.»
– Хорошо то, что хорошо кончается. А всё же невероятно… Какая невероятная история! Что еще за святые отцы? При чем здесь Москва? – недоумевал Мартин Грав, расхаживая по холлу и разводя руками. – Будь добр, Питер, объясни же нам, что всё это значит?
– Вот… Здесь всё написано… – Неловким жестом Густав Калленборн протянул Граву письмо.
Недовольно взяв листки, Грав сел на диван и невидящим взглядом уставился в написанное.
Все молчали.
– Дядьке в Брюссель звонил кто-нибудь?
– Лучше повременить. Он же просит в письме, – сказал Петр.
– С чем повременить?
– Он просит повременить какое-то время, не мутить воду, – повторил Петр. – Если у тебя есть другое предложение, то ради бога…
– Я всё могу понять. Это послание, кстати, тебе адресовано, тебе и решать. Но между нами говоря… Этот дядька, вертолеты, израильтяне… Как в Советский Союз его угораздило умотать?
– В Россию, – поправил Петр.
Но взгляды компаньонов всё же устремились на Грава, будто в этом вопросе и заключалась суть полученной новости.
– Он же русский, – сказал Бротте, переведя взгляд на Петра.
– Да ладно… Такой же, как я китаец! – бросил Грав. – Я как-то ехал в такси, меня вез африканец, черный как черт. Что-то балаболил, необычно рыкая, и я спрашиваю его: «Откуда у вас такой акцент?». «В России, – отвечает, – подхватил. Русский акцент. Я там учился». Так что…
– Смешно – дальше некуда, – сухо заметил Петр.
– Скажу откровенно, я больше ничего не понимаю.., – подытожил Грав.
Своим скептицизмом Грав выражал между тем общее мнение. Петр чувствовал, что это настроение разделяет даже Калленборн, несмотря на то, что его первая реакция была совершенно искренней и даже бурной: тряся копной седых волос, Калленборн рыскал по кабинету, похожий на вставшего на дыбы медведя, и, не находя эпитетов, скалился, тряс лицом, костлявым кулаком больно поддавал Петру в плечо и не переставал бормотать: «Ишь ты, черт! А я-то думал. Бывают чудеса и в наше время…»
Дискуссия возобновилась на следующий день. Во мнениях произошел окончательный раскол. Секретарша Анна, Калленборн и по инерции Жорж Дюваль склонялись на сторону Петра. Но это не мешало Калленборну разводить руками и всё чаще смотреть в пол, как только Грав брал слово, пытаясь вывести всех на чистую воду:
– Я же не говорю, что не могу понять его… У каждого из нас найдется миллион причин, чтобы послать всех к чертовой матери. Но кроме нас с вами столько людей выбивалось из сил. Сколько сил потрачено! На что?.. Пока он там сводил счеты со своей совестью или вообще со всей всемирной историей… А эти десять тысяч, которые мы должны выкладывать в месяц, чтобы гасить его долги. Анна вынуждена экономить на каждой мелочи. В этом месяце мы тянем с оплатой стажерам. Я вынужден таскаться раз в две недели к этому типу в банк, заговаривать ему зубы.
– Ну при чем здесь десять тысяч? – перебил Петр.
– Да, действительно, не будем валить всё в одну кучу, – поддержал Петра Калленборн.
– Если бы мы заранее знали, что всё этим закончится, ты бы не согласился на выплаты? – задал Петр Граву прямой вопрос. – Мы же договаривались, что они пойдут в счет доли.
– Питер, ну чего ты от меня хочешь?! Я говорю о том, что каждому из нас понятно… что всему есть предел, что мы зря разбивались в лепешку, зря портили себе кровь! Пока он, видите ли, сводил счеты со своими идеалами.
– Я думаю, у него не было выбора, – сказал Петр.
– Ну хорошо, хорошо… – Грав на миг осекся и, отгородившись ладонями, добавил: – Опять мы говорим о разных вещах. А жаль.
– С его долгами всё можно будет уладить в ближайшее время, – сказал Петр. – И тогда я съезжу к нему.
– В Москву?! – изумился Грав. – Ну вот, вы видите?..
Ответное письмо Петр отправил через неделю. Поначалу он написал письмо длинное, в пять страниц, но затем переписал его, сильно сократив. Отправленное письмо содержало всего две страницы. Позднее он всё же сожалел, что не удержался заговорить в этом письме о долгах, предлагая решить эту проблему в корне, и дал волю другим мыслям, в которых и сам, как оказалось, не имел полной уверенности:
«Если у нас хватает ума или глупости рассуждать о таких вещах, как „жизнь“, „провиденье“, „история“… – то нужно, мне кажется, научиться избегать туповатого оптимизма, в который мы неизбежно впадаем, полагая, что она, то есть „история“, обязательно должна продолжаться и к чему-то стремиться. Эта идея нас настолько устраивает, что мы готовы на любой самообман, готовы проглотить любую чушь, лишь бы не усомниться в себе и в своих домыслах. Есть ли цель в эволюции вида бабочек? Дураку понятно, что форма и продолжительность жизни живого организма определяются свойствами, заложенными в его ДНК, свойствами его рода. Но никому не приходит в голову утверждать, что тысячелетний дуб как раз теперь, ни с того ни с сего, начнет расти быстрее, чем рос до сих пор, потому что нам так этого захотелось. Нам удается удерживать себя от крайностей и от самообмана, потому что в нас заложено чувство меры. Вот здесь я с тобой немного не согласен… Мы с абсолютной уверенностью чувствуем границу, которую не должны переступать. Это чувство и есть то самое чувство внутренней формы, заложенное в нас природой, без которого жизнь превращается в абсурд, в хаос. Бегать же от всех этих низких истин и от себя самого можно до бесконечности…»
Следующее письмо от Фон Ломова, датированное двадцать девятым мая, пришло в считаные дни, тем же путем, что и первое, посланное, по всей видимости, с посольской дипломатической почтой:
«Спасибо за хлопоты и за взбучку! Мне кажется, что ты не совсем правильно меня понял. Ты не понял, Петр, что в моем положении невозможны половинчатые решения. Твое предложение продать мой пай кабинету и передать мне то, что останется после вычета долгов, не имеет никакого смысла. Есть вещи, которые невозможно перенести из одного измерения в другое. К тому же я неплохо теперь зарабатываю. Пусть всё останется как есть. Если это, конечно, вам не в тягость, если это не наносит никому ущерба. И незачем передавать деньги дяде Гаспару. Они ему ни к чему.
Кстати, есть другой вариант. Если ты считаешь, что высвободившаяся сумма может составить чье-то счастье, что ее можно пустить на что-то нужное, что это может изменить чью-то жизнь к лучшему – предложи ее. Я подпишу все необходимые бумаги. В этом случае у меня было бы одно пожелание: чтобы эта сумма пошла не просто на какие-то «благие дела», а была бы передана в руки конкретному живому человеку, с его конкретной нуждой. Но ты понимаешь, что я хочу сказать. Прости за условие.
Ты опять спросишь – зачем? Но я опять не знаю, что ответить. Уезжая из Уганды, я спросил моего швейцарца, который вернул меня к жизни, чем я могу его отблагодарить за то, что он сделал для меня. Он ответил: «Сделайте то же самое для кого-нибудь другого…» Так что выбора у меня нет…»
Идея поездки в Москву пришла Петру в голову не сразу. Но как только он внутренне принял это решение, многое сразу встало на свои места.
Планировать поездку на июнь – вряд ли это было разумно. Уже сегодня было ясно, что месяц, как всегда, будет загружен работой. Бросать же дела незаконченными, когда на носу лето, не хотелось. Стародавняя эпопея с гидростроительными работами, «Овернский криминал», медленно, но уверенно продвигалась к развязке. Несмотря на свой первоначальный отказ заниматься этим досье, Петр вносил, как и все, свою лепту и даже согласился поехать в Овернь, где проводилась очередная экспертиза, даром что не очень нужная, как ему казалось, формальная. Кроме того, он вел немного докучливое, запутанное дело по диффамации, успевал заниматься делом по авторскому праву, которое было начато недавно по иску книжного издательства, и вообще замещал Калленборна, уехавшего в Германию, по всем его текущим делам.
Петр выезжал из дому раньше обычного, старался добираться в Версаль до появления на дорогах пробок и возвращался домой не раньше половины девятого. Домашнее хозяйство и уход за садом пришлось полностью возложить на Мольтаверна, на старика Далл’О и даже на Луизу – с начала июня она жила в Гарне без перерывов. И сколько Петр ни винил себя в том, что уделяет ей слишком мало времени, изменить этот ритм жизни ему пока не удавалось.
В жизни Луизы как раз наметилась очередная черная полоса. Он не понимал до конца, чем вызван этот новый внутренний разлад, но склонялся к мысли, что дело не только в какой-то возрастной неустойчивости, которую он не переставал в ней подмечать на протяжении последних месяцев, выражавшейся в лихорадочной смене настроений, вкусов и желаний, но и в ее болезненной неспособности выносить даже малейшее однообразие, а этого было хоть отбавляй как в ее учебе, так и в гарнской жизни последнего времени. С начала июня еще и установилась жара. Луиза с трудом ее переносила из-за давней детской астмы.
Интерес к благоустройству апартаментов на Нотр-Дам-де-Шам у Луизы пропал быстрее, чем Петр предполагал. Временно поселив у себя в квартире Мону, сама она на Нотр-Дам-де-Шам почти не появлялась. Но больше всего настораживал ее отказ ходить на занятия. Луиза отлынивала от учебы уже третью неделю подряд. Пытаясь призвать ее к благоразумию, Петр прибегал к последним аргументам: устрашал тем, что, ступив на эту стезю, «на бездорожье», она имеет все шансы стать вечной недоучкой – нет, мол, ничего хуже, чем дилетантизм. Он даже стал обещать ей за успехи в учебе какое-нибудь вознаграждение, вроде летней поездки «на край света», в которую она начинала мало-помалу верить, еще не зная, что он имел в виду не только Сейшелы, но и Москву.
Петр убеждал ее – хотя и сам не всегда в это верил, – что даже если она не видит в учебе никакой явной пользы, она должна продолжать посещать занятия, потому что это открывает перед ней возможности выбора дальнейшего рода занятий, а главное, позволяет ей общаться со сверстниками, от которых он невольно отдалял ее своим присутствием. Этими уговорами он всё чаще приводил ее в такое раздражение, что подчас недоумевал ее бурной реакции и время от времени даже начинал себя спрашивать, не скрывает ли она от него какие-то настоящие неприятности. Луиза уверяла, что причиной всему – мертвейшая скука, «запах тлена и пыли», который она испытывает от одного слова «искусство».
Еще не отойдя от простуды, она заболела ангиной. Казалось непонятным, где и как она могла подхватить ангину в тридцатиградусную жару. Несмотря на температуру, она отказывалась проводить весь день в постели, и чтобы она не чувствовала себя отрезанной от домашней жизни, в дневное время Петр устраивал ей спальню в своей рабочей комнате: перенес сюда телевизор, установил рядом с кроватью лучший в доме радиоприемник, на место кушетки перетащил из гостиной диван, выделил полку для книг, которые Мольтаверн периодически приносил ей по ее спискам из верхней библиотеки, где хранилась самая легковесная литература.
Как-то вечером Луиза перебирала содержимое старинной шляпной коробки, в которой хранились семейные фотографии, и Петру взбрело в голову обратить ее внимание на снимок одной из его теток – тети Надежды из Биаррица, на которую Луиза, по его убеждению, была поразительно похожа.
– Неужели ты считаешь меня такой… уродиной? – удивилась Луиза, разглядывая фотографию.
– Тетя слыла красавицей, – сказал Петр тоном благодушного упрека, – причем неприступной. Поэтому и прожила всю жизнь одна. Бывают такие случаи. Но я понимаю ее.
– Да это же какая-то снежная королева! Ты только посмотри на нее!
В дверь постучал Мольтаверн. В этот вечер, для разнообразия, они решили ужинать вдвоем, не выходя из рабочей комнаты Петра, и Мольтаверн принес им ужин на подносах. В меню: ветчина, запеченное в духовке морковное пюре, на десерт – любимый Луизой карамельный крем.
Поставив поднос возле ее кровати, Мольтаверн вышел за вторым подносом, с приготовленным для Петра холодным мясом, тут же принес виски и вино в графине, составил всё на письменный стол и молча удалился.
Не притрагиваясь к еде, Петр продолжал сидеть у распахнутого в сад окна. Он подлил себе виски и стал перебирать стопку прочитанных Луизой книг. Авторов многих романов, которые она читала, он не знал. К ночи собиралась гроза. В комнате появились комары. Петр встал, зажег свечу, воткнул ее в пустую бутылку. Комната сразу обрела какой-то иной вид, уютный и даже праздничный.
Луиза к еде почти не притрагивалась. Что-то неожиданно проронив – слов ее он не расслышал, – она опустила свой поднос на пол, встала с дивана и с каким-то необычным лицом подступилась к письменному столу, рядом с которым он сидел. Не сводя с Петра глаз, она вдруг скинула с себя бязевую юбку, которую иногда надевала к ужину, и английский свитер. Оставшись обнаженной, в одних носках, она убрала руки за спину и выжидающе смотрела на него.
Блестевшими в свете свечи глазами Петр смотрел на ее небольшую грудь с острыми лиловыми сосками, на тонкие, синеватые, лишенные загара колени, покрывшиеся гусиной кожей бедра.
– Скажи правду, что ты думаешь обо мне? – спросила Луиза.
– В каком смысле, Лобызенок?
– Я красивая, по-твоему?
Петр отложил книгу и умоляюще проговорил:
– Ты не ангину схватишь, а воспаление легких, Луиза!
– Что – Луиза? Что ты смотришь?.. Сделай что-нибудь!
Петр снял ноги с подоконника, толкнул фрамугу, чтобы прикрыть окно, взял ее ладонь и мягко произнес:
– Ну что с тобой все эти дни? Ты ведь не просто болеешь, Луизенок… скажи мне правду?
– Я прошу тебя… Ты можешь делать со мной все, что хочешь, понятно? – У нее задрожал подбородок. – Чего еще никогда не делал.
– Леон в гостиной, – сказал Петр.
– Выгони!
Глядя на нее беспомощно-укоризненным взглядом, Петр оставался неподвижен.
– Или ты охладел? А может быть, ты просто стал ханжой? – процедила она.
– Что ты лопочешь, Лобызенок…
Он попытался привлечь ее к себе, но она резко вырвала руку.
– Или ты не понимаешь, что я женщина? Не понимаешь?!
– Я всё понимаю… поверь мне. Я понимаю тебя, как никто, – проговорил Петр, начиная отдавать себе отчет, что с ней творится что-то неладное. – Подойти ближе. Сейчас мы успокоимся и всё обсудим.
– Нет, ты ничего не понимаешь… Но сейчас я тебе всё объясню. Сейчас увидишь… – Она подступилась к столу, начала искать что-то среди книг и бумаг, роняя их на пол, но вдруг выхватила из бутылки горящую свечу и, разбрызгивая воск по комнате, ударом потушила ее об стол, а затем, продолжая немо трястись, в слезах, которые текли по щекам, вскинула правое колено на стол, воткнула свечу себе в вагину и стала проделывать ею конвульсивные движения.
Петр сорвался с места. Выхватив свечку, он взял ее на руки, усадил в свое кресло, сорвал с дивана плед и силился ее укутать.
Луиза дрожала. Она не могла вымолвить ни слова.
Петр стремительно вышел из комнаты, тут же вернулся с бутылкой воды, выплеснул виски из стакана в окно, налил в него воды и поднес к ее губам. Стуча зубами о край стакана, Луиза сделала несколько глотков и поперхнулась.
Он выждал, поднес к ее губам всю бутылку, попросил отпить еще глоток, а затем, гладя по взмокшим волосам, приподнял кончиком пальца ее подбородок и попытался заглянуть ей в глаза. Но Луиза, от неспособности что-то вымолвить, опять захлебнулась слезами.
– Нельзя же так, Луизенок… На что это похоже, – бормотал он.
– Мне плохо, – произнесла она. – Ты понимаешь? Мне ужасно плохо… Всё не так… Я так устала. Это было гадко, только что?
– Ничего нет в этом гадкого, – сказал Петр. – Уверяю тебя. Давай отдышимся, оденемся и пойдем на улицу.
– Это было мерзко… мерзко, – лепетала она.
– Ничего мерзкого.
– Ты не понимаешь. Я не об этом… – И она вновь разразилась рыданиями.
Петр наполнил стакан почти до краев и заставил ее выпить всю воду, после чего всё же догадался закрыть дверь в кабинет и, дав ей немного прийти в себя, заговорил быстрым шепотом:
– Мы всё изменим. Обещаю тебе. Мне тоже трудно. У меня тоже всё не так в этом году. Если бы не ты, я бы вообще не знал, что делать. Но всё уладится, я уверен! Если тебе надоела такая жизнь… деревня, однообразие… то я могу продать этот дом и купить что-нибудь в Париже. Да мы вообще можем переехать куда угодно! Ломов вон всё бросил. Все думают, что он рехнулся. Но он прав. Так больше жить нельзя. Ну ответь мне что-нибудь?
– Пэ, мне скучно жить… и неинтересно… Не здесь, в Гарне, а вообще! Ты понимаешь? Вообще скучно жить…
– Да… я понимаю. Всем скучно, – сказал он, помедлив. – Одни это чувствуют остро. У других шкура из толстой кожи, вот и вся разница… Не все признаются, вот и всё… Или вся беда в возрасте? Может быть, всё дело в том, что я старше тебя? Какую жизнь я тебе устроил?
– Нет, при чем тут это?
– Ты знаешь, что я хотел тебе предложить? Мне нужно ехать к Ломову в конце июня. Если хочешь, поедем вместе? Ты же никогда не была в России. Поедем в Петербург… да куда захочешь! Это покруче любых Сейшел… Что ты молчишь?
Зрачки ее дрогнули. Непонимающе всматриваясь в него, Луиза едва слышимо проговорила:
– Это возможно?
– Конечно возможно.
– Тогда дай мне слово.
– Решено!
– Скажи, Пэ… ты никогда не оставишь меня?
– Какой вздор!
– Мне иногда страшно, я сама не знаю отчего. Ну а вдруг что-то заставит тебя, ты понимаешь? Или меня?
– Ничто не сможет заставить.
– Такого не бывает.
– Бывает. Мне ведь не двадцать лет. В некоторых вещах я уже разбираюсь… Я нашел всё, что мне нужно.
– Однажды всё равно что-нибудь изменится. Ведь не могут чувства не меняться с годами, – усомнилась она, и в лице ее появилась холодная задумчивость.
– Так все говорят. Но зачем думать о том, что будет потом, когда неизвестно, что будет завтра. Потом это перейдет во что-то другое. Да и откуда в нас такая уверенность, что другое будет хуже? Давай договоримся: между нами больше не должно быть недомолвок. Если что-то не так, если тебе трудно, скучно, ты должна сказать мне об этом. Обещаешь?
Луиза кивнула, но по ее лицу вновь сбегали слезы. Вцепившись ногтями в его запястья, она потребовала, чтобы он больше не произносил ни слова.
Из-за ангины Луиза оставалась в Гарне безвыездно всю неделю. Дни напролет она проводила в обществе Мольтаверна, и тот всё охотнее делился с ней воспоминаниями о прошлом и о Легионе.
Что было правдой в его рассказах, а что вымыслом и хвастовством, разобраться было нелегко. Стараясь произвести на Луизу впечатление, он безусловно подмешивал в свои рассказы много такого, о чем некогда слышал от других сослуживцев. И всё же многое из того, что Луиза доносила потом до сведения Петра, его озадачивало.
Так, однажды Мольтаверн поделился с ней, что служил в Легионе под чужой фамилией. На службе он числился якобы не как француз, а как подданный Великобритании, что давало ему возможность сохранить британское гражданство после демобилизации. Оставалось гадать, для чего подобная конспирация могла понадобиться в боевых частях, в которых он служил.
Пытаясь удостовериться в том, что служба в Иностранном легионе давала человеку возможность выбелить свою биографию и даже изменить ее, Петр листал по ночам книги, которые не переставала заказывать для него Анна. А однажды, шутки ради, он проделал с Мольтаверном безобидный эксперимент. В ходе обычной застольной дискуссии он неожиданно обратился к нему по-английски, вскользь заметив, что если он выдавал себя когда-то за англичанина, то должен как минимум владеть английским.
От полученного ответа Петр буквально остолбенел. Мольтаверн совершенно свободно говорил по-английски. Он мог бы похвастаться своим выговором: в него лишь иногда закрадывались простоватые уличные интонации.
После этого случая Петр прислушивался к рассказам Мольтаверна уже по-другому – к тому, как он расписывал казарменную жизнь, службу в Африке, в Чаде, куда попал будто бы в восемьдесят четвертом году и откуда вернулся, переполненный леденящими душу впечатлениями. Мольтаверн подчас разглашал невероятные вещи. Так, например, однажды он вдруг стал рассказывать – если его рассказы, конечно, можно было принимать за чистую монету, – как легионеры злоупотребляли нищетой местного населения. Сначала соседи по дислокации – речь шла о батальоне морской пехоты, – а затем и некоторые его ближайшие сослуживцы, из его подразделения, опускались до такой низости, что выменивали на хлеб несовершеннолетних девочек. Нищие изголодавшиеся родители приводили дочерей на ночь, отдавали их в коллективное пользование как есть – голодными, чумазыми. Так что сначала малолетних «грязнуль» приходилось отмывать и откармливать…
Мольтаверн утверждал, что в самом начале военных действий в Персидском заливе, ровно через три дня после знаменитой бомбардировки, которую добрая половина человечества могла наблюдать по телевизору, не вставая со своих диванов, он разгуливал по окрестностям Багдада с голубым беретом на голове. В Багдад он был десантирован. Группа спецназа насчитывала около пятидесяти «бойцов-головорезов» из французского Легиона, но среди них были и американские военнослужащие. Задание заключалось в том, чтобы «стереть с лица земли» бункеры Хусейна и его вместе с ними. К выполнению «задачи» уже было приступили. Но «генералы» отозвали десант назад во избежание назревающего скандала. О спецоперации, которая являлась вопиющим нарушением полномочий, полученных от ООН американским контингентом, пронюхал будто бы кто-то из журналистов.
Одно из открытий, сделанных Луизой, заставило Петра вызвать Мольтаверна на серьезное объяснение. По утверждениям Луизы, Мольтаверн не был круглым сиротой, как все считали. У него будто бы была родная сестра. Жила сестра на юго-западе Франции, в Пиренеях.
Этот разговор состоялся вечером. Приехав в Гарн с наступлением темноты, Петр застал Мольтаверна в саду. Починив старый поливочный треножник, Мольтаверн начинал поливку газонов в нижней части участка, устанавливал треножник со шлангом на правой стороне газона, в придачу к двум другим, которые уже покрывали брызгами газон возле розария. Когда Петр, наспех переодевшись, босиком приблизился к нему по траве, Мольтаверн был вымокшим с ног до головы, а по локти еще и в чем-то черном.
– Леон, лучше перенести вон туда, левее! – на ходу попросил Петр. – Я вчера не стал всё поливать, поздно было… Тебе удалось починить эту штуковину?
– Я прочистил засор, – ответил Мольтаверн, вытирая лоб тыльной стороной руки. – И резьбу сорвало. Я хомут пока присобачил. Потом починю…
– Молодец, спасибо…
Оглядев политые кусты, Петр с наслаждением топтался босыми ногами по намокшему как губка, издающему хлюпающие звуки газону.
– Опять жарища стояла? – спросил он.
– Так себе, терпимо… Вы лучше отойдите к кустам, а то вас обольет.
Стараясь развернуть разбрызгиватель, Мольтаверн отшвырнул шланг ногой в сторону и сам оказался под струей воды.
– А в городе духота, невыносимо, – сказал Петр. – Еще неделя такой жары, и всё выгорит подчистую.
– На завтра дождь обещали.
– Леон, я хотел с тобой поговорить. Оставь всё на минуту… Но только переоденься, ты мокрый весь…
Мольтаверн не любил загадок. Мгновенно сникнув, он всадил ножки разбрызгивателя в землю, ополоснул под струей воды руки, по самые плечи, и неторопливо зашагал к себе.
Через несколько минут он вернулся в сухих джинсах и майке и приблизился к Петру. Вместе они пошли в обход розария.
– Ты прости меня за прямоту, но у тебя действительно есть родня? – спросил Петр.
– Луиза доложила? – Помедлив, тот усмехнулся.
– Ты же понимаешь, что это слишком неожиданно для меня.
Глядя себе под ноги, Мольтаверн шел молча. Петр остановился:
– Сестра, если я правильно понял? В Пиренеях?
– Не в Пиренеях… под Даксом.
– Леон, не вижу, что это может изменить в наших отношениях, – сказал Петр. – Но объясни, к чему такие тайны?
– Да нет никаких тайн… Вы как будто не понимаете, что родственников теребят первым делом, когда что-то не так.
– Да брось! Мы в свободной стране живем. Есть законы, нормы всякие.., – отмахнулся Петр. – Родная сестра?.. Или еще кто-нибудь есть?
– Только сестра. Родная.
– Ты видишься с ней?
Мольтаверн отвел взгляд в сторону.
– Нет, что вы… После Легиона съездил, конечно. Прямо из Корсики… Из Кальви, к ней и поехал. В Кальви у нас казармы, – пояснил он. – Пока всё шло как-то, и деньги были… У нее ведь дочка, муж. Она совсем не такая, как я.
– Какие деньги, откуда? – спросил Петр.
– В Легионе платят. Тратить некуда, и накапливается. У меня была пачка денег. Тратил. Моя племянница – такое дитя!
– Сколько ей?
– Уже десять.
– А муж кто?
– Инженер. В связи где-то работает.
– В армии?
– Да почему в армии? На почте, кажется. И пьет как сапожник…
– Тогда почему ты не поддерживаешь с ней отношений? Почему, например, тебе не съездить к ней на день, два… Деньги на дорогу у тебя есть. Стыдиться тебе тоже теперь нечего… если тебя это останавливает. У тебя теперь всё нормально.
Переборов замешательство, Мольтаверн с апломбом переспросил:
– А что нормально?
Петр рассеянно смотрел в вечерний мрак, опускающийся над садом, и что-то обдумывал.
– Пойдем, сейчас стемнеет, – сказал он и направился вверх. – Я хотел вот еще что сказать… Только предупреждаю: насколько всё это реально, я пока не знаю, но у меня намечается возможность помочь тебе… обеспечить тебя жильем. Постоянным.
На шаг приотставая, Мольтаверн принял настороженный вид.
– Может получиться, что я смогу тебе что-нибудь купить. Безвозмездно, в твою собственность, – продолжал Петр. – Что-нибудь, конечно, очень скромное. Пока это так, на стадии проекта. Но мне хотелось бы знать, что ты думаешь об этом.
– На какие шиши?
– Деньги есть… Точнее, будут. Не мои, не волнуйся. Всего объяснить не могу. Но один близкий человек предлагает около двухсот тысяч.
– Просто так, что ли?
– Да, представь себе.
– Такого не бывает.
– Иногда бывает. Я совершенно серьезно говорю, Леон.
– Я не смогу принять.
– Почему?
– Да потому что не бывает такого.
– Вот что… Ты подумаешь, решишь сам, что ты хочешь… чтобы это исходило не от меня, а от тебя самого, договорились? А я тем временем всё выясню, и вернемся к этому разговору.
– Даже не думайте! Вы за кого меня принимаете?
– За кого бы я тебя ни принимал, так не может продолжаться! – осадил Мольтаверна Петр. – Ты не можешь всю жизнь жить в нахлебниках. Далл’О, может, и не очень тебя любит, но он прав… Что касается меня, то знай, я привык к тебе, ты всегда сможешь у меня работать, если будет желание. Но в главном пора определяться. Тебе же не двадцать лет. Ты не для того столько пережил и столько хлебнул в жизни, чтобы мыкаться теперь, в твои-то годы. Нужно уметь принимать помощь от людей. Иначе сам не сможешь никогда помогать другим. Есть такой закон… Понимаешь меня?..
Предложение, сделанное Мольтаверну в тот вечер, Петр обдумал заранее. Уже не первый день пытаясь взвесить все за и против, он не мог прийти к чему-либо определенному. Он не был уверен, что суммы будет достаточно для приобретения жилья, пусть самого скромного. После всех обязательных выплат от доли Фон Ломова должно было остаться, по его подсчетам, не более двухсот тысяч франков. Однако после разговора с Мольтаверном Петр неожиданно для себя утвердился в мысли, что идея сама по себе правильная. Теперь он был окончательно уверен в том, что если Фон Ломов будет настаивать на своем – а сомневаться в этом пока не приходилось, – то Мольтаверн окажется идеальным «кандидатом».
Неожиданным образом сходились все концы. Несмотря на то, что вопрос с продажей доли Фон Ломова в кабинете казался делом принципиально решенным, проблема использования этих средств могла быть окончательно урегулирована только с поездкой в Москву, и Петр пытался как можно скорее завершить свои текущие дела, чтобы ее ускорить.
В первых числах июня Петр направил в нью-йоркскую адвокатскую контору «Лоренс Юниор Лимитед», с которой кабинет поддерживал многолетние партнерские отношения, не совсем обычное поручение. Он просил навести справки о неком Арчи Котсби, подданном США, в связи с тем, что кабинет взял на себя защиту интересов французской пары, которую этот самый Арчи Котсби преследовал за неуплату долга. Пара собиралась подавать на американца встречный иск по обвинению в вымогательстве, в подлоге и т. д. В Версале нужна была информация, причем самая исчерпывающая, какую только можно было собрать, и желательно с какими-нибудь документальными подтверждениями из личного дела американца; такие данные, по сведениям Петра, имелись в картотеках американской полиции. Кроме того, он просил уже сегодня навести справки о платежеспособности Котсби…
Меркантильная тяжба Жоссов, которую Вельмонт буквально свалила на Петра, оказалась в духе тех стародавних эпопей, замешенных на уголовщине, которые попадали в кабинет при Фон Ломове. Заниматься этой тяжбой Петр поначалу отказался. Всё, что он пообещал, – это помочь паре советом, подстраховать, но без личных рандеву, по телефону, а также поговорить со своими компаньонами в надежде, что кто-нибудь из них проявит к делу интерес или хотя бы поможет подыскать в своем кругу кого-нибудь понадежнее, с опытом, кто не будет обирать Жоссов до последней нитки…
Компаньоны ничего определенного не обещали. И когда в начале июня Сюзанну Жосс в очередной раз вызвали к судебному следователю – дача показаний должна была состояться в присутствии «потерпевшего», за которого американец себя выдавал, с целью сличения показаний обеих сторон, – Петр согласился сопровождать Жоссов на эту встречу и попросил приехать накануне в Версаль, чтобы окончательно отработать вместе линию поведения…
Судебный следователь, который вел дело Жоссов, к этому времени уже не принимал их за злостных мошенников. Он понимал, что они стали жертвой обмана. По имеющимся у него сведениям, имя Арчи Котсби, подавшего на них в суд, уже не в первый раз фигурировало в аналогичных разбирательствах. Американец проходил по таким делам свидетелем или, как и в этот раз, «потерпевшим». В мошенничестве и в незаконных финансовых операциях Котсби уже не раз обвинялся за границей. С французским же правосудием он умудрялся оставаться в ладах. Но как бы то ни было, в данном конкретном случае обстоятельства складывались таким образом, что закон был не на стороне Жоссов.
Жоссы полагали, что на собеседование к судебному следователю сам Котсби не явится, под любым предлогом, в таких случаях обычно посылают адвоката. Каково же было их удивление, когда, приехав на встречу, они заметили в конце коридора силуэт американца. Супруги выглядели сраженными. Появление Котсби свидетельствовало о его полной уверенности в своих действиях.
Американец пришел не один, с адвокатом – рослой худой дамой за пятьдесят. Петр видел ее впервые. По сведениям Жосса, которые ему удалось собрать через свои каналы, защитница Котсби занималась делами самыми разнообразными – от бракоразводных до уголовных, имела большое личное состояние и была известна в среде торговцев антиквариатом, поскольку время от времени вела крупные дела, связанные с защитой наследственных прав членов семей покойных знаменитостей.
На протяжении всего допроса Петр отмалчивался, лишь вскользь вставлял короткие замечания, которые касались процедуры следствия, а не сути дела, и делал пометки в своем блокноте. Сюзанна Жосс отвечала на вопросы именно так, как он просил, она не допустила ни одного промаха. Когда же сама она мельком переводила на него взгляд, чтобы проверить его реакцию, ей казалось, что он чем-то раздосадован.
Петр попросил слова только под конец. Не давая себя перебивать, он заговорил непривычной для Жоссов складной речью, нанизывая фразы одна на другую, отчего сказанное как бы зависало в пустоте, но тем самым возникало ощущение, что суть не разматывается, как катушка ниток, а как бы разрастается сразу во все стороны. Петр располагал не менее полным досье на американца, чем следователь. Имевшиеся у него сведения можно было смело отнести к категории конфиденциальных, доступ к ним могли иметь только службы полиции, – этими документами удружил ему Мартин Грав, отважившись пустить в ход свои семейные связи. Следователь не преминул сделать замечание по этому поводу, однако не стал ничего опровергать.
Доводы Петра сводились к выявлению тех сторон дела, которые и так казались очевидными, без лишней аргументации, но еще никем не были высказаны вслух. Обвинение Сюзанне Жосс предъявлял человек, «по которому плачет не одна тюрьма Европы». Заключалось же это обвинение, по сути дела, не в мошенничестве, а в заурядной неосведомленности, в незнании законов и в неосмотрительности, которую Сюзанна Жосс допустила.
Следователь не отрывал глаз от вороха бумаг, которыми был завален его стол. Американец Котсби – степенного вида рослый блондин с рыбьим ртом, одетый в хорошего пошива серый костюм, но без галстука – время от времени откидывался на спинку стула и хватал ртом воздух, как бы переполняясь смесью негодования и вместе с тем восхищения, которое не мог не испытывать перед дьявольской изобретательностью своего оппонента, но при этом не терял самообладания. Его защитница тоже не считала нужным встревать в разговор, хотя он и принимал неожиданное направление. Она что-то шептала Котсби на ухо и продолжала следить за происходящим с явным оживлением в глазах.
Результат не заставил себя ждать. Следователь, хотя и неофициально, встал на сторону Жоссов, недвусмысленно заявив, что обвинение против них, скорее всего, не «выдержит испытания временем»…
Такой удачи Жоссы не ожидали. Пока все вместе они направлялись к выходу, сбитые с толку и взбудораженные Жоссы кружили вокруг Петра, наступая друг другу на ноги, и даже не слышали его объяснений. Он пытался их урезонить. Рано было ликовать. Дело только набирало обороты. По мнению Петра, американцу ничего другого теперь не оставалось, как ужесточить свои позиции. Он мог полезть на рожон. Петр советовал готовиться к новым ударам.
Жосс не мог взять в толк, с чего это их запугивают сложностями в такой момент, когда всё складывается так удачно. Однако затевать первым серьезный разговор о дальнейших совместных шагах не решался.
Остановившись посредине тротуара, Петр хотел было попрощаться. Но Жосс, озадаченный его поспешностью, предложил вместе поужинать. Они могли заказать стол в знакомом ему ресторане, находившемся как раз неподалеку. Достаточно было позвонить. Или в другом, рядом с галереей жены, где всегда подавали хорошие устрицы.
Вид пары, особенно мужа, брал за живое. Заискивающее лицо Жосса таяло от эмоций. Это была смесь добродушия, сожаления и даже доброты, обыкновенной, с трудом скрываемой, как казалось Петру, которой он не замечал у того прежде. А манера волочить ноги, подметая штанинами пол, придавала ему вид беспомощный и какой-то обреченный. Стоило остановить на нем взгляд, и всё казалось безнадежным. Что стоила одержанная только что победа? Она казалась бессмысленной.
Петр должен был вернуться в Версаль, домой тоже хотелось приехать пораньше. Приглашение он отклонил.
– Какой всё же неприятный тип, – виновато вздохнул он.
– Котсби? Мерзавец, каких свет не видывал! – встрепенулся Жосс.
– Не понятно, как таким удается околпачивать людей… Ведь на лбу написано, что прохвост… – Петр вскинул на обоих вопросительный взгляд.
– Вы не представляете… нет, вы не представляете! – подхватила Сюзанна Жосс. – Какая гора свалилась с наших плеч! Не знаю даже, как вас благодарить, какими словами… Я Бруно говорила: нам очень повезло, что вы согласились. А поначалу мы оба как-то… одним словом, мы вам обязаны, до конца дней.
– Сюзанна.., – осадил жену Жосс.
Жосс поинтересовался делами Мольтаверна. В двух словах Петр изложил последние новости, обсуждать тему всуе, посреди улицы ему не хотелось.
Сюзанна Жосс с пониманием заметила, что им тоже пришлось помучиться с устройством Мольтаверна на работу, и тут же смутилась, понимая, что проговорилась: в свои неудачи Петр их не посвящал. Было очевидно, что сведения доходят до них через Шарлотту Вельмонт.
На прощанье пожимая руку, Жосс приглашал приехать на ужин к ним домой, в конце недели или в любой другой день. Заодно Жосс предлагал «прихватить с собой» Мольтаверна. И он и жена, а особенно дети были бы рады на него посмотреть.
Петр пообещал позвонить через день, чтобы условиться о встрече, он еще не знал своих планов на конец недели.
Не поверив ему и с трудом скрывая свое неверие, Жоссы направились к своей машине…
– Вы были правы. Он полез на рожон! – объявил Жосс, позвонив в Гарн два дня спустя.
Жосс принялся объяснять, что американец нашел нового «свидетеля». Им оказался пожилой куртье, некогда державший в Париже галерею, но обанкротившийся. Когда-то давно Жоссы даже водили с ним знакомство. И вот выяснялось, что тот готов давать показания в пользу американца, вероятно просто за деньги. Куртье без зазрения совести утверждал, что присутствовал при заключении «сделки» и что злосчастный «гарантийный» чек, выписанный истцу, был якобы первым взносом за покупку.
– Как вы узнали об этом? – спросил Петр.
– Позвонила его адвокатесса… которая приходила к следователю… Она послала мне его показания, хотела со мной встретиться. Я отказался… от встречи. Правильно сделал, как вы считаете?
– Разумеется, правильно. Только с какой стати она вам звонит? Почему не мне?
– Я вот тоже стараюсь понять.
Жосс настаивал на встрече, чтобы с глазу на глаз обсудить план дальнейших действий. Он не знал, как себя вести, к чему готовиться, считал, что пора обсудить накопившиеся вопросы «глобально».
Петр понимал, что Жосс имеет в виду их недавний разговор, собирается вновь просить и умолять о том, чтобы он взялся вести их дело. В очередной раз взвесив все за и против, в очередной раз махнув на всё рукой, Петр предложил Жоссу заехать в Версаль после семи вечера.
– Вы сказали Леону, что мы хотели его увидеть? – поинтересовался Жосс.
– Он позвонит вам. А я проверю… – Петр солгал; приглашение Жоссов Мольтаверну он не передал, забыл о нем.
– Сегодня мне трудно будет приехать в Версаль, – сказал Жосс. – Но, может быть, завтра вы всё же поужинаете у нас? Жена ждала вашего звонка.
– Нет, завтра никак не получится… – Петр раздумывал. – Сегодня, например… Мне было бы проще сегодня.
– Вот и отлично! Может быть, мне лучше самому позвонить Леону, как вы считаете? – спросил Жосс.
– Я постараюсь приехать с ним, – сказал Петр. – Если он сможет, конечно…
Было еще светло. Но вдоль набережной реки, тонувшей в ранней, уже густой и лохмами обвисшей листве гигантских ив, повсюду горели фонари. Остановившись перед оградой, которую указал Мольтаверн, они вышли из машины и позвонили в ворота.
Открывать вышел сам Жосс. Не по-летнему тепло одетый, в твидовом пиджаке и в темных фланелевых брюках, он спускался к воротам под конвоем своей собачей своры. При виде Мольтаверна он не смог перебороть наплыва эмоций. Лицо его наморщилось в улыбке.
– Бог ты мой, сколько же времени, Леон! – проговорил Жосс, разводя сухими руками и делая вид, что не ожидал этой встречи. – Что же ты не звонишь, не появляешься? Мы надеяться перестали.
Мольтаверн на миг смутился. По примеру Петра, но с показной решимостью он пожал Жоссу руку и стал озираться по сторонам, отбиваясь от лайки, которая, встав на дыбы, радостно обхаживала его со всех сторон черными от грязи лапами. Поймав пса за ошейник, Мольтаверн поцеловал его прямо в нос и произнес:
– Не забыла, дурочка? Ведь не забыла!.. Всё так изменилось. Я бы и не узнал.
– Здесь даже прохладно, – заметил Петр. – У нас вечера душные.
– Это из-за реки… Хоть одно преимущество, – сказал Жосс. – Но комаров полно. И иногда заливает.
– Весной?
– Да если бы только весной… После сильных дождей вода озером стоит… Вон там, где вы машину оставили. Или ты забыл, Леон?
– У них еще и фундамент никудышный, – пояснил Мольтаверн. – При наводнении вода просачивается и погреб заливает – на лодке можно плавать.
– Прошу вас, – пригласил Жосс и ударил в ладоши, в ответ на что свора собак рванула к дому, сбивая друг друга с ног.
Хозяин провел гостей через парадное крыльцо и террасу. Окна и двери на террасе были распахнуты. Они вошли в ярко освещенную гостиную. Здесь было тихо и прохладно. В атмосфере дома что-то изменилось. Чувствовалась какая-то перестановка или недавний ремонт. Стало намного светлее.
На полу у окна лежал некий массивный предмет черного цвета неправильной формы со сквозным отверстием. Петр провел рукой по его шершавой поверхности.
– Привезли на хранение, – сказал Жосс с усмешкой. – Но ни в одну кладовую не входит. И не скажешь, что это скульптура!
– Из полимера какого-нибудь? – поинтересовался Петр.
– По-моему, из гипса… А внутри пенопласт. Теперь многие работают с пенопластом. На весе большая экономия. Даже вы сможете поднять.
– И что это должно изображать?
– Автопортрет! Насчет сходства, правда, не ручаюсь. Я дал ему название «Душа наизнанку», – попытался пошутить Жосс; он взирал на Петра с откровенной, но серьезной улыбкой во всё лицо.
Юмор Жосса был не совсем понятен. Но Петр одобрительно кивал.
В дверях показалась Сюзанна Жосс, в черной блузке из прозрачного кружева на голое тело и босиком.
– Добрый вечер! – произнесла она низким, громким голосом.
Пожав гостям руки, хозяйка дома оглядела Мольтаверна с ног до головы и с ходу упрекнула:
– И не стыдно тебе? Хоть бы раз за всё время позвонил.
– То работа, то думал, вот завтра позвоню.., – бормотал Мольтаверн.
– Так тебе и поверила! – отмахнулась Сюзанна Жосс. – Или правда на работу устроился? А ну, выкладывай!
Мольтаверн скользнул по лицу Петра виноватым взглядом, а затем принялся объяснять что-то невразумительное про парковую зону, откуда его давным-давно вежливо попросили, о том, как местная детвора поджигала в парке мусорные урны и бросала в них охотничьи патроны, – Мольтаверн то ли не понимал, что Жоссы в курсе его приключений, то ли, окончательно растерявшись, запутался и нес что попало.
– Всё ясно с тобой, – заключила хозяйка. – Кстати, ты в крышах что-нибудь смыслишь? Чинить умеешь?
– А что у вас с крышей?
– Да не у меня. Вообще.
– Смотря что за крыша.
– Один мой знакомый предлагает постоянную работу. Хотя, знаешь что, давай потом это обсудим.
В гостиную вошли двое юношей одного роста. Оба загорелые, в шортах, с мужскими, темными от волосяного покрова ногами, оба – вылитая мать. Петр не сразу узнал в юношах старших братьев, которые в первый приезд вышли встретить его к воротам. Поздоровавшись с непонятным подвохом, который угадывался в лицах обоих подростков, они собрали в углу какие-то вещи и увели Мольтаверна через террасу на улицу.
Когда они вышли, Сюзанна Жосс объяснила, что младших детей дома нет, всех отправили на выходные к родственникам, и она не может нарадоваться спокойствию; она словно оправдывалась за отсутствие привычного бедлама.
Жосс предложил аперитив.
– Я бы хотел сразу взглянуть на эту бумагу… с показаниями против вас, – сказал Петр, сев на диван со стаканом виски.
– Питер, вообще мы хотим сделать вам одно предложение, – членораздельно произнес Жосс. – Мы с вами уже говорили об этом, все прежние условия остаются в силе… Но мы с Сюзанной решили не терять времени, не дожидаться, как всё решится с чеком, а сразу же атаковать. Вы сами говорили, что это лучший способ защиты. Бегать и искать кого-то другого – всё равно что с нуля начинать. Вы же знаете, что значит найти хорошего адвоката.
– Я закончу начатое. Те два письма мог написать кто угодно, – заверил Петр. – Пойти к следователю – тоже.
– Так все говорят… А когда доходит до дела, то оказывается, что не всё так просто, – вмешалась жена.
Петр имел в виду свои письма, направленные в мае адвокату Котсби с запросом по поводу двух других аналогичного типа афер, оспариваемых Жоссами. Этими письмами он рассчитывал прозондировать почву и прощупать позиции Котсби, так как Жоссы уже тогда собирались дать ход этим делам. Как он и предполагал, адвокат Котсби отделалась формальными ответами – непризнанием претензий.
– Мы обязаны вам до конца дней, Питер! – провозгласила Сюзанна Жосс. – И не хотим никого другого!
– Я никого не найду в считаные дни, – подхватил Жосс. – Да и ваш корреспондент в Нью-Йорке уже проделал большую работу.
– Не стоит преувеличивать.
– Я не преувеличиваю. К нашей просьбе многие могут присоединиться. Ведь он стольких обманул. Кто-то должен положить этому конец.
– По-моему, вы просто недооцениваете, сколько вам, то есть нам с вами, еще предстоит хлопот с одним только чеком, – сказал Петр.
– Поэтому лучше не терять время… – Жосс смотрел на него с азартным блеском в глазах, чувствуя, что первая позиция уже отвоевана. – Подать встречный иск сразу – вот что я предлагаю. И прошу вас об этом! Это поможет отрезвить его и в деле с чеком. Ну посудите сами!
– Сомневаюсь. И не вижу, на что может опираться такой иск.
– Если бы у меня были доказательства, я бы просто в полицию пошел, – сказал Жосс. – Я об этом с вами и хотел поговорить.
– Это может тянуться несколько лет. И никто вам не даст никаких гарантий. Если Котсби вернется к себе, кто за ним будет бегать по Америке?
– Питер, на прошлой неделе мы узнали, что картина… ну, помните историю с акварелью Ватто? – затараторила Сюзанна Жосс. – Той, с которой он нас обвел аналогичным образом…
– Подожди, Сюзанна, подожди! – не утерпел муж и принялся объяснять всё по порядку: – Один мой знакомый, антиквар, рассказал преудивительную вещь. Этой акварели в действительности у Котсби никогда не было и быть не могло, потому что она принадлежит нью-йоркской галерее. Эта галерея акварель иногда даже выставляет. А сейчас она ищет на нее покупателя. Что получается?.. А то, что Котсби обзавелся фотографией и пытался продавать то, что ему не принадлежит. Он продавал воздух! Просто и гениально.
– Таких растяп, как мы, нужно еще поискать, – сокрушенно добавила Сюзанна Жосс.
Петр не понимал, почему Жоссы не удосужились рассказать ему об этом раньше, он был в некотором недоумении.
– И вот теперь, представьте, – продолжал Жосс, – что мы получим такое свидетельство, например, от этой галереи, которая, разумеется, и понятия не имеет, что какой-то Котсби торговал ее картиной. Мне кажется, это могло бы послужить основанием для иска.
– Вы не представляете всей сложности такого дела, – сказал Петр. – К тому же всё это требует проверки, подтверждений.
– Что Котсби торговал акварелью? Да я вам сколько угодно найду свидетелей! – заверил Жосс.
– Нет… подтверждение того, что нью-йоркская галерея была не в курсе.
– Да я уже пыталась ему объяснить.., – вставила жена.
– Сюзанна, – тихо одернул Жосс. – Я уже проверял. Уверен, что иск возможен. Всех денег, которые он нам должен, мы, конечно, не отсудим. Но какую-то часть…
Тема Котсби не сходила с уст весь вечер. Черная служанка в белом фартуке, глаза которой таяли от беспричинного смеха, обслуживала стол с простодушной незатейливостью – передавала тарелки через стол, забывала принести хлеб, приборы. После овощного супа из порея был подан морской налим, затем сыр с салатом и на десерт черничный пирог, который Мольтаверн оценил первым, разве что нашел его немного «переслащенным». Жосс распечатал бутылку брюта «Вёв Клико», но Петр от шампанского отказался, он предпочитал на дорогу чашку кофе.
Твердого обещания Жоссы от Петра не добились. Но Петр всё же попросил несколько дней на размышления. Он хотел в очередной раз посоветоваться с компаньонами, а также связаться с корреспондентом кабинета в Нью-Йорке, чтобы уточнить, какова в таких случаях процедура привлечения к суду по американскому законодательству.
Когда на следующий день Петр позвонил Жоссам и дал согласие вести их дело, супруги ликовали, и ему не удавалось их убедить, что даже исходя из предварительных оценок и из тех сведений, которые ему удалось на сегодня собрать, успешный исход дела казался ему маловероятным. Позднее Петр не мог преодолеть в себе противоречивого чувства, что сдался под нажимом, дал согласие не потому, что чувствовал себя обязанным оказать услугу, и не потому, что это отвечало интересам кабинета, – компаньоны считали дело выгодным, – а просто потому, что испытывал перед Жоссами стыд за Мольтаверна. Стыд за то, что за всё время, прошедшее со дня его поселения в Гарне, он так и не смог ничего для него сделать.
Новости, приходившие от Ричарда Лоренса, были неутешительными. Негласную часть расследования Лоренс поручил знакомому детективу, некому Маджвику. И тот уверял, что «клиент» подпадает под категорию неплатежеспособных, хотя и живет на широкую ногу. Вся его недвижимость, за исключением небольшой вилы на западном побережье, цена которой якобы не превышала двухсот тысяч долларов, и даже его нью-йоркская квартира в Бронксе официально принадлежали жене, с которой он жил врозь. Счета в банке обеспечены были плохо. Получить сведения по другим счетам, которые Котсби будто бы имел в Европе и на Багамах, пока не удавалось.
Вывод вытекал однозначный: даже если какой-либо иск против Котсби в самих Соединенных Штатах мог привести к желаемому результату, получить с него сумму, превышающую стоимость виллы, было бы невозможно. К тому же в нужный момент тот мог позаботиться и о вилле. Руперт Маджвик советовал как следует подумать, есть ли смысл затевать дорогостоящую юридическую процедуру…
Бруно Жосс сведения детектива ставил под сомнение. Он отказывался верить, что человек, живущий с таким размахом, смог начисто отгородиться от правосудия. Жосс продолжал апеллировать к белому лимузину, в котором Котсби разъезжал по Нью-Йорку, к стодолларовым купюрам, от которых у того будто бы трещали карманы, – он мог лично это засвидетельствовать. Один из знакомых Жосса, парижский антиквар, прошлой весной встречавшийся с Котсби в Нью-Йорке, утверждал, что последнему досталось недавно большое наследство и что Котсби как раз занимается приобретением новых апартаментов, еще более роскошных, чем теперешние. Эта деталь не очень-то совпадала с данными детектива: никаких указаний на получение наследства в сведениях Маджвика не было.
Жосс стоял на своем: они с женой были загнаны в угол и готовы на любые жертвы. Продолжая настаивать на иске, Жосс клялся и божился, что выполнит свои обязательства и в отношении гонораров за услуги, и в отношении текущих расходов. Он обещал покрывать все издержки, во что бы то ни стало, даже если в итоге не сможет окупить своих затрат. Ответственность за неудачу Жосс брал на себя. Но его чрезмерно эмоциональное отношение к делу Петра как раз и настораживало.
Когда Жосс однажды заговорил о том, чтобы вместе поехать в Нью-Йорк и разобраться во всём на месте, Петр не придал разговору значения. Но, как вскоре выяснилось, Жосс всерьез ухватился за эту идею. Мало-помалу перспектива поездки – короткой, как Жосс уверял, всего на пару дней – стала обретать реальные очертания, во всяком случае, для самого Жосса.
Петр и думать не хотел ни о каких поездках теперь, в начале лета. Работы в Версале накопилось невпроворот. Он не укладывался в сроки. Растягивать график работы по другим досье тоже было невозможно. Не хватало времени на садовые мероприятия в Гарне, где забот прибавлялось изо дня в день. Не хотелось откладывать в долгий ящик и дела Мольтаверна. Но больше всего ему претила мысль, что придется оставить Луизу одну. Как раз теперь требовалось его присутствие. Поездка в Москву, намеченная на конец месяца, в этом случае никак не смогла бы состояться в нужные сроки…
Предложенный Жоссом выход на галерею на Ист-Сайд-авеню, которой принадлежала акварель Ватто, какое-то время назад предлагавшаяся Арчи Котсби на продажу, требовал, на взгляд Петра, более тонкого подхода. В таких делах не рубят сплеча. Казалось очевидным, что хозяева галереи не примут на ура обращение за свидетельскими показаниями, не захотят афишировать свою причастность к подобным аферам, ведь с их точки зрения это могло нанести урон их репутации. О даче прямых свидетельских показаний бесполезно было и думать. К тому же Лоренс, как и Петр, не был уверен в другом – что между галереей и Котсби не завязалось какой-нибудь «куртуазной» договоренности о содействии друг другу. Ведь тот вполне мог поставлять им клиентов, попавших в его сети, и получать таким образом свои проценты. И волки были бы сыты, и зайцы целы. Эта гипотеза казалась Лоренсу наиболее правдоподобной.
Понимая, что дальнейший ход дела будет зависеть от того, каким получится контакт с галереей, Жосс принимал меры со своей стороны. Ссылаясь всё на того же антиквара, некого Ломбера, снабжавшего его пикантными сведениями, который будто бы имел прямой «выход» на галерею, лично знал ее владелицу, поддерживал с ней многолетние дружеские отношения, Жосс уверял, что после первого же разговора по телефону с хозяйкой галереи знакомый начал его обнадеживать и даже готов был при необходимости сопровождать Жосса в эту поездку. От слов Жосс перешел к делу: он стал планировать поездку на двадцатые числа июня.
Лоренс одобрил и этот шаг. Он готов был присутствовать на встрече в галерее и присматривать за действиями Жосса, а в случае успеха мог помочь оформить показания в надлежащей форме, чтобы они имели реальную силу. Тем временем Лоренс предлагал разобраться с фотографией, которой Котсби пользовался в Париже. Фотография акварели, которую Котсби некогда вручил Жоссам, была сделана анонимным профессиональным фотографом. На снимке даже была видна рамка, в которой акварель вывешивалась в галерее. Поскольку же было решено исходить из гипотезы, что галерея к афере отношения не имела, получалось, что снимок сделан где-то вне ее стен. Необходимо было отыскать фотографа и выяснить, при каких обстоятельствах это произошло; его показания могли оказаться ценными.
За пять дней до отъезда Жосса в Нью-Йорк Петр получил известие, которое разом опрокинуло все планы.
В Версаль позвонила ассистентка Лоренса мисс Эразм. Она огорошила сообщением, что «шеф» прямо с каникул, которые проводил с детьми под Кливлендом, попал в больницу с пиелонефритом. Рассчитывать на Лоренса в ближайшие дни было невозможно.
В таких условиях поездка теряла всякий смысл. Необходимо было перенести ее на неделю или на две, до выписки Лоренса из больницы. Однако мисс Эразм не была уверена даже в этом – что всё обойдется одной неделей.
Петр не знал, какими доводами на Жосса воздействовать. Тот же не сомневался, что отсрочка может испортить всё дело. И по-своему был, конечно, прав. Но и позволить ему лететь на пару с антикваром, без поддержки на месте, Петр не мог, даже если бы был уверен, что в чем-то может помочь мисс Эразм да и сам Лоренс с больничной койки.
Выхода не оставалось. И он позвонил Жоссу и дал согласие. Он готов был сопровождать его куда угодно, хоть на край света, но просил об одном – сжать поездку по времени до минимума.
В тот же вечер Жосс заказал три билета на утренний рейс, вылетавший через день, забронировал номера в гостинице и даже позаботился заранее об ужине в одном из известных ресторанов Манхэттена…
Антиквар Ломбер производил впечатление компанейского человека, хотя и замкнутого, чем, по-видимому, и объяснялась его чудаковатая манера сводить любой разговор к шутке. Для собеседника это было скорее утомительно. Высокий, ладный, темноволосый, зеленоглазый, антиквар хорошо и просто одевался. Его инициалы J. L., вручную вышитые на груди рубашки в тонкую красную полоску, придавали его облику что-то непринужденно домашнее и, вопреки всему, располагающее к доверию.
Как только «боинг» набрал высоту и на борту стало солнечно, Жосс отключился. Накрыв голову газетой, он время от времени выглядывал из-под разворота на попутчиков, словно проверяя, все ли на месте, но взгляд его оставался стеклянным. А затем бортпроводница принесла ему тряпичную маску для глаз.
Просматривая американские газеты, Петр не делал над собой больших усилий, чтобы поддерживать разговор с антикваром. Тот не переставал балагурить и на невнимание к себе не обижался. Делясь своими планами на время пребывания в Нью-Йорке, Ломбер тоже жаловался на переворот в его планах (да ведь собирался лететь в Женеву, а не в Нью-Йорк!), взывал к сочувствию по поводу своего «катастрофического» безволия, поскольку недавно завязал с курением, но день назад опять не выдержал, сорвался, закурил, и вот теперь приходилось начинать всё сначала. После завтрака, после бокала шампанского, Ломбер окончательно расслабился и вовсю заигрывал с костлявой, как старушка, но миловидной бортпроводницей, в который раз подзывал ее, о чем-то на ухо просил, отчего та розовела, поводила бровями, становилась задумчиво-раздраженной, но старалась сохранить на лице улыбку. Затем Ломбер стал рассказывать о своем антикварном магазине, уверял, что настоящие знатоки, что-то смыслящие в антиквариате, давно перевелись и что большинство его собратьев по профессии давно не в состоянии отличить дешевки от подлинника. В подтверждение своих слов антиквар принялся рассказывать о недавно случившемся с ним лично:
– Заходит в магазин посетитель, всё пересмотрел и наконец садится. Мы вроде не знакомы, но по виду – клиент. Просидел минут тридцать, опять всё пересмотрел. «Возьму, – говорит, – вот эту. Цену снизить можете?» Я говорю, что могу. «Тогда я такси отпущу…» Вышел, вернулся назад: «У вас не будет пятьсот франков в счет покупки? Я такси отпущу…» Я даю ему пятьсот франков. Он уходит платить – и что-то нет его. Выхожу на улицу – ни души. Исчез! Ни его, ни денег. Ну разве не гениально?.. Таких я уважаю. Если бы все с такими усилиями зарабатывали себе на хлеб…
По прилете стояла испепеляющая жара. Все трое тут же расстались с пиджаками. Но пока вышагивали к стоянке такси, успели взмокнуть и в рубашках. Затем такси долго тащилось до гостиницы. Повсюду тянулись пробки. Жосс и Ломбер обкуривали пожилого, некурящего шофера со сморщенным в гармошку лысым затылком, который не осмелился запретить им курить, решив, видимо, что, побаловав немного троих мужчин-иностранцев в костюмах, получит от них неплохие чаевые, и теперь явно жалел о своем попустительстве.
Еще более взбудораженный, чем во время полета, Ломбер опять что-то объяснял, показывал то в одну сторону, то в другую, затем куда-то вдаль, за мост. Петр следил за его жестами, ловил себя на мысли, что с тех пор, как он побывал здесь в последний раз несколько лет тому назад, многое изменилось. Кроме мостов да общеизвестных видов на город городов он практически ничего не узнавал. Жосс, с сонной, застывшей улыбкой, какой-то оглушенный и шумом города и жарой, как и во время полета, к дискуссиям оставался безразличен…
В вестибюле гостиницы стояла спасительная прохлада. Чтобы не отстать от своих чемоданов, которые прислуга торопливо понесла в номера, в разные концы бесконечных коридоров, пришлось друг с другом расстаться.
Поднявшись в свой номер, Петр попросил открыть окна и около двадцати минут отлеживался в исполинских размеров ванне, наполнив ее холодной водой, а затем сидел перед окном, из которого тянул теплый ветер, разглядывал бескрайний вид на город, такой же, как и все города на свете, и ловил себя на странной мысли, что ветер здесь всё же не такой, как дома, в Париже или в Версале. Воздух был насыщен другими запахами.
Он еще не успел одеться, как в дверь постучали. Жосс звал к себе перекусить: он заказал в номер не то повторный завтрак, не то легкий обед.
Ломбер и Жосс, оба с красными, воспаленными глазами, принялись вяло за сандвичи. Подсев поближе к столику с откупоренной бутылкой красного вина, с посудой для чая и кофе, Ломбер отложил свой бутерброд и устало вздохнул. Жосс, тоже успевший переодеться в более легкую одежду, в светлые брюки и рубашку с короткими рукавами, прохаживался сутулясь по комнате, в одной руке держа чашку с чаем, в другой бутерброд. Бесконечный городской вид за окнами явно приковывал его взгляд, по лицу его блуждала улыбка смутного удовольствия. Петр, присев на край кровати, нацедил себе из кофейника вторую чашку кофе, но к сандвичам так и не притрагивался.
– Ни облачка… Чего не ожидал, так это попасть в пекло, – пожаловался Жосс, показав бутербродом в окно. – Перед вылетом узнавал, мне сказали, двадцать градусов.
– Это еще что! В последний раз было тридцать пять, – заметил Ломбер. – Вы представляете?
– Этим летом? – удивился Петр.
– Нет, прошлым. Вы перекусили бы что-нибудь… Нет аппетита?
– Жарко слишком.
– А я привык. В моей профессии есть одно преимущество – ко всему привыкаешь, как хамелеон. Когда только-только начинал, я и представления не имел, что придется столько мотаться по свету, ей-богу! – охотно делился Ломбер. – А теперь…
– Я и сегодня представления не имею, зачем вам нужно мотаться по свету, – немного в шутку заметил Петр.
Ломбер покосился на него одним глазом, дожевал и, опять вздохнув, согласился:
– Смотря кому, вы правы. Смотря чем торгуешь… Честное слово, не поверите: думал – покой, какая-то жизненная стабильность. Ничего подобного! – Антиквар взял с подноса еще один бутерброд, проверил начинку, как следует откусил от него и, не прожевав, спросил: – Вам, как я понимаю, тоже достается?
– Ездить? Нет, я редко бываю за границей.
– Да и потом, мне легче, я человек городской, – продолжал Ломбер. – Когда живешь или работаешь в городе, это не так тяжело выносить, вот как ему, например, а, Бруно?
– Я тоже городской, – сказал Петр.
– Вы разве не за городом живете, как Бруно? – спросил Ломбер.
– Да, но контора в Версале.
– Тогда конечно.
После некоторого молчания Ломбер вновь заговорил:
– Один мой клиент работает при статистическом агентстве. Он мне рассказывал, что имеется статистика, согласно которой поголовное большинство людей… точную цифру не помню, но что-то около девяноста процентов или больше… считают, что просчитались профессией. Но удивительно не это. Был сделан подсчет, и получилось, что если бы люди выбрали новые, называемые в момент опроса профессии, то полученная картина ничем не отличалась бы от уже существующей в конечном итоге. Получается, что от смены мест слагаемых сумма не меняется. Занятно, не правда ли? Жизнь играет людьми, как мячиками. Но в этом хаосе есть всё же поразительный порядок… – Ломбер победоносно сиял, чувствуя, что на этот раз своим балагурством озадачивает. – Скажу больше, сам я делал такое наблюдение: спросите у человека, кем он хотел когда-то стать… но уже будучи не ребенком, конечно, а взрослым… и вы поймете о нем больше, чем из всего того, чем он в реальной жизни, сегодня занимается. Не согласны со мной, Бруно?
Жосс смотрел на обоих с застывшей улыбкой. Как могла между ними завязаться дискуссия на такой почве?
– Мы и сами можем проделать простой эксперимент, – продолжал антиквар. – Достаточно каждому из нас чистосердечно признаться в том, кем он хотел когда-то стать, и вы увидите, как это будет очень неожиданно. Хотите попробовать?
– Начинайте первым, Жак, валяйте, – сказал Жосс, сдерживая улыбку. – Кем это вы хотели стать, да не стали?
Ломбер взял со столика бутылку бордо, налил себе полбокала, пригубил вино, как профессионал-дегустатор, сложил губы в дудочку, втянул щеки, после чего с серьезным видом ответил:
– Виноделом! После того как понял, что не стану пожарником, а в пять лет, как все мальчишки, мечтал об этом, понятное дело… У нас в семье, по линии отца, у всех были виноградники… – Дожидаясь реакции, Ломбер помолчал, а затем принялся объяснять: – Одно время я даже в специальную школу ходил, уже взрослым. А потом, позднее, хотел лошадей разводить. А стал вот… – Ломбер развел руками. – И знаете, как получилось? Я дал себе клятву: никакого бизнеса! Говорил себе, что, как только удастся наскрести на приличную яхту и иметь, конечно, небольшой доход, чтобы жить на воде, на плаву круглый год… как только смогу – всё брошу. Но все мы мечтаем! – Вздохнув, Ломбер отхлебнул вина и, с недоумением уставившись в бокал, задвигал щеками. – Черт знает что… Только в Нью-Йорке и подают настоящее бордо. Восемьдесят пятого года, а роскошь какая! Попробуйте… Ваша очередь, Бруно… Уверен, что огорошите.
Как-то неуверенно сжавшись, Жосс просиял до ушей инфантильной улыбкой и вымолвил:
– Я хотел стать автогонщиком… Да и был одно время. В чемпионатах в молодости участвовал. – Лицо Жосса приобрело такое выражение, словно он проговорился о чем-то сокровенном и от этого испытывал облегчение.
– Что я говорил! Автогонщиком! – Антиквар вознес руки к небу и сообщнически покосился на Петра. – А вы, Питер?
– Сначала хотел стать шпионом, – сказал Петр. – А потом…
– Подождите… Можно я попробую угадать?
С улыбкой на губах Петр ждал приговора.
– Писателем?
– Нет, я не пишу, – сказал Петр после секундного колебания. – Разве что в молодости… грешил немного.
– О чем я и говорю!
– И какими же вы руководствуетесь критериями… в ваших пророчествах? – спросил Петр.
Отмахнувшись от вопроса, антиквар стал разливать вино по бокалам:
– У меня жена пишет. В стол, правда. Но этот тип мне понятен, его я безошибочно распознаю… Питер, дайте мне сигарету, оставил свои в номере…
Протянув сигареты, Петр всматривался в балагура озадаченным взглядом. За минуту до этого Ломбер казался ему человеком понятным и прозрачным, не совсем, может быть, заурядным, но всё же типичным представителем своего вида, он даже немного отталкивал своей неоригинальностью, слишком был предсказуем в своих реакциях, из-за чего казался пустоватым. Но теперь Петр сознавал, что перед ним человек-загадка, и в очередной раз был поражен, насколько сам он неважно разбирается в людях…
Встреча в галерее на Ист-Сайд-авеню состоялась в тот же день около четырех часов.
Не успели все трое войти в небольшое, темноватое помещение и раскланяться с владелицей крохотного заведения, болезненно толстой миссис с отвисающим зобом, которая смотрела на гостей сквозь линзы очков немигающими глазами, и не успел Ломбер закончить свой ритуал любезностей, требующий от него заметных усилий, как за окнами раздался грохот – такой адской силы, что все переглянулись. Под громовой раскат пришлось раскланиваться еще и с двумя молодыми помощниками в белых брюках, в обязанности которых входило, по-видимому, одними взглядами, прямо с порога охладить в госте пыл или слишком большие ожидания. Еще миг – и разразилась настоящая гроза. Говорить стало невозможно. Но и враждебности в лицах больше не чувствовалось. Разгул стихии чем-то сразу всех сблизил.
Адская канонада сотрясала небо и город над самой головой. По витражам хлестал ливень. Струи воды водопадом стекали по стеклам на тротуар. Из-за пробки, образовавшейся на проезжей части, стоял бешеный шум, машины сигналили. Прохожие жались к витринам. Некоторые, чтобы укрыться от дождя, входили в галерею и все как один почему-то начинали расхаживать вдоль стен, с нелепой сосредоточенностью разглядывая странноватую выставку – ряды эротических рисунков, окантованных в траурные рамки.
Как только ливень стих, к неожиданности всех троих, владелица галереи без лишних вступлений согласилась засвидетельствовать факт своей непричастности к коммерческим начинаниям А. Котсби. По ее утверждениям, тот пользовался шапочным знакомством с ней, а если и умудрялся проворачивать какие-то сделки, сбывать ценные картины, не являвшиеся ее собственностью, то, разумеется, делал это у нее за спиной. Никто из сотрудников галереи не был в курсе его коммерческих начинаний.
Озвученная версия выглядела сомнительно. Ломбер скептически улыбался. Он явно припас еще кое-какие аргументы.
Владелица галереи поспешила выдвинуть свое условие: в том случае, если дело дойдет до суда, она ни при каких обстоятельствах не должна оказаться привлеченной к даче свидетельских показаний. Тем самым ее согласие дать показания против А. Котсби фактически теряло силу. Но Ломбер тут же шепотом объяснил, что уверен как раз в обратном. Ведь удалось добиться главного. И он просил довериться его тактике: он собирался возобновить разговор на следующий день, уже с другими аргументами на руках.
С утра на следующий день Петр побывал в кабинете Лоренса, вместе с мисс Эразм заново перебрал всё досье, дал ей новое поручение и перед уходом позвонил Лоренсу в больницу.
Лоренс принялся расспрашивать о вчерашней «мизансцене», устроенной им в галерее. Ничего нового Петр сообщить не мог. Мисс Эразм, с вечера посвященная в подробности, уже ввела его в курс дела.
Лоренс советовал брать показания в любом виде – пока дают. На ходу сменив тему, он заговорил о своей встрече с Мари Брэйзиер, которая недавно была проездом в Нью-Йорке, возвращаясь домой из Калифорнии. Лоренс стал было расспрашивать о ее домашних неприятностях. Но Петру не хотелось обсуждать эту тему всуе, вперемежку с делами…
Собираясь уходить, Петр уже стоял в дверях, когда мисс Эразм предложила ему задержаться еще на пару минут, выпить чаю. В приглашении было что-то необычное, непротокольное. Хрупкого сложения, в очках, с годами ставшая похожей на провинциальную учительницу по литературе из французской глубинки, откуда-нибудь из-под Мо, мисс Эразм вдруг показалась Петру каким-то живым воплощением противоположностей – между человеком с его обыденными запросами и адским городом, в котором ему приходится жить и работать. Впрочем, и сам город, вид на который открывался из окна тесного кабинета мисс Эразм, выглядел до странности провинциальным. И такой покажется, вероятно, любая мировая столица, когда от нее ожидаешь слишком многого.
Уходить из тихого уютного кабинета ему не хотелось. За чаем, хотя и неурочным, они провели около получаса, обсуждая русскую литературу прошлого века – мисс Эразм как раз зачитывалась Толстым…
В обед планировалась встреча с Рупертом Маджвиком, который к трем часам наметил у себя в конторе настоящий «консилиум» и во что бы то ни стало хотел познакомить Петра с неким Дональдом, по кличке Дон, и с другими «коллегами-детективами», бывшими полицейскими, перешедшими на работу в частный розыск. Перспектива такого знакомства Петра забавляла. Но с Маджвиком предстояло обсудить и другое дело, порученное ему компаньонами, так что не поехать на «митинг» он просто не мог.
До встречи с Маджвиком оставалось немного времени, и Петр вернулся в гостиницу. Войдя в вестибюль, он задержался у шкафчика с газетами, не мог вспомнить, зачем собирался утром просмотреть свежую прессу. Молодой курносый портье в белой рубашке протянул ему конверт с вензелем отеля. В конверт было вложено сообщение, переданное по телефону из Парижа. Составленная от руки по-французски, печатными буквами, телеграмма была подписана Калленборном:
Срочно позвони в Версаль или домой, в любое время.
Неприятное предчувствие вдруг не давало сосредоточиться. Петр не мог взять себя в руки. Звонить прямо из вестибюля? Что за срочность? Новости от Фон Ломова? Что-то стряслось в Версале? Он не решался подняться в номер.
В Париже время уже было позднее, и он позвонил Калленборну домой. Ответила его жена Марго. Едва поздоровавшись, она пошла звать мужа. После продолжительной паузы послышался сиплый голос Калленборна. Он что-то неразборчиво бормотал, откашливался и наконец членораздельно вымолвил:
– Питер, ты только не переживай… Ничего страшного не произошло, все здоровы. Но тебе лучше вернуться.
– Да что происходит, черт возьми?! Ты можешь изъясняться человеческим языком? От Ломова что-то?
– Да нет… – В голос Калленборна закралась нотка облегчения. – С Луизой…
Петр проглотил ком, сел на кровать, чувствуя, что голос его больше не слушается.
– Неприятность с Луизой, Питер, – тянул Калленборн. – Ты слышишь меня?
– Она здорова?
– Да, всё в порядке. Но у тебя жил этот человек… я уж не знаю кем… садовником или так просто…
– Что значит – жил?
– Он арестован… Мне позвонили твои соседи. Вроде как за… за изнасилование.
– Какое изнасилование? Что ты несешь?
– Всех подробностей я не знаю. Знаю только, что он надругался над твоей подругой… Только не волнуйся, с ней всё в порядке.
Петр медлил и не сразу осознал, что вникнуть в смысл сказанного ему мешали последние слова Калленборна: до сих пор весь кабинет считал ее не «подругой», а племянницей.
– Где она?
– Дома, кажется, у себя. Это все, что мне известно.
– Хорошо, я приеду…
Петр стал звонить в Гарн. Там никто не отвечал. Он набрал номер Форестье. Трубку сняла Элен. Она сразу же заверила его, что ждала его звонка, и опрокинутым, перепуганным голосом принялась повторять всё то, что он только что слышал от Калленборна, с несущественными дополнениями.
Всё произошло будто бы около девяти вечера. Из его окон доносился шум, и никто якобы не решался сходить узнать, в чем дело, пока на улице не появилась Луиза. В разорванной одежде, в слезах. За ней на улицу выбежал Мольтаверн. Но легионер сразу вернулся в дом…
Кто именно из соседей и в какой момент позвонил в полицию, соседка не знала. Но когда на место происшествия прибыл наряд из местной жандармерии, Луиза якобы уже успела дозвониться отцу – Брэйзиер как раз оказался в Париже… Незадолго до приезда полиции позвонив в ворота к Форестье, Луиза попросилась к ним в дом, хотела переждать у них, но явно была не в себе. Растерянные и ошарашенные, они с мужем усадили ее на диван, укутали в плед, но не могли из нее ничего вытянуть. Обхватив руками подушку, Луиза заливалась слезами и не могла выдавить из себя ни слова.
Мольтаверна задержали на месте. Когда полиция въехала на аллею, он был на улице. Увидев жандармов, Мольтаверн поднялся к себе наверх и заперся. Пришлось выламывать его дверь. Этим, однако, сопротивление и ограничилось. Пока жандармы выясняли на месте обстоятельства, по горячим следам пытались опросить соседей, Мольтаверн, уже в наручниках, был посажен в полицейскую машину. За Луизу объяснялся Жак. Тем временем приехал Брэйзиер. Не отпуская такси, он схватил на улице какую-то доску и полез к Мольтаверну в машину «объясняться», был невменяем, жаждал немедленной расправы, и его с трудом угомонили. Усадив дочь в вызванное такси, Брэйзиер наотрез отказался ехать с нею в участок для составления каких-то бумаг. Они уехали в город.
Для Петра оставалось непонятным, каким образом Брэйзиер оказался в Париже. Как вышло, что Луиза находилась в Гарне? В его отсутствие она должна была жить у себя. Сам же он и отвез ее накануне вылета на Нотр-Дам-де-Шам. Но труднее всего ему было поверить в «надругательство», в то, что Мольтаверн мог совершить такое, а тем более у него дома.
Мари Брэйзиер находилась в Тулоне уже почти неделю. Во Францию она вернулась неожиданно для себя, раньше намеченного срока. Она и сама не знала, каким образом заметка в местной американской газете о пожарах на юге Франции, на которую она случайно наткнулась, сидя в пляжном кафе, могла подтолкнуть ее к принятию решения. Но она словно очнулась. В один миг Мари вдруг осознала, что провела вне дома почти четыре месяца. К тому же вилла под Мельбурном, которую на время предоставили ей друзья, с конца июня должна была перейти в пользование родственникам хозяев, и ей пришлось бы искать себе другое жилье…
Собравшись за один вечер, Мари с утра пораньше объехала всех знакомых, чтобы попрощаться, и уже в обед вылетела в Нью-Йорк, где ей предстояла пересадка на парижский рейс: прямого рейса ни из Майами, ни из Нью-Йорка в Марсель не оказалось.
Звонить дочери из Парижа во время пересадки Мари не стала: одного часа всё равно бы не хватило, чтобы увидеться. Предупреждать мужа о возвращении домой ей тоже не хотелось, хотя что-то и подталкивало позвонить ему еще в Нью-Йорке, пока она ждала, когда объявят посадку. А затем чувство неизвестности, мучившее ее всю дорогу, уступило место прежней, хотя и притупившейся горечи. И вместо дочери, уже перед тем, как подняться на борт самолета, вылетающего в Тулон, она позвонила мужу и известила его о своем возвращении…
В голове стояла прежняя путаница. Всё опять казалось сотканным из одних противоречий. От мысли, что приходится возвращаться к разбитому корыту, на сердце у Мари немело. Состояние внутреннего разброда и неуверенности в себе ненадолго оставляло ее, когда она заставляла себя думать о детях или о том, как быстро и, если рассудить, впустую пролетели эти месяцы. А затем всё та же неуверенность, всё тот же панический страх вновь в себе запутаться настигали ее с какой-то другой, неожиданной стороны и опять подчиняли себе все ее мысли и чувства.
Мрачный сплин оставил ее уже в Тулоне, когда, выйдя в зал прилета, она увидела в группе встречающих круглое, озаренное радостной улыбкой лицо филиппинца Тома, прислуживающего у них по дому вместе с женой. Низкорослый Том подлетел к ее тележке, схватил чемодан и, немо сияя, повел ее чуть ли не бегом к машине.
Уже через минуту за окнами поплыли знакомые окрестности. Вскоре машину вынесло на плавный съезд с дороги. Замелькали перекрестки знакомых улиц, и сразу потянулась тенистая аллея, выводившая к родной ограде с кипарисами, за которой всё пестрело от цветущих флоксов и высился исполинский платан, издали похожий на слона с поднятым хоботом, а за «слоном» была видна распахнутая на улицу, утопающая в бархатно-черном сумраке парка веранда родного дома.
Внутреннюю сумятицу вдруг сняло как рукой. Чувство беспокойства растворилось в ватном дурмане усталости – той усталости, которая валит с ног только по возвращении к себе домой…
На улице показался Арсен. Еще издали он поразил ее своим невзрачным, каким-то нелепым видом. Наугад ступая по траве, муж пересек газон и застыл на месте, посреди аллеи, уставив на нее вопросительный взгляд. И он не смог побороть улыбку. Хотя чувствовалось, не знает, радоваться ему или плакать.
Мари выбралась из машины и подошла к мужу. Пряча в кулаке недокуренную, дымящуюся сигару, тот четыре раза прильнул к ней щекой и вымолвил:
– Ну вот и слава богу.
Заметно похудевший, с мягким морским загаром, муж был одет во всё вечернее, но плохо выбрит. И этот нетипичный для него, в глаза бросавшийся контраст заставил Мари подумать о том, что в ее отсутствие произошли какие-то перемены.
На улицу вылетела жена Тома, миниатюрная, хорошенькая азиатка, как всегда в белом фартуке и в белых кроссовках. Ликующе переминаясь на месте и едва не кланяясь хозяйке, она порывалась что-то сказать, но была слишком переполнена эмоциями или просто не знала, как лучше обратиться – «мадам», как было заведено, или всё же по имени. Том хотел отогнать машину под навес, и служанка, его жена, перехватив из рук Арсена чемодан, поволокла его ко входу.
Дома всё сверкало от чистоты. Стоял легкий запах цветов. Пышный букет, собранный из садовых роз и частично из полевых цветов, возвышался на столе в хрустальной вазе. Насчет перемен Мари ошибалась ненамного: всё было по-прежнему. Только стены в гостиной и на кухне слегка изменили цвет, их перекрасили. Давал знать о себе и ремонт, сделанный на ее половине. Вещи после ремонта были разложены по своим местам с такой тщательностью, что это придавало комнатам голый, нежилой вид. В ее спальне всё оставалось как в день ее отъезда.
Тонкий аромат чувствовался и здесь. У изголовья кровати стоял в вазе букет из свежей лаванды, которую Мари обычно развешивала у себя на стенах, пока она не высохнет, прежде чем отдать горничной, чтобы та набила сушеными цветами тряпичные мешочки, которые затем раскладывались по шкафам с постельным бельем. И тем радостней было сбросить с себя одежду на кровать. Тем радостней было найти свои вещи, свою библиотеку «НЗ», как Мари ее называла, большое количество сменной одежды в шкафах, несметное количество удобной и уже забытой обуви.
Для Мари на ужин готовили рыбу. Арсен предложил сесть за стол «в обычное время». Это прозвучало неожиданно. Но до ужина ему нужно было отлучиться в город. Он обещал вернуться к восьми и просил начинать без него, если он вдруг задержится. И это тоже прозвучало странно.
Муж уехал. Мари бродила по дому. Заглянув в детскую, она рассматривала содержимое шкафов. Из детской спустилась вниз и вышла в парк. Здесь всё выглядело ухоженным. Том трудился на улице, видимо, каждый день. Мари невольно подмечала, за что здесь предстоит взяться первым делом, и испытывала неожиданную грусть, оттого что оказалась дома одна и не способна заняться каким-нибудь домашним делом сразу…
За ужином Арсен расспрашивал об Америке, о сыне, о Лоренсе, с которым она виделась перед вылетом из Нью-Йорка, о мельбурнских знакомых. Что-то по-настоящему добродушное в его тоне, чего Мари прежде не замечала, сбивало ее с толку и даже чем-то отпугивало. Это было добродушие не мужа, а скорее старого друга, искренне сожалеющего об эпизодичности встреч, но на большее не претендующего из понимания, что дело не в равнодушии к нему, а в неумолимых законах людских отношений, сообразно которым жизнь рано или поздно разводит людей в разные стороны.
Больше всего Мари удивляло то, как плохо она себя знает. Ей казалось странным, как она могла думать еще недавно о том, что должна во что бы то ни стало изменить свою жизнь. Зачем вообще было уезжать? Нужно ли было мчаться в такую даль, чтобы понять одну простую вещь – что бегать от себя бессмысленно? Казалось вдруг очевидным, что попытки изменить жизнь простыми, общедоступными способами – сменив место жительства, круг общения и даже страну проживания, отказавшись от планов на будущее, от иллюзий… – в корне ничего решить не может. Для этого пришлось бы повернуть вспять время и изменить то, что уже было…
Ей вдруг казалось, что и это возможно. Чем больше она думала о том, каким способом этого добиться, тем сильнее ей хотелось окунуться в прежнюю жизнь, но избегая старых ошибок. Заключались же эти ошибки в безвольном, пассивном, как ей казалось, ожидании от завтрашнего дня чего-то невозможного. В то время как само это понятие – завтра – являлось полнейшей фикцией. Жизнь, чуть ли не по определению, сводилась к настоящему, к реально существующему сейчас, сегодня. Всё зависело от того, способен ли человек жить так, как считает нужным, сразу, сию минуту, не дожидаясь каких-то новых возможностей или поблажек от завтрашнего дня.
Лучше всего начинать с простого – с преобразований в доме. Некоторые изменения в планировке казались неотложными. Пора было сделать отдельный вход в ее спальню из сада, – но об этом она думала и раньше. Обе детские пора было превратить в отдельную квартиру, со своим отдельным входом, чтобы дети, приезжая домой, могли вести свой обычный образ жизни, не окунаясь с порога в семейный быт, от которого, конечно, отвыкали. Мари вдруг всерьез подумала о том, что могла бы помочь мужу провести ревизию финансового положения семьи и, если возникнет необходимость, даже помочь ему привести дела в порядок. Часть недвижимости следовало уже сегодня поделить с детьми. В том случае, если у мужа по-прежнему существовали трудности с наличностью, о чем она недавно слышала от дочери, домашнюю жизнь можно было обустроить на время попроще, экономнее, без прежнего транжирства, которое ей всегда претило. Она могла, в конце концов, серьезнее отнестись к сотрудничеству с журналом, на которое до сих пор смотрела лишь как на возможность оставаться на поверхности, на плаву. Ведь нет ничего проще, чем опуститься от скуки. Дно существовало и у семейной жизни.
Размышляя над своими отношениями с мужем, Мари пыталась сегодня взглянуть на них с другой стороны. Был ли ее брак с Арсеном столь ошибочным? Под каким бы углом она ни пыталась смотреть на вещи, теперь ей представлялось очевидным, что необходимо считаться с непреложным фактом: они прожили вместе двадцать лет, вырастили двоих детей, и если в итоге оказалось, что до конца не научились разбираться друг в друге, то в этом не было ничего невероятного или противоестественного. То же самое происходит со всеми. Просто большинство людей тешат себя иллюзиями. Разве не предоставлен человек самому себе с рождения и до конца дней своих? Почему это казалось понятным и даже приемлемым в молодости, но не теперь? Почему позднее, с приобретением настоящего жизненного опыта, понимание таких простых истин стало требовать столь непомерных усилий над собой? Одна или две случайные авантюры, в конце концов, не стоили того, чтобы перечеркнуть двадцать лет совместной жизни. Добиться в отношениях с мужем равновесия, на чем бы оно ни строилось, казалось Мари необходимым и возможным.
Новый, свежий тон отношений, который Мари незаметно, но настойчиво внедряла в домашнюю жизнь, Арсена заражал. Внешне он ничем не выдавал себя, держался с привычной сдержанностью, словно опасался, что любое излияние благодарности будет лишь напоминанием о недавних дрязгах, и, скорее всего, даже не сознавал, что преследовавшая Мари мания перемен стала поглощать в равной степени и его – с той разницей, что ему и в голову не приходило, что в жизни еще возможны какие-то перемены. Успев смириться с мыслью о разводе, Арсен не мог переделать себя в считаные дни.
В те же дни ему предстояла поездка в Париж. Поездка была некстати. Но сколько он ни звонил в Париж, чтобы отложить запланированные дела, перекроить планы не удавалось. Мари настояла на том, чтобы он оставил всё как есть. Муж уговаривал ее поехать вместе. Какой ни есть, но всё же повод навестить дочь и взглянуть на ее новую квартиру. Мари отказалась: ей не хотелось вновь собирать чемоданы, к тому же дочь скоро собиралась домой…
На второй день после отъезда мужа около девяти вчера в ворота въехало такси. Оно остановилась на площадке перед домом. Из машины вышел Арсен. Затем Мари увидела и дочь.
С радостным возбуждением она направилась к машине, и еще не успела пересечь газон, как по виду обоих поняла, что произошла большая неприятность.
Луиза понуро смотрела в землю. Казалось, что дочь не рада ни ей, ни приезду домой.
– Что случилось? Почему вы не предупредили? – проговорила Мари. – Да что произошло?!
И муж и дочь молчали. Мари схватила дочь в объятия. Прелый нездоровый запах волос Луизы поразил ее. Муж расплатился с таксистом, оттащил на траву чемодан и сумку Луизы и, развернувшись с какой-то решимостью, попытался что-то объяснить, но лишь взмахнул рукавами. На нем не было лица. Под глазами чернели круги усталости.
– Да что с вами, объяснит мне кто-нибудь?! Луиза, что с тобой? – Мари постаралась отнять голову дочери со своего плеча, но та вцепилась в нее изо всех сил и содрогалась в беззвучных рыданиях.
– Сейчас я всё объясню… Только не волнуйся, ради бога, ничего страшного… – Брэйзиер направился в дом.
Объяснять Луизе пришлось всё самой, поскольку отец опять не мог выдавить из себя ни слова, сразу же вышел из себя. Суть происшедшего стала Мари ясна в несколько секунд, и сколько бы дочь после этого ни говорила и ни объясняла, Мари не смогла бы почерпнуть из ее слов уже ничего существенного.
Потрясенная, Мари сидела какое-то время без движения, а затем, когда она всё же заговорила с мужем, голос ее не слушался, и ей пришлось замолчать.
Муж опять вскочил и, задыхаясь от гнева, стал расхаживать по комнате, но по-прежнему не мог произнести ничего членораздельного. Затем он вышел в сад и закурил сигару… Единственное, что Мари удалось выжать из него позднее, – это угрозы в адрес Вертягина.
Поздно вечером, когда Луизе уже постелили, Мари попросила Тома перенести кровать дочери из детской в ее спальню. Оставив дочь одну, она вернулась к мужу. Арсен как будто бы взял себя в руки и решил обсудить главное, то, что он считал главным, причем считал своим долгом сделать это уже давно, особенно после случившегося, но как-то не получалось… – с такого многословного вступления он начал.
– Арсен, я ничего не понимаю, ты же видишь…
– Я должен тебе кое в чем признаться, Мари.
– Ах, прошу тебя… – По лицу Мари прометнулся испуг. – До этого ли сейчас?
– Это касается не меня… Луизы, – пробормотал Арсен. – Я был вынужден скрыть от тебя одну вещь, когда у нас… Ну, ты помнишь, ты обращалась к Питеру с разводом… Так вот, у меня с ним вышел разговор тогда… По поводу Луизы…
– Что за моду вы все взяли вот так разговаривать? – взорвалась Мари. – Кружить вокруг да около… Объясни прямо, прошу тебя! О чем ты говоришь?
Арсен помусолил во рту потухшую сигару, плеснул себе в рюмку коньку, уже в третий раз за вечер, и, уставившись в пустоту, не своим голосом произнес:
– Она живет с ним, вот в чем проблема.
Мари смотрела на мужа сбитым с толку взглядом, после чего, переборов свое потрясение, спросила:
– Кто и с кем?
– Луиза с Вертягиным.
– С чего ты взял?
– Ну, я давно догадывался… И тогда, зимой, я решил поговорить с ним. Всё оказалось правдой, Мари. Все… Это уму непостижимо!
– Я не могу в это поверить!
– Я совершенно серьезно, Мари…
Мари изучала мужа с какой-то новой сосредоточенностью и постепенно менялась в лице.
– Ни ты, ни я, мы не смогли бы ничего изменить. Это было не в наших силах, Мари! Я старался смотреть на вещи здраво, вот и всё…
– Здраво… Да ты спятил, – обронила она.
Уставив на жену нерешительный взгляд, Арсен мотнул в знак согласия головой:
– Я предвидел такую реакцию. Поэтому и не хотел говорить… А теперь… Теперь убить его мало!
С видимыми усилиями пытаясь перебороть судорожные наплывы гнева, Арсен встал, залпом опрокинул остаток коньяку, но не успел взять себя в руки, как Мари поднялась с дивана, что-то быстро проговорила и вышла из комнаты. Выражение ее лица его поразило…
Первые двое суток прошли для Петра как во сне. Он вылетел из Нью-Йорка в тот же вечер и добрался до Парижа во второй половине дня.
Шел проливной дождь. Духота пасмурного летнего дня усугубляла усталость, вызванную бессонной ночью. Усталость растекалась по телу словно сильный, но медленно действующий яд. Петр с трудом соображал, что делать, с чего начинать.
Прежде чем идти к стоянке такси, он еще раз позвонил на Нотр-Дам-де-Шам. В который раз тот же голос-автомат ответил, что абонент отключен. Петр не понимал, действительно ли Луиза сменила номер телефона или линия оказалась отсоединенной по какой-нибудь другой причине. Когда он звонил на этот номер из Нью-Йорка, он успокаивал себя тем, что, видимо, совершает ошибку при наборе, хотя это и казалось маловероятным. Теперь же успокаивать себя было нечем.
В Версале ответила не Анна, а Калленборн. Удивившись его быстрому появлению, на следующий же день после его звонка, Калленборн будничным тоном поинтересовался, с какими результатами он вернулся. Имелись в виду дела Жоссов? Петр промолчал.
Калленборн поспешил заверить, что «по поводу Гарна» ничего нового сообщить не может, советовал не паниковать, ехать в Гарн, тем временем обещал справиться о последних новостях и позвонить ему домой как раз к его приезду. Но Петр не знал, зачем ему ехать в Гарн. Он не знал, куда ехать в первую очередь…
Решение ехать домой он принял уже в такси. Какое-нибудь сообщение могло ждать на автоответчике. Да и невозможно было приступить к каким-либо действиям, не разобравшись в случившемся…
Ограда оказалась запертой. Дом выглядел каким-то вымершим. Во дворе тоже ни малейших признаков жизни. На первом этаже в глаза бросался некоторый беспорядок. В камине оставалась неубранная зола. Поверх золы был набросан ворох газет. Но камин так, видимо, и не растапливался все эти дни. На кухонном столе валялась недочищенная луковица, стояла раскупоренная, едва начатая бутылка белого бургундского и тут же были брошены две грязные тарелки с остатками салата и сыра, а в гостиной по креслам была разбросана одежда: старый пиджак Мольтаверна, хозяйственные рукавицы, рабочий боб, заляпанные чернилами джинсы Луизы, в одном из карманов которых Петр обнаружил помаду без колпачка, смятую сигарету и ключи от квартиры на Нотр-Дам-де-Шам.
Дверь на террасу оказалась незапертой. Петр вышел в сад.
Пристально разглядывая мокрые, дымящиеся от пара газоны, он изучал их от края до края, просматривал каждый клочок травы, словно надеялся обнаружить в ней какой-то тайный знак, оставленный специально для него, а то и вещественное доказательство тому, что всё услышанное до сих пор не было просто бредовым сном. Потом он обогнул дом с тыла, подошел к лестнице, ведущей в комнатушку Мольтаверна, постоял, стряхнул воду с мокрых, ледяных перил и поднялся наверх.
Дверной замок был выломан. Внутри стоял спертый запах сырости и мыла. Постель Мольтаверна была разобрана.
Петр вернулся вниз, надел чистую рубашку, сходил к соседям, но никого не застал. Возвратившись к себе, он собирался звонить Калленборну, но вместо этого машинально набрал рабочий номер Шарлотты Вельмонт.
Сразу его узнав, Вельмонт едва не вскрикнула. Она была в курсе случившегося, но сохраняла какое-то странное спокойствие: изъяснялась медленно, взвешивала каждое слово. От Петра не ускользнула интонация не то изумления, не то негодования – понять было трудно. Казалось, что Вельмонт сразу же хочет расставить все точки над «i» и дать ему понять, что она, как и все, имеет право на собственное мнение. Вельмонт становилась на сторону легионера?
Она стала доводить до его сведения последние новости – уже из следственных кулуаров. После задержания Мольтаверна отвезли в какую-то временную каталажку, а минувшим утром доставили к судебному следователю, где тот сразу во всём «сознался». Расследование было поручено судебному следователю Берже, который пользовался репутацией добросовестного исполнителя, лишенного каких-либо личных амбиций. Уже от следователя Мольтаверна препроводили в камеру предварительного заключения. Анализы, которые были взяты у него и у Брэйзиер-младшей, давали якобы подтверждение всем уже собранным показаниям. Луиза Брэйзиер будто бы подала официальное заявление. Но с ней самой всё обстояло благополучно. Не считая каких-то «следов» на теле и «легкой спинной травмы».
При перечислении «следов», как и при слове «анализы», Петр чувствовал, что на голове у него шевелятся волосы. Столь подробными и, пожалуй, не очень легальными сведениями Вельмонт смогла обзавестись не через Шанталь Лоччи, как Петр сразу подумал, а через своего бывшего мужа, недаром тот был отставным судьей.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу