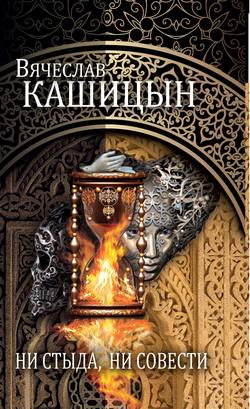Читать книгу Ни стыда, ни совести (сборник) - Вячеслав Кашицын - Страница 3
Ни стыда, ни совести
2
Оглавление«Кто ты?»
Он не отвечал.
«Что с ней?»
Он смотрел на меня так же внимательно, без выражения и молчал.
«Почему я?»
Возможно, этот вопрос и был правильным. Он скрестил на груди руки и прищурился. Сразу же вслед за этим дверь за его спиной расплылась, превратилась в подобие киноэкрана, где замелькали какие-то кадры. Я не поверил своим глазам: это были кадры моей жизни! Раннего детства, школьных лет. Вот рыбалка на Бугае, игра в «слона» во дворе с ребятами, первый поцелуй с одноклассницей… Кадры сменялись быстро, и я не успевал зафиксировать их в сознании. Это был визуальный эквивалент моей памяти – как будто кто-то решил показать мне фильм обо мне же. Вот дом, родители. Папироса в руках отца и печальное лицо матери. И Настя. Ее отъезд, а затем мой. Гараж, Васильич с Аней. И потом – интерфейс сайта: название статей, тексты и комментарии… И она.
Сколько это длилось? Мне показалось – миг. Настолько я был заворожен происходящим. Последним кадром была авария. Затем все исчезло. Дверь за спиной попутчика вернула свои очертания, и он, выждав некоторое время, словно пытаясь что-то мне внушить, вышел в нее, вышел, как обычный человек.
Меня запоздало настиг страх. Я забился на лежак, не спуская глаз с двери. Но Дервиш не вернулся.
Ближе к утру я все же заснул; и сон, который мне приснился, был, по сути, продолжением визита попутчика – я снова видел своих: Урмана и Васильича, сестру, и вроде я был дома. И за компьютером, и высказывался в очередной раз по какой-то наболевшей (на мой взгляд) проблеме. Во сне была также мама, которая сидела за столом на даче, и курила (чего не могло быть в действительности), и смотрела на меня так же внимательно, как попутчик, были машины, взлетающие над проезжей частью и не разбивающиеся, и была она.
Проснувшись, я долго пытался понять, чем был визит Дервиша, сном или явью? Что-то подсказывало мне: это не видение. Больше того, возможно, ничего реальнее – со времени аварии – со мной не случалось. Но что все это могло значить? У меня было смутное подозрение, что это было какое-то послание, какой-то message. Очевидно, разгадку моей истории следовало искать в прошлом…
Рекомендованный сестрой газетчик появился в тот же день. Это был относительно молодой, моего возраста тип, одетый крайне небрежно – джинсы, куртка – и нагловато улыбающийся.
– Так вот вы какой, – сказал он, едва войдя.
Я не ответил. Настороженность здесь уже стала моей второй натурой.
– А к вам, Игорь, не пробьешься. Вы даже не представляете, сколько препятствий мне пришлось преодолеть, чтобы добиться этого свидания. И ходатайство родственников, и разрешение прокурора, и то, и се… – Он уселся рядом со мной, закинув ногу на ногу. Я встал. – Ну, здравствуйте.
– Чего вы от меня хотите? – Я пообещал ей, что встречусь с ним, но не обещал быть вежливым.
– Вначале познакомимся. Моя фамилия Вакуленко. Евгений Вакуленко. Я сотрудник газеты «Жизнь». Слышали, наверное, расследование смерти Евдокимова? Или откровения «смотрящего по России» Варяга? Или, на крайний случай, историю девочки-зомби? Все это мои проекты.
Самое удивительное – он говорил серьезно. И говорил так, будто я не имел права не знать, о чем речь.
– Я всего это не видел и не читал, извините. Нельзя ли поближе к делу?
Он рассмеялся. Заразительно и так искренно, что я на какую-то долю секунды ему поверил и сам улыбнулся.
– Игорь, ну нельзя же так! Я понимаю, они содержат вас в скотских условиях – даже интернета нет – и не дают никакой информации, и наверняка лгут, лгут на каждом шагу, но зачем же озлобляться? Я слышал о вас самые лестные отзывы. Анастасия…
– Как вы ее завербовали?
– То есть?
– Как вам удалось уговорить ее прийти ко мне?
Он, казалось, удивился.
– Она же ваша сестра. Зачем ее уговаривать. Она вам желает добра. Разумеется, мы посодействовали ей в некоторых вопросах. В частности, взяли на себя обязательство оплатить лечение ее мужа в хорошем пансионате с последующей реабилитацией. Кроме того, вы же знаете, они пять лет стоят в очереди на квартиру, так вот, они получат ее, в Юго-Западном округе, ордер уже подписан, и, конечно, потом будут иметь возможность оформить ее в собственность.
– Вот как.
Значит, они все-таки ей заплатили. Но отчего так щедро? Впрочем, это их дело.
– Надо же, какие вы. – Я взял его тон. – И вы, наверное, думаете, что, помогая ей, получите что-то от меня? Наивные. Мы с сестрой терпеть не можем друг друга, ясно? И все ваши усилия напрасны. Не знаю, чего вы от меня хотите, но вы этого не получите.
Он некоторое время, продолжая улыбаться, смотрел на меня. Потом сказал:
– Вы ее любите.
– Что? Откуда вам…
– Очень любите. И сделаете для нее все, что нужно. И для нас.
Его самоуверенность и мерзкий взгляд, которым он читал в моей душе, смутили меня. Но я не подал виду.
– С чего это вы решили?
– С того, Игорь, что это только болваны могут считать вас жестоким и расчетливым или те, кто сам без сердца. Все эти люди, те, кто верит в эти байки про предумышленное убийство, они ведь не читали ваш сайт. А я, верите-нет, с первого взгляда на ваши статьи понял, что вы способны любить. И будь иначе, меня бы тут не было.
Я не понимал, к чему он клонит.
– Чего вы от меня хотите?
– Денег.
У меня от такой прямоты отвисла челюсть.
– Вам же известно, Игорь, что все люди хотят друг от друга, в сущности, двух вещей: денег и любви. Любви мне от вас не надо, хотя, повторяю, вы на нее способны, как никто другой, мне нужны деньги.
Я вспомнил адвоката.
– Вы наследство имеет в виду? Так я еще…
– Ну что вы. Вы меня обижаете, сравнивая с этими проститутками в дорогих костюмах. Кто у вас адвокат? Грунин? Нет, мы зарабатываем на хлеб более достойно, во всяком случае, не подставляя задницу.
– Гм. Тогда…
– Наше предложение сводится к следующему. Вы обязуетесь предоставить нам исключительные права на освещение всего того, что происходит с вами. А мы, со своей стороны, не оставим вас, что бы с вами ни случилось, а это очень важное для вас подспорье, учитывая, с кем вам придется иметь дело. Эта сделка, не скрою, сулит нам большую прибыль, а вам – гарантию безопасности и справедливого, насколько это вообще возможно, рассмотрения вашего дела.
– Вы что, хотите, чтобы я…
– Чтобы вы продали нам свою историю. С начала до конца.
Час от часу не легче.
– А если я не соглашусь?
– А куда вам деваться? – Он вынул из кармана пачку «Мальборо», щелкнул зажигалкой. – У вас такое положение, что…
Все они курят или сосут леденцы. И все чего-то хотят от меня.
– …такое положение, что не до жиру. Сами посудите: писать про вас все равно будут, и всё небылицы, представлять, какой вы расчетливый злодей, отправили на тот свет свою молодую жену ради пешнинских миллионов. И ТВ тут появится, даю вам слово. И все они будут во все глотки содействовать обвинению, создавать у обывателя мерзкий и отвратительный образ убийцы. Разве вы хотите, чтобы люди вас ненавидели? Родственники и друзья пострадавших в аварии и так, насколько я знаю, намерены устроить над вами самосуд. А адвокат не давал вам газеты?
Я покачал головой.
– Ничего, я принесу. Так вот, вся эта клика будет играть на руку вашим врагам. Вам это надо?
– А вы, наверное, будете изображать из меня кого-то другого? Вы же тоже лжете. В силу профессии.
Казалось, он оскорбился, или сделал вид.
– Игорь, дорогой, то, что вы называете ложью, для многих людей – единственная достойная внимания реальность. Вы в метро ездите? Или только на «Ягуаре»? Посмотрите, что люди читают. Какие книги, какие газеты. Они хотят сказки, понимаете? И, по справедливости, Игорь: не вам говорить о лжи – вы же написали «Нейтральность объектов».
Я снова вспомнил о Грунине, который в качестве довода приводил мне эту статью. В ней я, в общем-то, не выдумывал ничего нового: просто раскрыл буддийский тезис о том, что каждое явление в нашей жизни может быть хорошим или плохим, в зависимости от наблюдателя. Классическая ситуация с полупустым или наполовину наполненным стаканом.
– Во всяком случае, я считаю, что вы лжете.
– А зачем вам правда? Нам совершенно безразлично, что на самом деле произошло с вашей женой. Извините. Повторяю, я не верю, что тут убийство ради денег, но по какой причине это произошло – какая разница? Для нас важно то, что будет продаваться. По справедливости, эта идея следствия – полная мура, ну да они отрабатывают заказ. Если мы сейчас убежденно напишем, что располагаем неопровержимыми данными, будто следствие право, а вы сделаете чистосердечное признание, это не даст нам ничего. Все только будут плеваться и поражаться вашей низости и лицемерию. Но у нас есть другая версия. И знаете, Игорь, я думаю, она недалека от истины.
Я вздохнул и утер лицо.
– Я уже говорил и адвокату и следователю: это был несчастный случай.
Может, рассказать ему все как было?
– Ну да, несчастный случай. Скажите, Игорь, а как вам вообще в голову приходят все эти мысли?
– Какие мысли?
Я почувствовал какой-то подвох.
– Ну, те, которые вы потом излагаете в статьях. Или в постах, как модно сейчас говорить. На сайте вашем.
Я пожал плечами.
– Я не задумывался об этом.
– А вот я, верите-нет, задумался. Вы не бог весть какой стилист, но посещаемость у вашего сайта всегда была неплохая, совсем неплохая для узкого круга «философов жизни». Собственно, вся эта категория – это бездельники, которые никак не могут найти свое место в обществе, а работать им лень. Но ведь вы другой. У вас золотые руки и, надо признать, острый и своеобразный ум. Так вот, являясь до некоторой степени вашим поклонником…
Еще один.
– …являясь вашим поклонником, я попытался проанализировать, а что действительно могло стоять за этой аварией. Хотите, расскажу? Я ведь вообще попал на ваш сайт случайно. Но когда прочитал «Несколько слов об эстетическом гомосексуализме», то долго смеялся. Потом был «Манифест одиночки», который заставил меня задуматься. И наконец – здесь уже серьезно, – «Стыд и совесть: что делает человека человеком». Вы обладаете удивительным талантом писать просто о сложных вещах, несмотря на все эти псевдонаучные названия. И вот что, Игорь: если у этой катастрофы действительно была какая-то причина, то она была вовсе не в деньгах.
– А в чем?
– В идее. Сюжет таков: молодой человек, без определенного рода деятельности, талантливый и амбициозный, но, как это часто бывает, невостребованный в обществе, задумывается о том, что же есть такое стыд и совесть? И приходит к выводу, что это – барьеры между человеком и Богом, между человеком и зверем. Ведь так в вашей статье, правда? И тут его осеняет: единственная возможность проверить это – это совершить преступление, у которого нет мотива и которому нет оправдания. Например, убить любимую женщину. И таким образом, проверить, кто он есть, добраться до своей сути. Почувствовать, как это – находиться по ту сторону стыда и совести… – Он подался ко мне, глаза его блеснули. – Ну как, вы почувствовали?
– Вы… что несете?
У меня засосало под ложечкой.
– Вы… сумасшедший?
– А что это вы так забеспокоились? – Он улыбнулся снова, хищной улыбкой. – Это ведь неправда. Это то, о чем мы напишем. Вам необязательно будет это подтверждать. Конечно, никакого любомудрия там не будет, нашему человеку не до этого, но тот факт, что вы убили за идею, привлечет читателя. Вы ведь, говоря по справедливости, идейный маньяк.
– Вы что, Раскольникова из меня хотите сделать?
– Ну что вы, Игорь. Раскольников по сравнению с вами – ребенок. Вы у нас что-то вроде Пичушкина и Чикатило в одном лице. И самое сильное тут, что и слава вам не нужна, и не болезненное удовольствие: вам нужно вопрос разрешить!
Я помолчал, потом сказал:
– Знаете…
– Женя.
– Знаете, Женя, тут некоторые считают, что я сумасшедший. Но я все больше убеждаюсь, что я-то как раз нормальный. А вот мои посетители…
Он снова искренне, заразительно расхохотался.
– Пять баллов. Но, согласитесь, эта версия гораздо убедительнее, чем версия следствия. Ведь вы, – он снова улыбнулся своей фирменной улыбкой, – чудовище и есть. Не материальное. Человек, которому приходят такие мысли и который их реализовывает, – уже не человек. Бог, зверь, кто угодно, но не человек.
– Знаете, вы мне надоели. Почему бы просто не написать так, как было? Я понимаю, вы не поверите, но думаете, я не сокрушаюсь по поводу… всего этого?
– А как было?
Мне тяжело было снова объяснять все незнакомому человеку, снова возвращаться к аварии, и я промолчал.
– Дело в том, Игорь, что в несчастный случай никто не поверит. Вот это-то и сочтут настоящей ложью. Лучше уж версия следствия.
– А если… – я вдруг почувствовал, что меня несет куда-то под откос, – если я вам скажу, что по пути мы подобрали человека, который попросил подвезти его до места, которого не было, и после аварии его не обнаружили в машине? И что этот человек был у меня недавно вот здесь, в этой камере?
Он усмехнулся.
– Я сказал бы: это сюжет.
Он не стал требовать от меня немедленного ответа и сказал, что зайдет через несколько дней, а я тем временем обдумаю предложение. Он мог и не затрудняться: я и без этого был согласен. Не то чтобы его аргументация меня убедила, но я решил из двух зол выбрать меньшее: раз уж общаться с журналистами мне все равно придется, так лучше, наверное, выносить одного, чем многих… Он был прав: мне не было безразлично, что обо мне подумают. Особенно друзья. Меня не пугала абсурдная версия, которую он выдумал, – напротив, я решил не защищаться и не оправдываться, будучи уверен, что никто не поверит в эту дичь. Кроме того, он, уходя, предложил мне нечто, что соответствовало и моим непосредственным намерениям. А именно: изложить письменно мою «историю».
Ему нужны были факты; я же надеялся, что сквозь ткань моей «автобиографии» проступит то, на что намекал Дервиш.
Я попросил у надзирателя карандаш и бумагу, сказав, что хочу сделать заявление. И погрузился в работу.
Вот что – за несколько дней сосредоточенного воспоминания – я написал (кое-что я вымарал в связи с последующими событиями).
Агишев И. Р.
Из материалов дела
…Где искать?
Ведь моя жизнь, положа руку на сердце, не сильно отличается от жизни любого другого человека.
Или в тех самых мелочах, в тех самых «общих местах» моей жизни и кроется ответ, и мне следует рассмотреть себя под лупой с самого детства? Или я должен вспомнить то именно, что отличало и отличает меня от других, судьбоносные и поворотные моменты, ведь это логично?
Я не знаю, честно.
Как получится, так получится.
Родился, учился, женился… Все-таки я не вижу смысла описывать всю мою жизнь до сегодняшнего момента, так как много в ней, как и у всякого другого человека, лишнего и неинтересного.
И зачем я обманываю сам себя? Чего я боюсь? Ведь я очень отличался от других, с самого детства. И, возможно, тут и кроется разгадка.
В детстве я был любознателен, наивен и, как любила говорить сестра, «болезненно восприимчив».
Как сейчас помню, был у нас во дворе хромой бездомный. И мы с мальчишками любили его дразнить – то палку у него, заснувшего на скамейке, украдем, то ударим его и убегаем. Не помню, как его звали. И вот этот калека как-то поймал меня, как-то ему это удалось, не помню каким образом. Я думал, он меня побьет, но он потащил меня к себе в сарай (мы жили на частном секторе) и долго рассказывал о своей жизни. Предлагал выпить. Играл на расстроенном баяне. Рассказывал, заливаясь слезами, о войне, о первой любви. И мне, ребенку, вначале жутко было страшно и хотелось дать стрекача, а потом жалко его, и, наконец, я проникся к нему чем-то вроде симпатии, и мне было больно и стыдно вспоминать, как мы до этого с ним обращались. Я не перестал водиться с мальчишками; но в их забавах с этим бездомным больше не участвовал. А потом он куда-то пропал. А сарай сгорел.
Или еще…
Помню, как-то в одну из своих командировок отец, помимо конфет мне и сапог матери, привез Насте джинсы. Настоящие, американские. Не все тут меня поймут, но те, кто родился в СССР, знают, что значил тогда для девушки такой подарок. Не помню, по какому поводу она надела их в школу (вообще-то, тогда такое не приветствовалось, но началось уже то, что называется «перестройка»). И их порезали. В раздевалке на физкультуре. Не спрятали, заметьте, не украли, а именно порезали – так, что восстановить было нельзя. Я думал, Настя сойдет с ума. Она тогда закрылась в своей комнате, никого не пускала и чуть не отравилась таблетками. А я всем сердцем страдал и сочувствовал ей, хотя, в общем-то, не мог понять, как можно так убиваться из-за вещи.
Вы спросите, зачем я обо всем этом рассказываю? Ведь такие эпизоды – проявления необъяснимой жестокости людей или несправедливости судьбы – встречаются на каждом шагу, и у всех без исключения есть этот опыт, и каждый из нас принимает это и учится жить в согласии с миром, в котором, помимо недостатков, есть и неоспоримые достоинства? Да, все так. Только я с этим никак не мог примириться. И жить в таком мире не мог. И каждый такой эпизод – а их было множество – всякий раз был для меня откровением, и потрясал меня и подавлял, как в первый раз.
Собственно, я этим жил. Эти случаи как бы прорывали ткань повседневности, открывая мне что-то общее. Нет необходимости добавлять, что я вел дневник и в нем пытался разобраться, почему так происходит и что я должен с этим делать. То, что этот газетчик назвал «любомудрием» или «философией жизни», для меня было важнее, чем деньги или карьера (понятие, которое тогда уже начало входить в обиход). Это было – основное.
Вначале, впрочем, мои размышления были связаны с нашим материальным положением: я искренне не мог понять, почему и мать и отец вынуждены работать допоздна за копеечную зарплату, отец – на заводе, мать – в школе-интернате, почему сестра вынуждена носить обноски, почему я, в конце концов, всегда остаюсь один и ни у кого не хватает на меня времени? Этих «почему» было бесконечное множество, и, войдя в более или менее сознательный возраст, я твердо решил, что у меня все будет по-другому.
Интуитивно я понял, что для того, чтобы реализовать мои намерения, нужно хорошо учиться. Так же, как старшая сестра. Или лучше. Не все мне удавалось – в частности, химию и физику я не переносил, но закончил школу я вполне сносно, хотя и без отличия (Настя претендовала на медаль).
Я тут не останавливаюсь на самой школе, на том, что там происходило: нахождение «в коллективе», борьба за место в иерархии, компании, девочки, драки – все это было и через все это я прошел, не приобретя, в сущности, друзей или врагов. Я не уклонялся от «мужского» выяснения отношений и, пользуясь тем, что хорошо учился, помогал кому нужно было, но все же, не будучи «чужим», так и не стал «своим». Я знаю, многие считали меня странным – время от времени моя сущность пробивалась наружу, и я выражал искреннее недоумение по поводу школьных законов (которые, конечно, представляли собой законы общества в миниатюре), и тогда все вокруг приходили в краткое состояние ступора, а я, опомнившись, опять залезал в свою раковину. В общем, я, будучи не такой, как другие, притворялся таким, как все. У меня даже была девушка – довольно невзрачная особа, ни фамилии, ни имени, ни лица которой я даже не помню.
Кстати, о девушках. Знакомство с ней, по сути, вычеркнуло из моей памяти всех, кто был «до», но нужно признать, что в школьные годы я настолько был озабочен своим желанием «вырваться», что то, что у меня нет достойной подруги, никак не задевало моего самолюбия. Наверное, я подспудно осознавал тогда, что каждый человек приходит в этот мир один и уходит один – по крайней мере, в отношении себя я так считал.
Я хотел уехать. Вырваться из этой удушливой атмосферы нужды и безысходности. Жить по-другому.
Как человек.
Обычная история, скажете вы? Да, обычная. Но до тех пор, пока она не становится личным переживанием – и я, и сестра слишком много перенесли, чтобы навсегда постараться забыть Навашино.
Разумеется, в конце концов мы оба покинули этот город.
И Настя уехала первой.
Почему-то мне никогда не приходило в голову, что она тоже имеет право на самостоятельную жизнь. Очевидно, мне представлялось, что так будет всегда: она будет напряженно учиться, работать в поте лица (в прачечной, в столовой), ухаживать за родителями и еще приглядывать за мной. Но оказалось, что у нее свои планы.
Как сейчас помню, она пришла домой (было 28 мая), прошла в комнату и, вытащив чемодан, стала собирать его. Сказала, отвечая на вопросительный взгляд матери: «Мама, я уезжаю». И продолжила собираться – с решительным лицом. Мать, вязавшая что-то, уронила спицу. Потом заголосила, они обе расплакались, обнялись. Но Настя не изменила своего решения, несмотря на то, что отец, когда пришел, пробовал даже пригрозить ей. Родители и не в силах были ей помешать – характером она была самой сильной в нашей семье, и никакие угрозы, увещевания или попытки воззвать к ее жалости не возымели действия. Она сказала, что едет в Москву, поступать. И оттуда позвонит.
Я помню свое чувство в тот момент. Сложное чувство. С одной стороны, я был рад за нее и отчасти даже любовался ее решительностью и твердостью, подспудно понимая, что никто не вправе отнять у нее шанс; но с другой – я оставался один, и те обязанности, которые несла она, теперь автоматически перекладывались на меня, и перспективы моего отъезда были теперь более чем туманными… Я почувствовал себя обманутым, брошенным. Но ничего не сказал.
Настя не поступила. Может быть, даже не поступала. Как я узнал позже (на похоронах, когда мы разругались), она уезжала, чтобы выйти замуж. Только для этого. Чтобы самой устроить свою жизнь и потом, возможно, жизнь родителей. Я тогда ей наговорил много лишнего, накричал на нее – но, в сущности, я не был вправе упрекать ее. На ней все в нашей семье держалось, и кто занимался моим воспитанием, хотя бы в урезанном виде, если не она? Она, так же как и я, понимала, что родители – это большие дети, и им нужен уход, что они не способны и никогда не были способны ни содержать нас по-человечески, ни воспитать, и она, возможно, собиралась вернуться.
Потом. Во всяком случае, мне хотелось бы так думать. Потому что она, после своего отъезда, приехала только раз – на похороны.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу