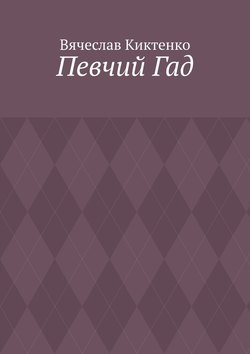Читать книгу Певчий Гад. Роман-идиот. Сага о Великом - Вячеслав Киктенко - Страница 3
Певчий Гад
Оглавление«Я в лавровой опочивальне
Хочу на лаврах почивать,
Обрыдло в спальне-ночевальне
Как всяко быдло ночевать.
Я представляю: вот кровать,
Увитая роскошным лавром,
На ней двум-трём пригожим лярвам
Вольготно будет мне давать
Сопеть в обнимку с ними рядом,
И просыпаться, и любить
Всегда самим собою быть,
А не каким-то певчим гадом.
Я заслужил! Я не охально
Такую требую кровать,
Я жить хочу опочивально!
Хочу на лаврах почивать!
Мне надоело воровать,
Из воздуха стяжая славу,
Я славой отравил державу,
И лавра сладкую отраву,
Герой и буй, хочу впивать!»
***
Красивый пожар был
Впиваюсь в прошлое, вспоминаю – а с чего, собственно, началось? Жил обычный мальчик, жил себе, сопел, сопли мотал на кулак, и вдруг…
А начиналось так.
Впервые нажрался Великий в школе. В первом классе. Первого сентября. Отметил обязаловку всеобуча по-взрослому. Наслышан был: доброму делу «дорожку промочить» надо. Промочил…
Купил на украденные у папашки копейки «огнетушитель» вермута, и…
выжрал до донышка. В одиночку. Хорошо ещё, жрал на детской площадке. Иначе не дополз бы до дома и не получил от папашки звездюлей. Таких звездюлей, что хватило на всю оставшуюся жизнь. А заодно и на долгую ненависть к родителю. А ещё и к школе. А ещё и к родимому дому. Вспоминая, скорбел:
«Будем всякой хернёй заниматься,
Будем падать и вновь подниматься,
Будем, будем…
А после не будем.
Это – людям, друзья,
Это – людям…»
***
Избитый «папулей», изобиженный, ушёл из дома. Ушёл недалеко, но умненько – на уютный чердак родимой трёхэтажки. Пожил там пригожими сентябьскими деньками, а их выпало ровно семь, комфортно. Ночевал на бесхозной ветоши.
С раннего утра, со своей верхотуры, из слухового окошечка начинал хитрую разведработу – выслеживал час, когда родня расходилась, спускался с чердака и проникал в собственную квартиру через окно на кухне. Благо, первый этаж, пожарная лесенка… какие проблемы? Запасами из холодильника и кормился…
***
Кормила в первую очередь природная смётка, изворотливость, хитрость, вороватость. Всё можно обмануть, везде извернуться, всё обойти.
Только не природу. А природа не одной лишь весной да летним теплом балует, – лютым холодом потчует, снегом-льдом попытывает, зимы снежные напускает… а даже и осенью подмораживает.
Именно они, первые заморозки, а не природная вороватость вынудили прихватить из дома вместе с очередной порцией съестного деньжат для винца. Для сугрева.
Винцо винцом, но и огонька захотелось… как не понять. Распалил, гад, костерок на деревянном чердаке, испёк картошку, клюкнул бормотушки, заснул. Сон был безоблачен…
Но – до поры. Клубы едко смердящих облаков плотно стояли над головой очнувшегося Великого и, кажется, говорили: «Выбирай. Пора. Вставай. Или усни навеки. Теперь или никогда…».
***
«…приходил какой-то жолтый,
Он шугал его: «Пошёл ты!..»,
Только жолтый уходил,
Фиолетовый будил…»
(Из воспоминаний о детских сновиденьях Великого)
***
Великий выбрал – проснулся. И увидел: чердак тлеет, струйки дыма расползаются уже не только от очага, но и от ветхих деревянных перекрытий…
Кинулся тушить костерок – топтал, кашлял, задыхался. Сухие балки вот-вот вспыхнут, а тогда… не только дом, сам-друг сгорит, пропадёт к чёртовой матери.
И не оставит о себе Эпоса…
***
Пришлось спуститься вниз, сдаться взрослым. А в итоге…
В итоге на целых два годочка попал в зону для малолетних преступников. За поджог многоквартирного дома.
Это первая страница жизни, от которой в памяти навсегда остался едкий осадок, а в груди хронический кашель и навсегда надтреснутый хриплый голос «а-ля Высоцкий». Впрочем, причина хрипоты крылась ещё и в более раннем детстве. Но не всё сразу…
***
«Дом горел. Прибыл отряд.
С похмелья отряд строг.
«Никто не уйдёт. Все сгорят!» —
Красивый пожарник рек.
Добил бычок. Сказал вашу мать.
Пламень был чист. Бел.
Чёрный брандспойт. Жёлтая медь…
Красивый пожар был…»
(Из позднего Великого)
***
Тогда-то, раным-рано – после битвы с «огнетушителем» грязного винища, битвы с пожаром, битвы с папулей, битв на зоне – стал Великий осознавать шкурой, ещё не очень дублёной, что всё в этом мире – Битва. Видения надвинулись позже. И заслонили…
***
Перчатка-самолёт
Надвинулись и заслонили Великому жизнь извитые, как дым, видения. Самую ральную жизнь в её прямоте-простоте. Нахлынули мороки, миражи. Откуда нахлынули, Бог весть. Только затуманило глаз, зашумело в башке, во всём распахнутом миру существе такое что-то заворочалось, с чем нет и не может быть сладу.
Это потом он понял – его призвали. Не в армию, не в тюрьму, которых не избежал позже, в инстанцию посерьёзней. Верить не хотел, не стремился в эту инстанцию, и даже сопротивлялся поначалу.
Противление дало, вероятно, некоторый уродливый наклон в творчестве… но, несмотря ни на что, всю-то свою жизнёшечку подчинил он блуждающей Силе. Никем и никогда не понятой Силе. Творчеству.
И служил. Служил ей верно, до конца. Со всею истовостью, искренностью, прозорливостью. Несмотря ни на что…
***
Великий лукав. Дураковат, и даже не в меру. В последних классах школы двадцатилетний переросток, несколько лет потративший на подростковые колонии, вынужден был доучиваться с нами, пятнадцати-шестнадцатилетними. Он явно отличался от всех, как настоящий Неандерталец от кроманьонцев. И ненавидел халдейский глас, стоны, жесты педагогов. Первый написал стихотворное сочинение об ученических годах, поименовав его «Школьный вальс»:
«Мы в школу шагали,
А в школе шакалы,
Которые сделали нас ишаками,
Указками били, дерьмом нагружали,
Пасли, и над ухом дышали, дышали…»
***
Да, но ведь и я, сам тайный неандерталец (пока ещё тайный), стал поражать его самодельными стихами. Стихи были чудовищны и потому нравились Великому.
Особенно его поразило двустишие про нежную девочку, про невозможность красиво признаться ей в «красивых» чувствах, а потому под конец любовной эклоги раздавался там вопль:
«Мне покоя не даёт
Твой перчатка-самолёт!..»
Великий хохотал, как сумасшедший: сгибаясь, переламываясь в поясе, чуть ли не падая на сырой весенний тротуар, по которому шагали из школки после уроков…
А потом взял да насочинял про себя, заикающегося во пьянке:
«Мой приватный логопед
Как-то сел на лисапед,
В грязь упал, и напугался,
И захрюкал, как свинья…
Матюгался, заикался,
Стал такой же, как и я…
Ходим мы теперь вдвоём
К логопеду на приём…»
***
И обрывочек ещё:
«…и с тоски
Сел в такси…»
***
А я читал ему, читал на полном серьёзе другие стишки, и сам внутри хохотал.
Я прочитал ему эпос: «Про Корову, Таракана и Паровоз», где все три персонажа дружили, враждовали, стремились. Эпос венчался лирическим пассажем, где после столкновения коровы с паровозом вырисовывалась величественная степная картина:
«Лягушки квакают вдали
И Паровоз лежит в пыли…»
Великий хохотал. А я ликовал, учуяв родственную душу. И снова, и снова нёс вдохновенную ахинею. Потом я назвал это так: прозотворение…
Нельзя? Но почему! Стихо-творение – можно, а прозо-творение – нельзя? Можно.
***
Моль из Хухряндии
Можно многое. Можно вообще почти всё, если на взлёте, на вдохновенье, на восхитительном порыве вранья, которое уже большая правда, нежели сама правда. Главный закон творчества: не соврёшь, не расскажешь.
***
Я рассказал ему про Моль.
Великий, изумившись, признался, что никогда не видел Моль. Он попросил обрисовать её черты, параметры, образ жизни.
Пришлось объяснить, что Моль живёт в шкафу, что это прекрасное белокрылое существо размером с филина. Вылетает из шкафа исключительно по ночам и питается специально заготовленным для неё тряпичным хламом. Хороших, добротных вещей Моль не ест, поскольку уважает хозяев дома и заключила с ними мирный договор, по которому люди оставляют ей указанное договором пропитание…
***
«Перед тем, как стать хоть чем-то,
Надо помечтать о чём-то…»
(Из поучений Великого)
***
Великий верил и просил показать Моль. Но поскольку Моль появляется только ночью, я обещал ему показать детёныша Моли. И даже подарить ему этот плод воздушного соития Моля с Летучей Мышью. Она ведь тоже, как и Моль, проявляется только в тёмное время суток. И тогда, в потёмках, нужно лишь выждать время и выкрасть детёныша…
Но это потребует изрядной ловкости, длительной тренировки, а посему отложим до лучших дней, до ласковых летних вечеров.
Великий верил.
***
…днём все мыши серы…
***
Верил Великий, и даже писал эклогу про Моль и Летучую мышь. Она затерялась в скитальческой жизни, помнится обрывочек:
«…та-та-та… ни зверем, ни птицей
Обозначиться не спешит,
Ужас кружится над черепицей.
Жуть кожевенная ворожит…»
***
Видимо, из «дневника». Впрочем, нет, не вёл он дневники. Ночники вёл:
«Дикое желание в осеннюю ночь – схватить булыгу и разгваздать звезды. Вдребезги…»
* * *
«…коготочки не топырь,
Я и сам, как нетопырь…»
* * *
Великий лукав. Верил мне лишь потому, что у него самого жили диковинные создания, за которыми трепетно ухаживал и никому не показывал. Чтобы не сглазили. Очень нежные они были. А звали их – Хухрики. Двое, он и она. Он – Хухуня. Она – Хохоня. И оба они – Хухрики, выходцы из страны Хухряндии.
Они родили детёныша Кузюку, и со всеми этими созданиями Великий обещал меня познакомить. И даже показать могилу их прародича – Главного Кузенапа.
Но не познакомил.
Сказал, что в погожий день отнёс нежные создания в горы, положил на травку у могилы Главного Кузенапа, и отпустил восвояси. Убеждал и меня отпустить Моль на волю. Я сопротивлялся.
Великий верил. Верил каждому моему слову, особенно нелепому.
За это я его и любил. – За природное неандертальство.
***
Верить-то Великий верил. Но сомневался. Сомневался вообще во многом. И, в конце концов, усомнился в самом устроении мира, вернее, в правильности устроения его. А не наоборот ли кто-то всё в мире перевернул? Злое сделал добрым, доброе злым?
И предложил свой Вариант Доброго Мира. И написал целый трактат.
Трактат за давностью лет не сохранился. Остался обрывок со стишками, счастливо прилепившимися к старой папке. Точнее, обрывки стихотворения, из которых, впрочем, можно догадаться о величии Целого:
«…шатучая ива… плакучий медведь…
Как всё это славно сложилось!
А ведь
Сложись чуть иначе, стань мишка шатучим,
Мир тотчас же стал бы плохим и плакучим,
Плачевным бы стал, кровожадным и гнусным,
Урчащим из кущ…
Но не будем о грустном.
Мир так поэтичен!.. В нём нежен медведь,
Лирична мятежная ива, а ведь…
Но – нет!
Нет, нет, нет.
Так ведь лучше?
Так ведь?..»
* * *
И ещё какой-то обрывочек, довольно бессмысленный и, скорее всего не имеющий отношения к Целому. Но, пытаясь соблюдать историческую правду, вот он:
«…волки, волки,
А где ваши тёлки?..»
Это всё, что осталось в той папке. Были, правда, и другие папочки с рукописями. Но речь о них впереди.
***
Гы-ы-ы…
Впереди расстилалось для Великого нечто, судя по общественному озлоблению, вызванному публичными проектами, невеликое. Имел слабость, отвагу и глупость составлять проекты, мечтать.
Неравнодушный к бедам Отчизны, не только запивал горькую с малолетства, но вдохновлённые любовью к собратьям-русичам проекты направлял прямиком в газету. В самую главную партийную газету, где серьёзные дяди услышат, примут меры.
Дяди принимали. Не швыряли в корзину рукописи, но, усердные, слали тревожные сигналы в школу, детскую комнату милиции, родителям…
Особенное негодование вызвал проект повышения демографии. Поняв окончательно, что ни увещеваниями, ни материальными посулами рождаемости не поднять, Великий предлагал более действенные меры.
То есть, обернуться и посмотреть назад… куда?..
О, ужас! – Великий предлагал возродить методы проклятого царизма. Одно это уже попахивало политической статьёй, избежать которую Великому помогло лишь его малолетство и добрая репутация родителей…
***
Суть проекта оказалась такова: Великий решительно доказывал, опираясь на исторический опыт, что громадную и дикую территорию России (на две трети в зоне вечной мерзлоты) невозможно было освоить без всевластия мужиков и бесправия баб.
Значит, женщин снова следовало лишить паспортов и пенсий. Лучшая пенсия – дети.
Как было при царе, в крестьянских семьях? Только у девочки циклы наладились – замуж. И рожай, рожай, рожай… сколько Бог даст, покуда утроба плодит. А дальше: «Сорок пять – баба ягодка опять». Поговорка проверенная.
И если под старость оставалось у многодетной матери из полутора-двух десятков детей два-три кормильца, считалось, жизнь прожита женщиной очень хорошо и умно.
Кроме того, отсутствие паспортов обеспечивало прочность семьи. Разводы случались редко, да и то лишь в образованных сословиях. О правах женщин вопили только университетские дурры, деревенские же бабы, главные рожаницы, о таком и не слыхивали, и не думывали вовсе.
Муж ладный, работящий? Добро. И никаких прав не требуется, писаных и неписаных. Раздолбай? Так он и в Африке раздолбай.
При любом времени и общественном строе раз-дол-бай.
***
Скорее всего, стерпели бы и эти мыслишки, не вверни пассаж, подвергавший сомнению материальные посулы для рожаниц. Он сделал прогноз – если деньги и повысят рождаемость, то за счёт мусульман и цыган. А русским всё одно кирдык, коли не отобрать паспорта у баб и не лишить пенсий.
Вот за это – за нац-подкоп – проработали в милиции, школе, а потом и в родном дому. Отвечал на проработки согласным кивком головы и дичайшим звуком «Гы-ы-ы…» Это было одновременно и утробное «Угу» – «Ага», и выражение утробного же, прямо-таки животного смеха. В зависимости от ситуации. А поскольку фрикативный звук этот мог семантически и фонетически видоизменяться до бесконечности, годился на все случаи жизни. Следовательно, уличить Великого в издевательстве над старшими совершенно не представлялось возможным…
***
Из «архива» Великого:
«Темна вода во облацех…»
На земле темнее. На земной воде ворожат. Марь колдовства. А колдуны – кто?
Настоящие повара… заваривающие революции. Вмешиваются во все бурные дела, чуть где заварушка, бунт, драчка (в пивной, в борделе) – колдуны тут как тут. Или так себе, колдунчики, шиши-кочерыжки, шишиморы. Вроде убогонькие, не шибко страшненькие с виду, но очень ловко подбрасывающие хворосту в огонь.
Или – учёные. Зависит от диапазона стихии. Буря, огонь, град, ливень – стихия «учёных». Подкормка же «классических» колдунов, упырей, вурдалаков чаще в ином, в
кишеньях, в нечистотах народных. Незаметно, тоненькой вьюжкой завиваются в бурные дела, непостижимым образом становятся там «своими». Возглавляют революции, перевороты, правительства… «Кровушки надоть!..»
***
«Ленин очень сильный колдун. Сильнее даже Троцкого. Сильнее Сталина. Тот смотрел на Ленина точно кролик на удава, беспрекословно исполнял все его заветы, даже сомнительные. Что после распада страны обидно.
План устройства СССР по экономическим зонам, а не по нацреспубликам, предложенный Сталиным, был дальновиднее в перспективе. Но Ленин был фанатом Великой французской революции, а там идеал был Республика. Ленин кроил страну по европейским меркам, он сказал Сталину «НЕТ», и тот съёжился. И за четверть века полновластного правления не посмел переделать по-своему. А то, глядишь, жили б и ныне в единой стране. Сильный колдун Ленин. Очень сильный. Впрочем, «Темна вода…»
***
И создал Великий Кантату. Целиком не сохранилась. Отрывочек разве:
«…устав от молений, глумлений,
Сложив свои кости в карман,
Восстав с богатырских коленей,
Рассеяв былинный туман,
Амур Енисеевич Ленин
Уходит в глухой океан
Не Ленин, не Надин, а – весь…»
***
Плата за прямохождение
Глухой океан ненависти окружал Великого всю его жизнь. Не всегда шумел, раскалённую пену швыряя в лицо. Глухо таил в себе ненависть, выплёскивался непредсказуемо. Впрочем, учитывая непредсказуемость Певчего Гада, минус на минус давал порою и плюс. Главным образом в творчестве, всплывающем из мутных глубин…
***
«Пустые, осенние кусты без ягод… это не кусты – возмущался Гад, это – „пусты“… так и стану их звать, пусты…»
***
Не любили Великого учителя. Не любили, и всё. Хотя лучше всех решал задачки, быстрее всех соображал. Иногда даже, откровенно глумясь над халдеями, как величал учителей, раньше всех тянул руку, когда ещё не был даже окончен вопрос…
Но, что страннее, не любили родители. Особенно могучий «папуля», геолог, отравивший в младенчестве сыночка…
***
«…ты Царь? Живи один.
Ты Раб? Живи семьёй…»
(Из плача о родимом доме)
***
А было дело на северах. Пил папуля с дружками-геологами водку, кидали окурки куда попало. Один попал в тулуп, где был наглухо закутан млад-Великий. И тот задохнулся.
Не совсем насмерть задохнулся, – пришла «мамуля» из магазина, и обнаружила подозрительный запашок из детского тулупчика. А также подозрительные корчи, покашливания из него ж…
Так на всю жизнь остался Великий, спасённый от пьяных геологов, с голосом Высоцкого, но с некоей писклявостью, в отличие от Владимира Семёновича. В дальнейшем самоотравление уксусом (как всегда, не окончательном отравлении), плюс гарь от пожара на чердаке добавили хрипотцы…
Так, год за годом, формировалось его знаменитое хриплое «Гы-ы-ы…» – на все случаи жизни.
***
Труждаясь беспросыпно над приборами в сейсмостанции (о ней рассказ позже), а также, одновременно, над «огнетушителями» вермута, Великий всё же находил время для некоторых размышлений, чаще всего не имеющих лично к нему отношения.
Он Размышлял Вообще. Чем и был значим…
Но вот подвернулась бабёнка из другого города, бездомная, и пригрел её Великий в своём подвале многоквартирного дома, уставленном не только приборами, но вполне приличной кроватью. И зачала она. Как позже выяснилось, не от Великого. От какого-то заплутавшего шатуна, скрывшегося потом в неизвестном направлении.
Но тогда ещё Великий верил, что – от него. И проникся жалостью к бабьей доле…
***
Когда всё почему-то зашумело-загудело-запело, стишками заклубилось, задумался – а почему, как, откуда это зашумело? Задумался Великий. Задумался впервые на торфоразработках пребываючи, подключаючись, как прояснилось позже, к Её Величеству Поэзии. Неизвестно откуда возник этот шум, как и бывает у настоящих великих – неизвестно откуда и зачем бывает, — но однажды задумался об истоках литературы, а не только о стихийном творчестве. Ибо после зоны, между лекциями в знаменитой пивной, о которой, конечно же, не раз пойдёт речь, стал посещать самые разные библиотеки.
Задумался о Серебряном веке, о его вычурностях, выспренностях, сопряжённых не с Солнцем, а с луною. С поэтизацией «волшебницы-луны», которую, впрочем, Пушкин любил называть глупой. Почему? Уже не спросить…
И о Золотом веке задумался Великий. И о циклах – космических в первую очередь, а также и о женских циклах задумался… и связал всё это в опус. Не очень пристойный, однако, но из песни слова не выбросить:
«…в нашей Солнечной системе
Ворожить на лунной теме,
Всё равно, что жить в…
Трубы Солнечные грянут,
Циклы месячные станут
Годовыми. Как везде».
День непопадания в урну
Как везде и всегда, знаменитый день «Непопадания в урну» не остался без метки. То бишь «зарубки» в корявой амбарной тетради. Скорее всего, это произошло ввечеру. А до того ещё, днём, вопросил задумчиво, остановив меня на осенней ветреной улице:
– «Что это за день такой? Какую дрянь ни кинь в урну, то рука дрогнет, то ветром
снесёт …что это за день? Наверное, особенный день. Такие дни должны именоваться как-то по-особому. А как?..»
Пошевелил-почесал колтун памяти, — под ещё мощной, огненно-рыжей копной волос, махнул рукой, и – вырубил на века. Рек:
«А вот так – «День Непопадания в Урну!»
Записал реченное в тетрадь. Что подтвердилось впоследствии.
***
«…да никакая не Эволюция! Обратный путь. – Инволюция. У Неандертальца мозг свыше двух с половиной литров. Чуть позже, у кроманьонцев – два с небольшим. У нынешних хомо-сапиенс полтора, иногда чуть побольше. А зачем ещё? Основная работа проделана пращуром: изобретён топор, нож, лук, орало. Одомашнена лошадь, собака, корова. Изобретено и усовершенствовано главное средство передвижения в течение тысячелетий – Телега!..
А ещё седло, упряжь… миллион «простых», как бы само собою разумеющихся для жизнеобеспечения вещей: дом, печь, огород, пашня…
И на кой они чёрт теперь, большие мозги, когда всё, требующее мощного разума, смётки, – уже изобретено? Долбать по «клаве» много ума не требуется. Можно расслабиться, атрофировать мозги, передовериться роботу, разучиться понимать компьютерные программы, придуманные когда-то людьми, но теперь уже не нужные вовсе. Зачем? Живи на готовенькое…
А нужны ли роботу сами люди? В первую очередь — роботу. Ну скажи, на фига они нужны машинной расе, обогнавшей поглупевших людей, доверившихся программе, впавших в техногенный кайф, обдолбанных цифрой, виртуальной наркотой?..
Инволюция, однако»
***
Из «максимок» Великого:
«…человек, уснувший под телевизор, уже похож на человека…»
***
…да и мамуля не очень любила сыночка. Почему-то не любила… может, зачат не по любви? Тайна. Тревожить не будем. Тем более, Великий сам подавал, очень даже нередко подавал поводы к нелюбви. И сестра не очень любила. И сотоварищи относились с недоумением… и девушки странно, очень странно к нему относились…
***
Из цикла Великого «Белибердень»
«Что ж зазря глазами хлопать,
Пенелопица?
– «Рыбки бы чуток полопать…»
Да не лопается.
И не ловится, и не лопается…
– «Не ходи за лоха замуж,
Пенелопица!..»
***
И решил однажды свести счёты с жизнью. От нелюбви. От странной,
грустной нелюбви к себе. Такому любимому, нелюбимому…
Да, но как свести? Прыгать с башни? – Страшно. Застрелиться? «Ружжа» нет. Таблеток нажраться? Денег нет, да и рецептика нужного…
***
Выбрал время, когда все домашние на работе, включил духовку, сунул башку.
Пахло плохо. Очень плохо, неприятно пахло…
И решил малость передохнуть… отдохнуть чуток. Прилёг рядом с открытой духовкой, в обнимку с нею, да и заснул.
А тут вдруг – «папуля»!..
Явился домой с работы вне всякого режимного распорядка. И – навёл порядок. Выключил газ, открыл настежь окна, и выдрал Великого – на позорище, на погляд всему двору, на крыльце дома, – выдрал безо всякой пощады сыромятным ремнём по голой заднице. И Великий в очередной раз покинул дом.
Отчий дом…
***
Вот те и «День непопадания в урну…»
***
Под мнозими нозями
День непопадания в урну был не самым болезненным в долгом странствии по земле, по её долам, стремнинам, страстям. Его, непредсказуемого Неандертальца,
почему-то очень много били в этом опасном, рехнувшемся, ничего не понимающем мире. Били в основном кроманьонцы – по своим ничтожным понятиям…
***
Так много, и по разным поводам били, что вывел закон «бития»:
«Чтобы жить и что-то понимать, надо делать больно. Тебе же делают? Жизнь делает. Больно. А другим, подопытным? Иглы втыкают, хвосты крысам режут, собак распластывают… экспериментируют. Иначе опыта, знаний иначе не набрать…
А они нужны, знания? Кто ж разберёт»
***
«…это тебе не детские игры, это старинное дело, это очень странное дело!.. Как только увижу Кремль – х… встаёт» – мистически этак, выражая полнейшее недоумение, говаривал Великий. И вспоминал, как его потоптали у Кремля.
***
«Трахнул прямо в Александровском саду, на травке, под самой кремлёвской стеной одну тёлку… а раньше не мог, не вставало…» – плакался притворно. Притворно, ибо тогда ещё любил только одну девочку, а не тёлку – отличницу Тоньку Длиннюк. А она его нет. Ещё нет. Длинная, прыщавая, не очень складная отличница из хорошей еврейской семьи, чем она привлекла хулиганистого неандертальца Великого? Тайна…
***
«Как много девушек хороших!
Как мало искренних шалав!..»
(Из заплачек Великого)
***
Купил он неприступную отличницу дичайшим образом. На свидании, которое вымолил перед окончанием школки, рассказал, как заснул пьяный в сортире… и – упал с унитаза. Ушибся, разбил голову…
Длиннюк, побледнев от кошмарного откровения, пала в обморок. Тут же, на скамейке, под вешней сиренью…
Но, очнувшись, прониклась к идиоту какой-то необычайной, жертвенной, необъяснимой, вседозволяющей любовью. Женщина, женщина… тайна…
***
И – разразился выспренне:
«Порядочный человек стихов писать не станет!..» —
И написал:
«Как много девушек хороших,
Как много ласковых вымён!..»
***
И переписал:
«Как много девушек хороших,
Как мало искренних шалав!..»
***
После падения в обморок, а также дальнейшего падения вообще, Тонька уже готова была – на всё…
Но, вишь ты, у него, якобы, не вставало нигде, кроме как у Кремля.
***
«Державный восторг, однако! Или фаллический символ?.. Кремль! Башни, башни, башни торчком! Как тут не встать Самому?..»
За это менты (спецменты кремлёвские) и простили. За «Державный восторг». Потоптали, правда…
***
«Щучка не захочет, карась не вскочет…»
***
Первый удар тяжкого глянцевого сапога по голой жопе Великий ощутил на склоне травянистого кремлёвского холма, в Александровском саду. Прямо под Кремлёвской стеной. Ощутил, освобождаясь, наконец, в соитии от длительного застоя в простате. Крик счастья и – одновременно – боли вознёсся выше кремлёвских башен. Но не был услышан свыше. Снизу услышан был.…
Битие Великого менты, изумлённые кощунственной картиной совокупления в ясный день прямо у Главной Святыни Державы, продолжили уже в спецузилище. Могли и насмерть забить, но неслыханная дерзость пучеглазого болвана, а также «Державный восторг», про который избиваемый продолжал вопить, смягчили сердца глянцевых спецментов.
И потом даже налили ему стакан чистой, и похвалили девочку Длиннюк за молчание и благоразумно опущенный взор во время истязания распластанного на бетоне голого, белого, но уже синеющего червяка.
***
«…и окажешься под мнозими нозями…» – воздевая палец нравоучительно, многозначительно потом возвещал Великий.
***
Быль и небыль. Пыль и непыль.
***
…а ведь и то, без стыда рожи не износишь.
***
Из «фразок» Великого:
«В женщине всё должно быть прекрасно и членораздельно…»
***
«Не красна изба углами,
А прекрасными полами…»
***
Добрых — больше