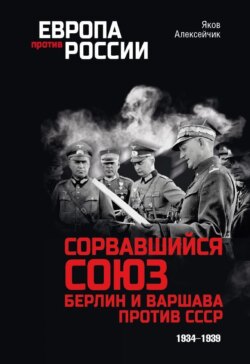Читать книгу Сорвавшийся союз. Берлин и Варшава против СССР. 1934–1939 - Яков Алексейчик - Страница 2
Молчать грешно…
ОглавлениеРодная тетя моего отца – для нас бабушка Ульяна – уходила в мир иной через двадцать лет после войны. Будучи уже без сознания, она повторяла одно и то же имя: «Верка! Верка! Верка!» Мама рассказала нам, тогда тоже еще детям, что Веркой звали внучку Ульяны. Бабушка, муж которой погиб в рукопашном бою с немцами еще в начале Первой мировой, два ее сына, невестка и Верка жили в одном доме. Жили бы и дальше, но пришла война. И опять с немцами. Их хата стояла рядом с лесом, к ее хозяевам по ночам стали наведываться сначала красноармейцы-окруженцы, продвигавшиеся на восток, потом партизаны. Им надо было знать, где на данный момент находятся оккупанты, а иногда и просто перекусить. Однажды бабушка вознамерилась сходить в соседнюю деревню посмотреть, что там с домом племянника, ушедшего в партизанский отряд. Верка хотела пойти с бабушкой, но девочке было всего несколько лет, а топать только в одну сторону предстояло почти пять километров. Ульяна торопилась, потому отказалась брать малышку. Та плакала, цеплялась за юбку. Бабушка не стерпела, шлепнула ее по попке и ушла быстрым шагом. Вернулась ближе к вечеру и вместо своего дома увидела пепелище, а на расположенном поблизости кладбище – тела расстрелянных родных ей людей. Убитая Верка лежала на своей маме, которая, даже будучи мертвой, обнимала дочку окровавленной правой рукой, пробитой несколькими пулями. Мама рассказывала, что после похорон бабушка Ульяна пошла в Дрогичин к командиру местной полиции, добилась, чтобы он свел ее с главным в районе гитлеровцем и потребовала, чтобы тот расстрелял и ее. «Сама подохнешь, старуха!» – перевел полицай ответ немца и вытолкал ее на улицу. «Старухе» было немногим больше пятидесяти. Оставшиеся двадцать лет жизни бабушка Ульяна не могла простить себе, что не взяла тогда малышку Верку с собой.
Наша мама о той войне вспоминать не любила. Слово «немец» портило ей настроение. По ночам сквозь сон она временами вскрикивала: «Спасите! Помогите!» Отец, недавний партизан, начинал негромко чертыхаться, что «опять поспать не даст», но чаще говорил ей: «Успокойся! Здесь только женьковцы!» Женьковцами в наших местах называли и продолжают называть бойцов партизанского отряда, создателем и командиром которого был Женька – двадцатилетний лейтенант Красной армии Евгений Макаревич, попавший в окружение на белорусских территориях. Теперь в Дрогичине его имя носит одна из улиц. После слов о женьковцах мама затихала, если же просыпалась, то они смеялись – тихонько, чтобы не разбудить детей.
Иногда она все-таки рассказывала, как спасались от немецких и полицейских облав в болотистых зарослях, которые местные жители называли Магделиной лозой. Стояли чуть ли по пояс в воде, а по насыпи выкопанного перед войной канала, покрикивая: «Штоп! Хальт! Нах хауз!» – постреливая по густым кустам, ходили те, о которых ей не хотелось вспоминать. Мама на всю жизнь запомнила эти слова. На руках у нее во время тех прятаний была сестренка Любка, родившаяся через полгода после начала войны, а ее братика-двойняшку Васю держал старший брат Иван. Дети многое уже понимали и при словах «Тихо, немцы!» – вспоминала мама, замолкали немедленно. Мамин дедушка Максим однажды отказался уходить из дома, чтобы спастись от карателей, потому сгорел вместе со своей избой. Потом кто-то из полицаев, пособлявшим фрицам, рассказывал, что когда они подошли поджигать его хату, дед, уразумев, к чему идет дело, отказался выходить из своего дома, опустился перед иконами на колени и стал молиться. Останки его тела сельчане доставали из-под недогоревшей балки.
В августе 1944‑го, буквально через месяц после того, как пришли наши, маминого брата Ивана призвали в армию. В январе 45‑го мамина мама, моя бабушка Ольга, получила сообщение, что ее сын Иван Старинович в декабре 1944 года пропал на фронте без вести на территории Польши. За каких-то два месяца до печального извещения о сыне погиб ее муж – мой дедушка – Василий. Случилась смерть в лесу, где он помогал соседу заготавливать бревна для нового дома – взамен сожженного немцами. Спиленная сосна вдруг стала падать на тех, кто ее сваливал. Дед Василий увернуться не успел. И вот снова – трагическая весть. Бабушка сразу слегла. Занавесила черной материей окна в доме и лежала почти недвижимо. Дети не знали, что делать. Рыдали. На третьи сутки Ольга Сидоровна поднялась, сняла ткань, закрывавшую окна, опустилась на колени перед иконами, а после молитвы сказала тихим голосом: «Надо попытаться жить, детки». Под ее опекой оставалось восемь душ, в большинстве своем – еще малолетних.
Где-то через год стали возвращаться домой сельчане, дошагавшие кто до Вроцлава, кто до Будапешта, кто до Вены, кто до Берлина. Двое из них служили в одной части с Иваном. Они и рассказали, что с ним произошло. Иван был связистом. Когда искал очередной разрыв провода, громыхнула мина. Придерживая руками вываливающиеся из живота внутренности, он сумел добраться до медсанчасти, в которой уже пребывали его земляки, тоже раненые, но не столь тяжело. Назавтра умер от потери крови. Земляки-соседи похоронили его около польского города Радом. Было Ивану 20 лет.
Примерно в то самое время, когда Ольга Сидоровна получила печальное известие о сыне, одногодок Ивана Стариновича, уроженец Луганщины младший лейтенант Иван Евенко вступал в командование взводом пехоты в пятой стрелковой роте 1196‑го стрелкового полка 359‑й ордена Ленина стрелковой дивизии 1‑го Украинского фронта. Он уже был довольно тертым бойцом. Повоевал сначала с винтовкой в руках, которая, как утверждал, с примкнутым штыком была почти такого же роста, как и сам солдат. Потом ему вручили ручной пулемет. Спустя еще некоторое время штабисты обратили внимание, что у молодого бойца за плечами восемь классов средней школы, и направили его на офицерские курсы. Личным составом вверенного ему взвода, в котором преобладали люди постарше нового командира, он был встречен не очень-то приветливо. В блиндаже за перегородкой из плащ-палатки младший лейтенант слышал их суждения, из которых вытекало, что «этот молодой нас быстро положит». Он же, получив боевой приказ, пригласил понюхавших пороху в разных ситуациях сержантов, чтобы посоветоваться, как выполнять задачу, чем и начал располагать к себе бойцов, а в начавшихся боях показал подчиненным, что во фронтовом деле он не салажонок. Всю жизнь, как награду для себя, вспоминал эпизод, случившийся в германском городе Бреслау, который теперь является польским Вроцлавом. Шел штурм очередного дома. Прижимаясь к стенке, взводный добирался к пролому в ней, чтобы швырнуть туда гранату. И попал под прицел снайпера. Пуля стукнула чуть выше головы. Услышав ее удар, Иван машинально осунулся на землю. Весь взвод закричал: «Младшого убило!» И рванул к нему. Но он вскочил, крикнул: «Я живой! За мной!» Солдатский порыв превратился в атаку. Дом был взят.
Младший лейтенант Иван Евенко в долгих и изнурительных боях за Бреслау успел несколько дней покомандовать и ротой, приняв ее после выбытия из строя своего непосредственного начальника. При штурме очередного дома и сам нарвался на взрыв упавшей мины, когда бежал на помощь раненому соседу – тоже ротному командиру. Получил сразу восемь осколков, два из которых в левой руке носил до конца своих дней. День Победы встретил в госпитале. Демобилизовавшись из армии, он остался на жительстве в белорусском Полесье – в деревне Бродница в Ивановском районе, который соседствует с моим Дрогичинским. Еще будучи на службе, но уже в Бресте, он пришел поздравить с днем рождения одного из своих коллег-офицеров, кстати, тоже Ивана, да еще и Ивановича, только родившегося на Кубани и уже успевшего жениться на белоруске Надежде из той самой Бродницы. К ней в гости приехала ее младшая сестра Мария, недавняя партизанка отряда имени Лазо. За столом она сидела в платке, плотно облегавшем голову. Иван, улучив какой-то веселый момент, стянул платок с головы Марии. Она же разрыдалась, так как недавно переболела тифом и была острижена наголо. Тот вечер связал их на всю жизнь.
Теперь мой дядя рядовой Иван Старинович и мой тесть младший лейтенант Иван Евенко уже «еси на небеси». Возможно, даже общаются их души. Поскольку нынче «им сверху видно все», оба Ивана, как и все их товарищи, громившие гитлеровцев, глядя из иного мира на оставленные ими земные просторы, конечно же, поражены картинами, которые видят именно там, где шли под пули, чтобы Вроцлав, Варшава, Люблин, Краков, Познань стали польскими городами, а не германскими. Даже в кошмарном окопном сне им тогда не могло присниться, что на территориях, откуда они изгоняли гитлеровцев, спасая от оккупации тамошних обитателей, потомки спасенных начнут приравнивать их к убийцам маленькой Верки и ее родителей, к тем, кто кто заживо сжег деда Максима, кто полагал лишним пребывание на этой планете целых народов и планово стремился к их ликвидации. Для ныне живущих смотреть на подобное молча означает поступаться личным достоинством, ибо мы есть на белом свете благодаря победе в той войне. Иначе не было бы ни белорусов, ни украинцев, ни русских, ни евреев, ни поляков… Такое молчание – знак большого греха. Потому начинаю отвечать тем, кто превратил свою так называемую историческую политику в истерически-очернительскую. У меня для этого много и личных оснований. В Великой Отечественной войне погибло семь моих родственников. И только один из них – Иван Старинович – был солдатом.
Автор.
Г. Минск