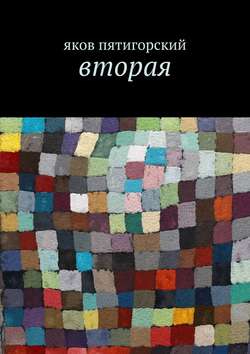Читать книгу Вторая - Яков Пятигорский - Страница 5
Июльская фантазия
Оглавление«В поэме «Одиссея» древнегреческий поэт Гомер
изобразил в образе несчастного циклопа самого
себя.»
Заслуживающие доверия источники.
Давно уже Г. А. Печорин оставил всякую надежду где-либо спастись от скуки, которая столь сильно любила его, что сделалась со временем его вторым «я».
Но когда приехал он в Пятигорск и нанял квартиру на самом высоком месте, у подошвы Машука, то почудилось ему, что «верно было бы весело жить в такой земле».
Впрочем, чувство это испарилось за считанные дни, пока Г. А. развлекал себя привычным образом – ссорил меж собой одних, подбивал на непоправимые глупости других, выставлял в наихудшем свете третьих. Он умело губил репутации и разбивал сердца.
И снова, как прежде, ему помогала таинственная сила, изобильно преподносившая ему один за одним счастливые обстоятельства, раскрывая чужие тайны, даруя сатанинскую власть над людьми, и выводившая каждый раз его сухим из воды. Не раз было, что дело доходило уж до дуэли, но тут равных Печорину, пожалуй, что было не найти.
Скука немедленно воцарилась вновь в его сумрачной душе.
В один из июльских жарких дней, изнывая от злой хандры, не выйдя противу обыкновения из дому, он накропал в своем блокноте небольшой опус. Вдохновил его на это Кавказ, Пятигорск – совсем еще молодой, как его называл сам Г. А., «новенький городок».
«Этот Пятигорск, – говорил Печорин своему приятелю доктору Вернеру, – я бы сравнил с молодой девушкой. Теперь еще она невинна и чиста, но не успеете оглянуться – и вот она уж развращена, превратилась в повидавшую виды, никому не нужную потаскуху. Скоро уж никому она не будет интересна. Посмотрите вокруг. Скоро так будет, разве не так?»
Он видел себя старым опытным обольстителем, потерявшем вкус к жизни – ему в ту пору было двадцать пять лет.
«Что ж могло бы спасти меня от вечной моей холодной скуки, от невыносимого трезвого взгляда на царство людей?» – раздумывал Г. А.
И Печорин вспомнил о поэзии. Ранее он встречал в петербургских салонах людей с бледным лицом и горящим взором. «Этим людям чужды страсти суетного света, а если даже и нет, – размышлял он, – то их всегда спасало бы излюбленное занятие, которому посвятили они свою жизнь.» Таковыми представлялись ему поэты.
В опусе своем в тот июльский день он попробовал изобразить человека, принадлежащего поэтическому миру.
Личность своего героя, Г. А., оставаясь верным себе, наделил привычной своею болезнью – мизантропией. В результате создаваемый им образ, приобрел что-то байроническое. Печорин решил поместить его на свое место, совместить обе биографии в нынешнем времени – так его литературный отпрыск оказался на Кавказе. Но в отличие от своего автора он был сослан в действующую армию за стихотворный памфлет, направленный против самодержавия, – такая идея родилась у Печорина, когда вспомнил он о Пушкине и Радищеве.
…
Печорин не на шутку увлекся своим замыслом. Осознавая, что характеры выдуманного поэта и автора слишком схожи, он пускается на разного рода ухищрения. Супротив своей старинной исконно русской фамилии дворянской он дает поэту фамилию иностранную – Лермонтов. Он заставляет своего героя быть необдуманно грубым с окружающими, наделяет его неуправляемыми прямотой и непосредственностью – не в радость другим и во вред себе. Того, на что оказывался способен поэт, никогда не мог себе позволить расчетливый дипломат и великий лицемер Печорин.
Почувствовав, что выдуманный персонаж гораздо более уместен времени и месту, чем его автор, Г. А. стал испытывать раздражение. Его злило в герое опуса все – прямота, безыскусность, поэтический талант, свобода (внутренняя, разумеется) от общества. И от женщин. Печорину казалось это счастьем.
– Такой долго не протянет, – пробормотал он, растерянно разглядывая перо. – Такого быстро зашибут… зашибут…
Он отложил перо, схватил из вазы яблоко и стал ходить по кабинету из угла в угол.
«За что бы его убил, к примеру, я, – раздумывал он. – У нас не было б никаких общих интересов. Я бы ненавидел его молча – что толку в действиях, когда он сам выставляет себя на посмешище. Он бы ненавидел меня и… о! нашел!.. он бы оскорбил меня!.. написал бы эпиграмму. Или вывел бы в каком-нибудь опусе. Мне пришлось бы вызвать его на дуэль. И, конечно, он бы погиб…»
– Как это было бы прекрасно – погибнуть на дуэли! – воскликнул Г. А., которому жизнь столь часто была в тягость, что он начинал уж ненавидеть свое дуэльное счастье.
И Печорин принялся писать сцену поединка между собой и поэтом. Перо весело летело по белому полю, за окном весело щебетали птицы, и вот уж поэт убит.
– Ч-чорт подери! – воскликнул автор, когда бездыханный поэт лежал у подножья Машука, – да ведь так выходит, что я его обессмертил. Как мсье Дантес Пушкина. Да-с… не больно-то я оригинален в сочинительстве.
Он посмотрел на листки, исписанные ровным мелким почерком, и нахмурился пуще прежнего.
– Чем это я тут занимался? – рассердился он. – Если поглядеть на это трезво, то выходит, что я сочинил историю о том, как запятнал свое имя, ославил свой род. Да, никак иначе! Ведь кто ж поэтов убивает!..
И он отмахнулся от листков, как от досадного наваждения. Потом позвал денщика и приказал тому забрать бумажки. На пыжи.