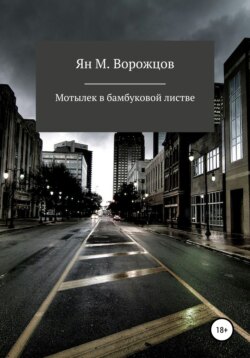Читать книгу Мотылек в бамбуковой листве - Ян Михайлович Ворожцов - Страница 1
Глава 1. Монах поднимается в гору
Оглавление…оконное стекло то бегло окрашивается багряно-голубым безмолвным мерцанием огней кареты скорой помощи и милиционерских машин, перегородивших улицу, то на мгновение возвращается к бесстрастному, профилактическому, успокаивающему и в чем-то даже гостеприимному свету фонарей. Снаружи холодный, туманный декабрьский вечер. Акстафой шаркающей походкой направился по темному, частично освещенному кухонным окном коридору, скользя пальцами по обоям; вялыми, сонными, безжизненными шагами подступил к зеркалу – и нашарил вспотевшей ладонью шнур с переключателем от настенной лампы с уродливым плафоном, щелкнул, и когда брызжуще-яркий, слепящий свет заполнил до краев помещение, Акстафой зажмурился на секунду, а затем безуспешно принялся прилизывать спутанные волосы.
Глядел Акстафой на себя то под одним углом, то пытался под иным – но мертвенно-желтое лицо, окрашенное ламповым светом, всегда оставалось измученным и осунувшимся, под засаленной ушанкой непричесанных волос влажная россыпь потных, налитых кровью прыщей; комплекцией он не удался, ссутуленный и длинношеий, с выпирающим безволосым кадыком, с тягостно опущенными плечами; на Акстафое теплые рейтузы, пуловер с закатанными по локоть рукавами и стучаще-шаркающие тапочки; его пустые керамические глаза бесцветные, без какой-либо искры, в уголке рта всегдашняя сигарета, искусанные, изодранные и затасканные губы, а на костяшках пальцев застарелые расковырянные язвочки! – в жилистой, худощавой, исчерченной голубовато-синими прожилками вен руке маячит и шуршит спичечный коробок.
Полное имя его Алексей Андреевич, а фамилия – Акстафой, и немногочисленные приятели его все как один сходятся во мнении, что Акстафой – человек жалкий, безответственный, безвольный, испорченный, да и просто нечистоплотный.
Он вернулся, пошаркав и постукивая тапочками, на кухню, встал на табуретку, распахнул форточку, переступая с ноги на ногу и, чиркнув спичкой, закурил – продавленная будто бы, худощавая фигура его очерчивается на фоне переливающихся огней.
На фарфоровых окнах и застекленных балконах соседних домов бесчисленные, яркие отражения, отблески, осколки прорывающегося сквозь застывшую пелену лунного свечения.
Акстафой не сразу осознает, что сирены служебных машин безмолвны, что металлическое, механическое дребезжание, жуткое и пронзительно-визгливое, исходит из коридора, которым в данную минуту начиналось и кончалось его ухо.
Он выругался, спрыгнул с табурета и, оступаясь и ругаясь на ходу, направился к верещащему телефону стремительно, желая прервать, прекратить, придушить этот безобразный звук.
– Да! – рявкнул он.
– Господи!
– Кто это?
– Это Юля, что ты орешь мне в ухо…
– Не вовремя звонишь.
– Глеб у тебя?
– Какой… Глеб? А что Глеб? Нет, откуда? Причем здесь Глеб!
– Глеб домой не приходил с утра, днем мне позвонил и сказал, якобы его сокурсник на именины пригласил.
Акстафой лихорадочно кивал головой, поторапливая ее слова, и только Юля Лукьяновна Акстафой, его бывшая жена, кончила говорить, как он взорвался, надсадно провыв, проскулив в трубку:
– Нууу? И что-о! Пусть развеется с однокашниками! Авось, он девку найдет, женится и к ней на иждивение переберется.
– Ты послушай, Леша, сам знаешь, Глеб не компанейский. Он мне недавно только сам говорил, что подружиться не может…
– У меня забот полон рот, некогда разговоры разговаривать! У тебя, ей-богу, катастрофа по любому поводу – или без оного!
Акстафой притопывал ногой, левой, потом правой, и курил, курил безотрывно, исступленно, кипуче, ища, куда стряхнуть пепел.
Ткнул окурок в большую братскую могилу пепельницы – тесной, как сам мир, где все возвращается в бога.
– Ты на часы смотрел, Леша?
– А что часы? Половину десятого показывают.
– Когда Глеб в последний раз куда уходил? Да еще чтобы так надолго!
– Может, у молодежи праздник заладился. А подружиться он не может ни с кем, потому что ему мать прохода не дает – как фашисты блокадникам.
– А как Глеб один до дома поедет? На улице темень, в окно сам посмотри.
– А что улица? У улицы зубов нет, она Глеба не съест. Голова у него на плечах имеется? Имеется! Значит, где фонари пойдет – там дойдет, в канализационный люк не провалится.
– Я серьезно, Леша.
– И я серьезно! Глеб не пятилетний мальчик. На метро доедет. На такси, в конце концов. Своими двоими дойдет.
– У тебя москвич твой на ходу? Съездил бы за ним.
– Куда ехать-то?! С ума не сходи. У нас тут… В общем, хватит. С Глебом нормально все. Живой-здоровый Глеб, скоро будет.
– Откуда ты знаешь? Он у тебя был?
– Слушай, Юля, ты прекращай, мне некогда, говорю ведь, забот полон рот – у нас тут чрезвычайная ситуация, я трубку кладу!
– Попробуй только! Знаю я… У него, видите ли, сын неизвестно где пропал, а ему все одно! С малолетней подстилкой своей кувыркается – вот уж у кого забот полон рот! Ситуация у него чрезвычайная!
Акстафой высокомерно фыркнул и посмеялся, гадко, мерзко, душераздирающе, и кичливо запрокинул немытую голову.
– Ой дура-то… Если Глеб через час не придет – перезвони мне.
– Через час? Ну, давай-ка мы будем оперировать реальными цифрами, Леш? Тебе пяти минут хватит, а то я ждать не могу!
– Слушай, дура, ей-богу, не гни свою линию, не гни свою линию, я тебе говорю! По зубам у меня схлопочешь…
Акстафой вздрогнул, когда услышал, как открывается первая железная дверь. Затем дверная ручка опускается, и покрытая лаком филенчатая дверь без замка открывается следом. Свет двух источников разной интенсивности смешивается в коридоре, прорывается сквозняк, слышатся, вперемешку, разнородные голоса, затем несколько неуместный нервный и сразу прервавшийся смех, и в покачнувшемся, сместившемся дверном проеме на тускло освещенной лестничной площадке возникает высокорослая, как жердь, фигура правоохранителя в милиционерской униформе. Он шагнул в квартиру Акстафоя, как к себе домой, а за широкой спиной вошедшего потихоньку, как бы украдкой, протискиваясь сбоку, вошел другой такой же как первый, тоже в форме, но покуцее, поуже, побледнее и поскромнее, словно первый попросил сделать с себя вдвойне уменьшенную копию как в физическом, так и в личностном плане.
– Это вы, что ли, Акстафоем зоветесь?
Спросил долговязый и смерил взглядом неопрятного мужчину в рейтузах и светло-коричневом пуловере, снизу запачканном едва-едва высохшей краской.
– Я-а, да, Акстафой… А вы?
– Я лейтенант Ламасов, а со мной – следователь Крещеный.
Он протянул руку для рукопожатия, но Акстафой задергался и не знал, куда деть окурок. Ламасов равнодушно опустил руку.
Акстафой растерянно поднял трубку.
– Вы извините, товарищи. Могу я..?
– Только покороче, – вежливо кашлянул Крещеный.
Акстафой кивнул и проскрипел:
– Слушай, Юля… все! Разговор окончен.
– Что – все? Я буду в милицию звонить!
Акстафой глянул на вошедших и покосился на кухню.
– Туда, туда, пройдите, я минуту… минуту, всего минуту. Вы, осторожнее, тут принадлежности ремонтные, не запачкайтесь.
Ламасов заметил еще при входе поролоновый малярный валик, лежащий на расстеленных газетах, там же сетку для отжима в ванночке и ведерко с белой краской.
Акстафой неловко скособочился и ждал, зажав ладонью вибрирующие, стрекочущие перфорации телефонной трубки. Ламасов незаметно и быстро разулся, подперев одну туфлю носом другой, и вошел, а за ним Крещеный – но в обуви.
– Ну что ты верещишь как рыба об лед? – прошипел Акстафой.
– Алле, Леша… ты меня вообще слушаешь!?
– Да тебя и покойник в соседней квартире услышит!
– Я буду звонить в милицию, не верю, что Глеб не пришел до сих пор – сердцем чувствую, что случилось с ним что-то!
– Звони, да, будь по-твоему, звони, звони хоть куда! Хоть бы сразу на тот свет звони, зазвонись! но если Глеб уже мертвый в какой-нибудь канаве валяется, как тебе хочется воображать, а тебе оно хочется! то торопиться и заморачиваться со звонками уже некуда. Он труп, и от твоих истерических сцен Глеб живее не сделается, а если же жив-здоров Глеб наш, в чем я не сомневаюсь ничуть, то адрес свой он знает, не дурачок ведь какой-нибудь, сообразит, я думаю. Верно? Глеб наш все-таки человек разумный, прямоходящий, гомо сапиенс, не зря эволюционировал ведь, Глебушке уже не пять лет, додумается, как до дома доехать! Я вон с детсадовского возраста один-одинешенек по проселочной дороге километровку отмахивал, когда мы в области жили, и ничего, не умер, а там и дворняги, и волчье…
– Сволочь ты! Ну, если что с Глебом случилось, я тебе глаза твои выцарапаю или лучше расскажу этим темным, что ко мне заявлялись, где ты отсиживаешься, поджав хвост, пускай они тебе головомойку хорошую устроят, а то я устала, устала как безбожница, как последняя тварь устала, что долги твои из меня трясут! И алиментов Глеб от тебя уже третий месяц не видит, ни рубля, ни копейки паршивой! Ему и работать, и учиться приходится, он как собака уставший, измученный, ни отдыху, ни продыху, а ты все на свою малолетнюю шалаву промотал!
Акстафой крикнул:
– Ну все, хватит! Ты Глеба еще в зоопарк сдай, там за ним обеспечат уход надлежащий, он же у нас вымирающий вид, а хочешь портить парня – флаг в руки!
И бросил трубку, а потом сразу снял с рычагов, опустившихся и звонко поднявшихся, и Акстафой знал, знал наперед, знал с определенностью, подобно библейскому пророку, что она ему перезвонит и будет перезванивать, пока последнее слово не останется за ней – и не успокоится, пока все не изольет на него, до конца, до последнего словечка – но сейчас ему просто хотелось остаться в одиночестве. Акстафой глянул в зеркало и торопливо последовал за пришедшими следователями в кухню.
В продушенном куревом помещении стояла нестерпимая жара, и Данила расстегнул милиционерскую куртку и снял шапку.
– …здрасьте, товарищи, – пробормотал Акстафой.
– И вам того же, – ответил Ламасов.
Акстафой смахнул с табурета невидимые соринки и присел, он потянулся к спичечному коробку, сунув очередную сигарету в рот, но ощутил странно-бесчувственный взгляд Ламасова.
– Я нервничаю… можно?
– Нежелательно, но если невтерпеж – то бог с вами, курите. Вы меня не помните, правильно? – спросил Ламасов.
Акстафой кашлянул:
– Хоть убейте… Да, скверно сказал. Но сейчас не вспомню.
– Я к вам в начале октября наведывался, в штатском, мне Ефремов сказал, что у Рябчикова новый квартиросъемщик.
– Да-а, ну. Это я был. И что?
– Меня Варфоломей Владимирович зовут, если захотите обратиться, а следователя – Данила Афанасьевич.
– Ну, я припоминаю вас.
– Вот и хорошо.
Ламасов вытащил из кармана влажной куртки кассетный диктофон, щелкнул по кнопке, открыв слот, вдвинул кассету и закрыл, включил запись, и бесшумно закрутились валики, пока Ламасов коротко и ясно, в своей манере, так что заученные слова от зубов отскакивали, объяснил курящему, вспотевшему, нервничающему Акстафою права и обязанности, возложенные на него законом как на лицо, свидетельствующее по делу об убийстве.
– …ваши показания могут быть использованы в качестве доказательства даже в том случае, если вы откажетесь от них в дальнейшем – это ясно?
– Да, да. Мне все ясно как день божий.
– Скажите, вы сегодня спиртное употребляли?
Акстафой бегло сощурился и тряхнул головой.
– Нет, не употреблял, ни сегодня, ни вчера… И я редко пью.
Ламасов кивнул.
– Если еще кто дома – то зовите их, пусть не прячутся, нам все уши и глаза потребуются, если мы хотим убийцу поймать.
– Никого со мной. Ни души, я один проживаю. Жена с сыном отдельно.
– Ну хорошо. Тогда имя ваше… напомните? Алексей, верно, а отчество?
– Да пожалуйста, Алексей Андреевич я.
– А теперь, Алексей, по порядку расскажите, что помните?
– По порядку? По порядку… по порядку…
– Да.
– По порядку? Ну, вы меня с толку сбили. Какой тут порядок!
Данила, стоящий с шапкой в руках, жестким голосом сказал:
– С того, что первым на ум приходит, начните, а там уж поглядим, что к чему.
Акстафой поглядел на следователя, потом на Ламасова, но тот только сухо глядел на него с отстраненно-холодным видом, и глаза его быстро судорожно вращались из стороны в сторону.
– Что-то не так?
Акстафой отвел взгляд.
– Глаза у вас… как маятник в часах.
– Это врожденное, – сказал Ламасов. – Наследственный нистагм, но бояться нечего. Вернемся лучше к тому, что вы видели или слышали. По порядку или, как сказал Данила Афанасьевич, что первое на ум приходит. Сосредоточьтесь, в данную минуту вам ничто не угрожает. Это самое безопасное место на земле.
Акстафой задумчиво покачал головой, и по спине его, между лопаток, разлилось тепло, приятное, на мгновение он забылся.
– Голоса помню… на лестничной площадке. Мужские голоса, и вроде голос Егора Епифановича узнал, хотя точно не скажу.
– А еще чей голос узнали?
– Да я спросонья был, не уверен даже, что это Ефремов был.
– Ссорились?
– Нет, только позже, когда уже в квартире у Ефремова.
– О чем говорили, вы расслышали?
– Слышал, еще бы… конечно, почти дословно, тут ведь стенки тоньше бумаги, ненароком услышишь, когда так орут.
Данила спросил:
– Сколько, Алексей, по-вашему, там было человек? Двое, трое?
– Вот уж не знаю, но по голосам, вроде бы, двое.
– Ефремов и еще один?
– Да, пожалуй… Ефремов кричал, а вот другого я почти не слышал, но ведь к кому-то же Ефремов обращался, верно?
– Может, по телефону говорил? – допустил Ламасов.
– Нет, не по телефону. Это точно, хотя телефон звонил.
– Да? Когда именно? До или после стрельбы. До или после того, как вы слышали разговор на лестничной площадке.
– Я в туалет просыпался. Перед ночной сменой отсыпался. И слышал голоса на лестничной площадке. Думал, может, это соседи с первого этажа курят на пролете? Они частенько, вы бы им замечание сделали, ведь запрещено в общественном месте хотя сейчас никто на первом не живет, у нас прорыв трубы…
– Ближе к делу, Алексей.
– Я из туалета вышел, а потом в кровать вернулся – и тогда зазвонил телефон…
– Где?
– У него.
– У Ефремова?
– Да, у Ефремова.
– За стенкой.
– За стенкой, где ж еще.
– И долго звонил?
– Кажется, минуту-две.
– Ефремов не отвечал?
– Вроде нет. Потом просто прервалось.
– Ну, хорошо, а что дальше?
– Потом зазвучали голоса у Ефремова.
– Сразу?
– Нет, попозже. Минут через пять-семь.
– А вы не уснули? Бывает, только голову на подушку – и тут же в сон. Могло больше времени пройти, как вы думаете?
– Да бог его знает, вот не ручаюсь за себя. Знаю только, что я услышал, как в квартире Ефремова они друг друга костерят, или, по крайней мере, Ефремов костерил другого, а другой то ли молчал, то ли шуму не хотел поднять, а потом вдруг стрельба. Раз-два и готово! Прям как в кино. И тишина, жуть, тишина, а я брысь – с койки прочь, как крыса в сточную канаву! Перетрухнул не на шутку, да и дело нешуточное, и я так отсиделся минуты две-три, не меньше, пока у меня руки да ноги не перестали ватными быть, и бегом звонить в милицию, а когда осмелился к глазку подойти, у Ефремова в квартире уже покойницкая тишина стояла, а дверь нараспашку осталась открытой, и мне показалось, что лежит в коридоре кто-то… а я думаю, это просто-напросто игра света, что мерещится мне! но я до того еще услышал, прямо из комнаты моей, через стены аж, как мужик какой-то с грохотом и топотом вниз по этажам ломанулся, что черт из табакерки. Я, значит, отдышался и перекрестился, и сперва Ефремову попробовал позвонить по телефону, но никто не ответил. Я не верил, что его труп там лежит, но высовываться, чтобы проверить – мне духу не хватило, страх взял. Тогда я уже и набрал милицию, родную нашу.
– Значит, на все про все было два звонка – Ефремову от кого-то, он не ответил, и Ефремову от вас, опять безответно. В первый раз он еще был жив, а потом уже – мертв, верно?
Акстафой кивнул.
– Пожалуй, да.
– А звуки стрельбы слышали?
Акстафой показал на пальцах:
– Да, по меньшей мере – два. И один громкий. Вот так, бах-бах, бах! – один за другим сразу волной. Громко и четко, я даже и не сообразил, что это, потом уж только, одно понимание за другим подтянулось.
– В квартиру Ефремова не заходили? – спросил Ламасов.
– Боже упаси, я за дверь носа не высунул до вашего приезда.
– А в окно не выглянули? – показал рукой Данила.
– Не додумался.
– А из чего стреляли, по-вашему?
Акстафой пожал плечами:
– Да по звуку пистолет стрелял. И… ружье?
Ламасов спросил:
– Что конкретно вы слышали из разговора?
– Ну, Ефремов о каком-то Тарасе говорил.
– О Тарасе?
– Да, это имя я слышал отчетливо.
– Что именно Ефремов сказал?
– Ну… мол, спрашивал, ты моему Тарасу в спину стрелял?
– То есть Ефремов именно спрашивал?
Акстафой странно промолчал.
– …уверен не был? – докончил Варфоломей.
– Может, и не был, но о Тарасе он точно говорил.
Данила и Ламасов коротко переглянулись.
– Вы не ошибаетесь, Алексей?
– Вот… вы так сомневаетесь, ей-богу, и меня сомневаться заставляете! Но я точно слышал, что Ефремов так и говорил, и кричал он громко, кричал, мол, профурсетка фашистская..!
– Профурсетка фашистская? – с ухмылкой спросил Данила.
– Да, так и сказал, богом клянусь, своими словами… ушами, то есть, слышал, мол – за Тараса ответишь мне, и пошло поехало, у меня сердце в груди скакало бешено, но я четко слышал, у нас ведь, говорю, стены – что нет стен, хотя я за эти месяцы ни одного кривого слова от Ефремова не слышал, а тут – на те! – как понесло, и до стрельбы дошло.
– Вы это… Егора Епифановича плохо знали, – сказал Данила.
– А имен никаких не слышали, кроме Тараса?
Акстафой задумался.
– Не могу вспомнить, но, по-моему, нет.
– Ясно. Но вы покумекайте.
– Покумекаю.
– Скажите, а Ефремов к вам на днях не заходил?
Акстафой пожал вялыми плечами:
– Он изолированно держался, как и я.
– То есть – нет?
– Нет… Зачем бы ему?
– Он вас не просил ему спиртное купить?
– Ничего я ему не покупал.
– И по квартире ему не помогали?
– Он не просил, а я – не предлагал.
– А посторонние вам не попадались на глаза?
– У нас тут, товарищ лейтенант, блудилище настоящее, проходной двор, публика тут всякая крутится, по ночам в особенности, кто покурить да потрындычать забежит, кто от мороза погреться у батарей, бомжи да шалашовка всякая дворовая лезет, торчки занюханные, ночью сна нет, орут как резаные да хохочут по нервам, кошек и собак запускают, ишь ты, какие жалостливые, а потом сортирня – мочой воняет, да и сейчас половина квартир-то уже пустует, народ отсюда при первой возможности, при первой удаче – хвать! – и когти рвет, уродливый это район. Но я ничего не могу утверждать. Я и сам-то тут надолго засиживаться не планирую. Дураком буду! А патрулируют пусть участковые ваши, кто здесь чем занят.
– Понимаю.
Ламасов выключил диктофон – валики синхронно перестали вращаться, пленка перестала накручиваться, – и поднялся.
Акстафой спросил, как бы из учтивости, из человечности:
– А сколько Ефремову лет-то было?
– Девяносто семь, – ответил Ламасов. – Он ветеран великой отечественной. Его сын Тарас с нами в милиции служил.
Акстафой, угрюмый и беспокойный, промолчал.
– Еще вопрос. Это вы, значитца, стенку над лестничным маршем закрасили?
Акстафой поднял удивленные, недоуменные глаза:
– Ну я.
– Сегодня, я так понимаю.
– А причем тут стенка?
Ламасов не ответил, Крещеный молча наблюдал.
Акстафой пожал плечами и безынициативно процедил:
– Да, сегодня.
– Мне просто интересно. Дотошный я. В котором часу?
– После полудня, между часом и тремя.
– Ясно. На минуту мы отлучимся, сказал Ламасов.
– Мне вас еще ждать? У меня сегодня смена ночная на работе…
– Пока не знаю, но спать – больше не ложитесь.
Ламасов на первый взгляд шутливо, хотя и безразлично, пригрозил ему пальцем и совсем неожиданно спросил:
– Оружие огнестрельное у вас имеется?
– У меня?
– У вас.
– Какое-такое оружие? Пистолет, что ли?
– Допустим, пистолет.
– Дома, что ли? Здесь вот… что ли… Да ну!
И, невольно вскинув руку, Акстафой устало заерзал на табурете, пепел с сигареты упал ему на брючину рейтуз.
– Так есть или нет?
Акстафой категорично, оскорбленно запротестовал:
– Нет и не было никогда, чураюсь я таких вещей, я привык себя с малолетства человеком умственного труда считать.
– Понимаю.
– А почему тогда спрашиваете? Странный вопрос. И это ко мне-то. К чему?
– Просто в голову пришло. У Егора Епифановича пистолет из квартиры пропал. Вот я и подумал, может, вы все-таки к нему заглянули… или, на крайний, голову в подъезд высунули, а пистолет, пистолет его, из которого Ефремов стрелял – как бы это выразиться, – слямзили у покойного. Он ведь совсем близко мог быть к вашей двери, покойный то на полдлины тела на лестничной площадке распростерся. Только, так сказать, ноги в квартире остались. Вот я и подумал, может, вы себя так защитить хотели? Ругать вас я не буду, чесслово, сам знаю, что среднестатистический человек в экстремальной ситуации склонен к опрометчивым поступкам, но если уж пистолет взяли, лучше не доводите до греха – сознайтесь сразу.
Прежде серое лицо Акстафоя пульсировало нечистой кровью:
– Глупости какие… среднестатистический? Причем тут какая-то статистика! Зачем мне такое вытворять?! Не брал я. Я же не самоубийца, не шизик вроде, не тупоголовый какой-нибудь, в конце концов, что мне на рожон лезть, под пули бросаться! Кто его убил, вон он пистолет и взял – а мне-то чужое оружие зачем?
– А свое?
– Нет, своего тоже нет. Ни своего, ни чужого, я – пацифист, до мозга костей, как говорится. И думал, убийца из пистолета стрелял.
Ламасов понимающе кивнул и степенно поклонился:
– Нам надо отлучиться. Спать не ложитесь.
– Уснешь тут теперь с вами, умеете вы успокоить.
– И дверь не запирайте, пока мы не уйдем.
– А скоро уже?
– Как закончим.
– А труп когда увезете? А то как бы дом не продушился… ну, запахом-то. Понимаете?
– Увезли уже.
– Ну, и на том благодарю.
– А стрелял убийца, к слову, из ружья.
Когда Ламасов обулся, и они с Данилой вышли, беззвучно притворив дверь, Данила застопорился на мгновение и опять заглянул к Акстафою, постучавшись костяшками пальцев.
– Алексей Андреевич? Еще минутку.
Акстафой выглянул из-за угла.
– Ну, что еще?
– Я ваш разговор слышал.
– Мой разговор… Какой разговор? Я молчал.
– Не сейчас, раньше. По телефону.
Акстафой пробормотал:
– А-а, и-и?
– У вас сын пропал?
– Что… сын? А, Глеб. Нет, просто загулялся, парень молодой, ему в жизнь входить, контакты налаживать и перспективы, а мать его на приволье не пускает, будто он только-только ясельную группу покинул! Парень яйца разбить не может, чтобы омлет приготовить, а ей все надо ему шапку да шарфик подвязать, сопли утереть, ползунки подтянуть да пеленки выстирать.
– А сколько ему?
– Да большой уже… Семнадцать лет, главное, что мозги есть.
– Ну, если он до утра не объявится, вы звоните, а то жена вас в покое не оставит, как пить дать – с ума сведет звонками.
– Ничего с ним не будет, найдется, он парень взрослый, а телефон я снял – потому как с ума она и вправду меня сведет.
Данила напряженно улыбнулся, и глаза его, крохотные и сощуренные, глядели куда угодно, только не на опротивевшего ему Акстафоя.
– До свиданья, Алексей. Спите крепко.
Акстафой небрежно, ущемленно, заносчиво фыркнул:
– До свиданья… и, скептически подтрунивая, добавил, – ни пуха, ни пера, следователи!