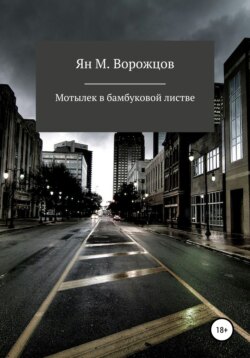Читать книгу Мотылек в бамбуковой листве - Ян Михайлович Ворожцов - Страница 2
Глава 2. В капле дождя муравей
ОглавлениеКогда Данила притворил дверь, то мгновенно почувствовал, что нестерпимо-душная, сырая, неприятно-скользкая, липкая и одуряющая атмосфера квартиры Акстафоя осталась позади, а теперь вибрирующие, гальванизованные легкие его надулись, переполняясь режущим воздухом, в котором перемешались приторное амбре проспиртованной стариковской крови и металлический, пульсирующий, вызывающий головную боль когтистый аромат красящих веществ – и все-таки здесь, на тусклой лестничной площадке, где несколько минут назад лежал труп Ефремова, здесь успевшему отвыкнуть от работы после семилетнего затворничества Даниле проще дышалось, чем в пахнущей испариной, куревом и нестиранным бельем квартире Акстафоя.
Отчасти такое осознание ободрило Данилу Афанасьевича и возможно, что в нем самом плещется неизрасходованная кровь, энергия и энтузиазм молодых лет, когда он еще помнил себя участником, непосредственным участником, соприкасавшимся с противоправными материями и даже наслаждавшимся своей работой; хотя теперь Данила ощущал, что каждое телодвижение его в застоявшемся воздухе места преступления, пропитанного человеческой кровью и человеческой, не побоюсь этого слова, смертью, давалось ему с трудом.
Он переучивался на новый лад и одновременно переживал предыдущий опыт, слепящие мгновения осознанности, что напоминали ему ежесекундно, ежеминутно, присутствовать, воспринимать, учиться заново дышать, мыслить, держать осанку при соучастниках, товарищах, но тело казалось чужим и далеким, Данила постоял в нем, как в облаке сокращающейся мускулатуры, катящейся по артериям и венам крови, пустого желудка, недвижимой печени, плавающих легких, постоял как на заимствованных ногах, и вновь принялся перемещаться в пространстве, которое в свою очередь стремилось вытеснить его, вытолкнуть – и не только физически, но и умственно!
Ведь Данила ощущал, что будто переменилось за прошедшие годы тонко настроенное, долгими годами учебы и практики отрегулированное и отлаженное для такой профессиональной деятельности магнитное поле его ума, старающееся отгородить его теперь мыслей об убийстве, о смерти в принципе и в частности о смерти Егора Епифановича, о преступлении, о расследовании, обо всем ставшим чуждым и гадким ему, и по-человечески неприятным, что изолировалось не зависящими от него силами, не допускалось, не пропускалось, громоздясь где-то за головокружительной и умопомрачительной пеленой, за накатывающими приступами нарастающей головной боли.
И вот сквозь эту незримую, ничем неощутимую, непреступную психическую ауру, глухо-наглухо обложившую его до тупости, до слепоты, до предобморочного состояния, Данила с усилием стремился сквозь нее проникнуть в мир, в потустороннюю ему область внешних, криминалистических взаимодействий, где все мерещилось ему зыбким и ненадежным, кроме Ламасова.
Одного-единственного человека, кому он безоговорочно верил.
Данила шагнул в квартиру Ефремова, где весь пышущий, живой, наэлектризованный, стоял Ламасов, этот высокорослый худощавый мосол, склонившийся, перелистывающий загнутые и интересующие его страницы телефонного справочника.
Данила оглядел коридор – горизонтальные вешалки из реек, одинокое потрепанное пальто на оставшемся крючке. В просторной полупустой общей комнате бросаются в глаза выступающие под подоконником металлические ребра радиатора, отапливаемого паром. Потолок покрыт водоэмульсионной краской. Оконные переплеты окрашены цинковыми белилами и покрыты лаком. На кухне техника, называющаяся странным словом – рефрижератор, газовая плита, тумбы для посуды, а у окна прямоугольный стол и два стула.
– Варфоломей Владимирович, на минутку вас! – послышался высокий писклявый голос.
Ламасов машинально, живо прошагал на кухню Ефремова, не отрывая глаз от колонок с бесчисленными именами, цифрами и мурлыча, напевая себе под нос:
– …Таганка, зачем сгубила ты меня?! Таганка, я твой навеки арестант…
– Варфоломей Владимирович, почерк это Ефремовский?
Данила проследовал за Ламасовым.
– А-а-а… это! Ну, это, знамо, Ефремов писал. Только к делу по меньшей мере косвенно. Писулька-то трехлетней давности, а справочник вот поинтересней будет. Новехонький среди пользованной макулатуры.
Ламасов, погруженный в свою кропотливую, мелкую, только пальцами осуществляемую деятельность, листал страницы, а вот Данила – подошел к письму, написанному решительным размашистым почерком Егора Епифановича на листе бумаги формата А-4, который неоднократно складывали напополам, то раскрывали – по краям пожелтевший от пальцев, а рукописный текст в месте сгиба, ровно по центральной горизонтальной линии, заметно потерся.
Письмо это перечитывали, и хранил его Ефремов еще в бытность свою рачительно, как и положенную в нее дорогую сердцу черно-белую фотокарточку умершего Тараса, хранил он лист бумаги на чистом и белом, как мел, подоконнике, где ничего лишнего не было, кроме пластмассового горшка с разровненной почвой. И письмо, а вернее, предсмертная записка – которую Егор Епифанович написал после смерти единственного сына Тараса, заявляя о своем намерении лишить себя жизни! – лежала аккурат рядом с горшком под старой, уже обесцветившейся под солнцем, пузырчатой и потрескавшейся непромокаемой клеенкой, пока ее не обнаружили и не извлекли, положив перед Данилой.
Он достал футляр из кармана, отстегнул пуговицу и вытащил очки для слабовидящих вблизи, надвинул на нос и, опустившись на скрипнувший стул, повернул к себе записку – и вчитывался в слова, написанные Ефремовской рукой, которая направляла пистолет в преступника, сопровождала Тараса в жизни, вязала петлю для несостоявшегося повешения в своей же квартире, и совершала еще множество-множество дел, которым был свидетелем только сам Ефремов…
Данила снял очки, сложил их и убрал в футляр, поднялся и прошел к холодильнику, к дверце которого был примагничен календарик с вычеркнутыми крест-накрест днями:
– А это что ж… Сегодня?
Ламасов повернулся к Даниле, приоткрыв рот, но глаза его продолжали изучать колонки цифр и имен в справочнике.
– Поминки Тарасовы?
– Они самые.
– Вот так совпадение..?
– Ефремов каждую дату поминок свой уход из жизни разыгрывает – это уже в третий раз. И в последний.
– Слушай, а ведь Макаров, из которого Ефремов стрелял, это Тарасовский – табельное оружие?
– Верно, его Ефремову как память вручили. Само собой, изначально он был небоеопасен. Но Ефремов, по-видимому, недостающий курок и спусковую скобу приобрел каким-то образом. Не знаю только, давно ли?
Данила утер лоб.
Варфоломей обратил на него внимание, опустил справочник, заложив указательным пальцем, жестом подозвал Данилу к окну в полупустой комнате.
– Вот мне еще известна любопытная деталь, – сказал Ламасов, – помнишь ли… а я вот знаю, что за Ефремовым такая мода числилась – любил он какую-нибудь шпану малолетнюю из форточки или с балкона таким старческим, маразматическим голосом окрикивать, да уговорами всякими заковыристыми себе на побегушки ставить по ларькам да магазинам, за хлебом там, за салом да за бутылкой. Сам-то он поздоровее нашей беспутной, безалаберной молодежи будет… ну, был, вернее, а жилку эксплуататорскую коммунизм в нем не подавил, это – конечно! – увы.
Ламасов нетерпеливо махнул рукой и скороговоркой продолжил:
– Но речь не о том. Делай мы всем отделением милиции, всей прокуратурой ставки на то, у кого риск высок потенциально оказаться в роли жертвы, я бы на Ефремова нашего, Егора Епифановича, в последнюю очередь поставил, да и ты, Данила, тоже! Но с другой стороны – персоной он был достаточно конфликтной, а особливо опасным становился под клюквой, а после убийства Тараса сделался невменяемым тем более. Рукава закатывал, с кулаками лез, искал, на ком за горе свое отыграться, даже Рябчиков, хозяин соседней квартиры, человек мирный и интеллигентный, на него жалобу в милицию написал, когда Ефремов к нему в квартиру вломился и бедного Рябчикова его же тростью отлупцевал по спине – да что уж там, Ефремов, случалось, за прошедшие годы и на меня зубами клацал! Потому я к нему на именины не суюсь, а в траурные дни – и подавно! – как-никак ветеран, не какой-нибудь полуголодный портяночник в тулупе вшивом. С ним на ножах быть – себе вредить, вот так…
Данила зло, возмущенно высказался:
– По простецки ты о скорбях чужих рассуждаешь, хотя сам-то не узнал, почем он – фунт лиха-то! – чтоб затронуло тебя.
Варфоломей понимающе-простодушно, дружески глядел на Данилу, ничуть не оскорбленный и не пристыженный.
– Виноват, – сказал Данила, одновременно покоробленный и обрадованный Ламасовской невозмутимостью, – не время нынче самообладание терять. Давай-ка лучше за дело браться.
– Ты уж определись, Крещеный, что ж себя самого извинять.
– И то верно.
Ламасов открыл справочник и, всматриваясь, сказал:
– Самое интересное в этом деле – мотив убийцы. Не ограбление, это конкретно. Под клеенкой на кухонном столе восемнадцать тысяч, сам проверил, лежат нетронутые. Да и ценностей в квартире Ефремова – раз-два и обчелся! – в целом, обе комнаты практически пустые. Обои если только со стен сцарапывать. Ни телевизора, ни радиоприемника нет.
Данила сказал:
– Я лично пока не вижу никакого мотива… да мне бы и до лампочки, что у бандюги этого в мозгу творилось, чем он, понимаешь ли, руководствовался, когда Ефремова убил. Мне ясно одно, что застрелили Ефремова – это факт. Всем фактам факт. Один-единственный выстрел – и вот, как насекомое прихлопнул, и нет жизни человеческой! – из ружья, а это тебе, товарищ оперуполномоченный, не фомка кустарная, не пугач пластмассовый, тут бердыш нешуточный, серьезный, с ясным и простым посылом на смертоубийство. Ефремова нет, а убийца – есть. И вооружен он, будь проклят, и опасен. И точка.
Ламасов, в пол-уха слушавший Данилу, кивнул:
– …вот мы с тобой злодея изловим, тряхнем, из него и посыплется – а там уж и судопроизводство не за горами, там уж всю подноготную, экссудат гноящийся, выжмут досуха.
– Тьфу!
Данила прошелся в коридор, осмотреть место, где убили Ефремова, гул отдаленных людских голосов смазался, слова не имели смысла, статический шум автотранспортного потока на офонаревшем, светофорами напичканном перекрестке становился то надсадным, будто что резко с железобетонным скрежетом оседало, то прерывался, то возобновлялся, наполняя странно пустую Ефремовскую квартиру чуждыми, тягучими, какофоническими звучаниями – и почему-то квартира уже казалась частью улицы, частью большого безымянного города.
Данила оглядел место, где, по выводам криминалистов, стоял убийца Ефремова – а стоял он в конце коридора, у телефона.
– Странно, что стрелявший свободно вошел к Ефремову, ни следа взлома, ни намека… что ж, Ефремов ему сам открыл?
Вслух пробормотал Данила, а потом присел на корточки и принялся разглядывать Ефремовскую обувь, полусапоги и сапоги да старенькие полуботинки, и пару резиновых галош, все было расположено аккуратненьким рядком вдоль стенки.
Данила поднялся и развернулся по направлению к двери, подтянул руки к животу, покачал их и левую переместил скользящим движением вперед, прикидывая взаимодействие с подразумеваемым ружьем, прицелился в направлении входной двери, где находился в момент выстрела воображаемый Ефремов, затем огляделся по сторонам, Ефремов тоже стрелял, причем дважды, пронзительные и обрывистые звуки Акстафой услышал за стенкой поверх выстрела из ружья – из рамы извлекли несколько дробин седьмого номера… по куропаткам летом стрелять самое то… и в Ефремова тоже… а что же по гильзе?
По гильзе!
Учитывая, что убийца, предположительно, рассчитывал выстрелить повторно, чисто механически, чисто инстинктивно – то, выброшенная из ствольной коробки, – Данила провел рукой в воздухе справа, – гильза могла отскочить в гостиную комнату по правую руку и по линолеуму закатиться под диван…
Данила опустил руки, визуализируя все случившееся. Потом опять наклонился к обуви, поднимая одну за другой, услышал тихий нехарактерный катящийся звук, когда поднял туфлю и наклонил ее на ладони… и уже минуту спустя в яростном и зыбком, в бронзово-золотом свете жужжащей коридорной лампы вместе с Ламасовым, который с высоты своего роста нагнулся так, словно вот-вот, целиком и полностью, от головы до кончиков пяток, войдет в туфлю, намереваясь уместиться в ней.
– Запакуй и оформи, по протоколу… Не забыл еще?
– Помню… Вспомню.
– Долго ты по монастырям колесил, друг ситный. Надеюсь, мудрость нашел – пора теперь возвращаться к работе в полную силу.
Варфоломей коротко, с ободряющей веселостью ухмыльнулся, опустил глаза в не дававший ему покоя справочник, а спустя минуту неожиданно застыл, и лицо его, худое, вытянулось.
– Черницын!
– Кто?
– А вот смотри, Черницын, Ярослав Львович.
– И кто это?
Ламасов придвинулся к Даниле и, перемещая палец вниз, показал ему вычеркнутые фамилии, Черницына Б.У., Черницына Г.И., Черницына К.О., Черницына Ф.С., зачеркнутые, кроме последнего с инициалами Я.Л.
– Черницын… Черницын, как же так-то? Ну, ты что ж, Данила… Черницын-то, Ярослав Львович, ранее подозревавшийся в убийстве Тараса, вот он, мужик наш! Ефремов, значит, напрашивался, губительного контакта искал с предполагаемым убийцей Тараса, в крестовый поход хотел отправиться, агась! Ясненько все, – Ламасов положил руку Даниле на плечо, – вот тебе спецзадание, Крещеный, бери-ка ты с собой Журавлева, Евгения Васильевича, да Синицына, Сергея Дмитриевича, и езжайте-ка вы всей бригадой на хату к этому Черницыну, я адресок его не помню уже, но ты к малогабаритному коммутатору нашему в служебной машине спустись, оценишь заодно оснащение новое, в отделение звякни – там тебе быстренько продиктуют, что, куда и как. Ну, за дело!
– Понял, понял… Синицын, Журавлев… ох, серьезно?
– Ага, наши запретные птицы, наши молодчики. И уж поверь, лучше – пьяный Журавлев, чем трезвый Синицын! Ну, бегом!
– Понял, старшой.
Ламасов крикнул ему вслед:
– Данила! Стой-ка!
– Что?
– Вспомнил адрес Черницына, запоминай: Сухаревская шесть, квартира двадцать два. Минут семь-восемь отсюда.
Варфоломей наблюдал, как Данила торопливо уходит, и ухом, единственно слышащим ухом, слышал, как он быстро-быстро спускается по ступеням, минуя марши и пролеты двух этажей.
И когда Данила наконец ушел совсем, и с деревянным звуком захлопнулась ветром подъездная дверь, Варфоломей выдохнул и направился к Акстафою, опять вошел, не постучавшись, и застал этого негигиеничного жильца, этого эскаписта, будто сюрреалистического персонажа, за курением очередной сигареты, и стоял он, по своему обыкновению, на табуретке, дымя в форточку, и только незаинтересованно, устало оглянулся, когда услышал шаги пришедшего к нему Ламасова.
Акстафой увещевательно, шутливо, злобно-ядовито бросил:
– Будьте как дома, начальник!
Ламасов, пропустив его слова мимо ушей, спросил:
– У вас, между прочим, в подъезде весь потолок отсырел…
– Знаю, – небрежно отозвался Акстафой, – жильцы снизу с полмесяца назад специалистов вызывали, над квартирой Рябчикова трубопровод прорвался, а вода – слава Богу! – в сторону утекла, едва-едва стенку промочила мне, а с улицы – там дай боже! Но, конечно, и соседей снизу – их-то лихо прополоскало!
Варфоломей глядел на него молча.
Акстафой опомнился, спросил:
– Вы про отсыревший потолок спросить хотели?
– А вы, Алексей, нечасто, я вижу, на себя чужую работу берете?
– В смысле? Хотите сказать – мне надо было с губками тут стоять или с тазиком, с ведрами, может?! – влагу впитывать, каждую пролитую каплю ловить? А ради чего? Меня-то оно обошло – и ладно, а сейчас хоть в доме тише сделалось, они все к родне переехали – скоро, правда, тут ремонтировать начнут.
– Я вот гляжу на вас, Алексей, вы только не оскорбляйтесь, не подумайте, и вижу, что не из тех вы людей – кто добровольно способствует поддержанию общественного порядка, ой не из них.
Акстафой опустился, взял консервную банку и стряхнул пепел:
– Вы на что… Варфоломей Владимирович, или как вас там… намекаете? Уж по-человечески скажите, прямо, пусть мне ножом по сердцу будет прямота, но я как-нибудь переживу.
– Что там было, на стене-то?
– На которой?
– Которую вы закрасили.
Акстафой мотнул головой:
– А-а, это! Творчество народное, мерзопакость всякая, а ко мне, между прочим, сын в гости наведывается! Вот я и не хочу, чтобы он лишний раз в человечестве разочаровывался.
– В жизни у него, наверно, разочарований за глаза хватит.
– Глеба жизнь – не моя.
– Это верно, и долги отцовские, я так понимаю – ваши.
Акстафой повернулся к Ламасову и уронил голову в плечи.
– Давайте-ка мы, Алексей, признаемся – смелее!
– Не в чем мне признаваться!
– Что вы, в самом деле, как дите малое, мы оба знаем, что там написано было – или мне у вас шпатель взять да соскрести, отколупать труды ваши, вот там и поглядим… или же вы мне, как человек человеку поможете, время общее сэкономите?
Акстафой процедил сквозь зубы:
– Откуда узнали?
– А я к Ефремову чуть больше двух недель назад наведывался и ненароком, невольно, но прочитал… творчество народное – так что от меня увиливать было изначально бессмысленно!
Акстафой слез с табуретки, сел, уперся локтем в столешницу и курил, по-женски как-то, медленно перебросив ногу на ногу.
– Мне-то казалось, что мы с вами, Алексей, начистоту будем разговаривать, что я вам, как милиционер, доверие внушаю.
Акстафой промолчал.
– Давно написали-то?
– С полмесяца как или больше… ближе к концу ноября, что ли.
– Долго у вас руки доходили… чего ж щас-то спохватились?
– Рябчиков, хозяин квартиры, интересовался, почему я плату просрочил, я и подумал, не дай Бог он нагрянет, два плюс два сложит и живо сообразит, а мне потом – расхлебывай зазря!
Ламасов, позабавленный нахальством, покачал головой:
– Кто надпись-то написал?
– Кто-кто… дед Пехто и бабка с пистолетом.
– Они и Ефремова убили?
– Вот уж увольте, – Акстафой сунул в рот сигарету и раскинул руки, – а кто Ефремова убил – один Бог знает.
– И убийца.
– И он, вот его и ищите – у него спросите.
– Найдем-найдем. Так кто надпись написал?
– Поп, наверное.
– Какой-такой поп?
– У которого собака была.
Ламасов сухо ухмыльнулся:
– У вас тут, под носом, понимаете ли, человека застрелили насмерть, а вы со мной в ухищрения, в каламбуры играете.
– Шок у меня… а так расслабляюсь.
– А теперь давайте-ка посерьезнеем.
– Если серьезно – то я понятия не имею.
– Вы у скольких человек одалживались?
Акстафой неприятно, скрипуче посмеялся:
– Проще перечислить, у кого я не одалживался.
Ламасов наблюдал за Акстафоем, чей взгляд блуждал по кухне. Ламасов поднял ладонь и звучно хлопнул по столу.
– АКСТАФОЙ, ДОЛГ ВЕРНИ – А ТО ХУДО СДЕЛАЕМ!
Акстафой вздрогнул от неожиданности.
– Вот такие слова я запомнил. А вы тут плаваете, значитца, спите наяву, в облаках витаете, как школьник нерадивый на уроке алгебры, так сказать, сосредоточьтесь, Алексей! Давайте-ка, по хлопку в ладоши вы мне начнете называть фамилии и имена, у кого и сколько брали, перечисляйте крупные суммы…
Варфоломей негромко хлопнул в ладоши и приготовился записывать в небольшой блокнот на спиральном креплении.
Акстафой тягостно выдохнул:
– Эдуард был…
– Ну-ну.
– Фамилия Кузьмич…
– Дальше-дальше.
– Отчества не знаю.
– Ну что вы, в конце концов! Не в стоматологическом кресле вроде сидите, так что из вас клещами все тянуть надо, ей-богу!
Акстафой сглотнул:
– Эдуард Кузьмич, место проживания не назову, не знаю, что поделать, где работает могу только назвать, запросто, в цеху у нас прессовщик, и еще телефон…
– Вперед и с песней, как пионеры.
Акстафой назвал номер телефона Кузьмича.
– Кузьмич этот… адрес ваш знает нынешний?
– Не должен.
– Но мог узнать.
Акстафой пожал плечами.
– Кто-нибудь к вам приходил недавно? Может, звонили?
– Э-э… н-нет, а я бы все одно – не открыл. Пусть гуляют себе на все четыре, у меня так или иначе – за душой ни шиша!
– Вот тут вы верно подметили… Так-с, Кузьмича я записал, у кого еще занимали? Сколько у Кузьмича?
– Вы меня стыдите прямо…
– Не думал, что вам чувство стыда знакомо.
– Шутите?
– Говорите.
– А к чему, собственно? Причем тут мои долги и убийство Ефремова, я не пойму? Связи не прослеживается ну никакой.
– О связях оставьте мне и Крещеному думать, ваша задача и забота единственная на вопросы следствия дать четкие, однозначные и ясные ответы. Нам в деле официальном, подсудном, кривда да полуправда без надобности, понимаете?
Акстафой кивнул:
– Ну, у Кузьмича сперва я занял. Около двадцати тысяч.
– Около? Или все-таки двадцать.
– Двадцать.
– А еще кто?
– Жена моя, Юля Лукьяновна. В общей сложности порядка сорока тысяч.
– Дело сдвинулось с мертвой точки, дальше-дальше.
– У Селифанова занимал, электромонтер он вроде, не помню сейчас, сколько, но давным-давно, около полугода назад…
– Вы хоть кому-нибудь долги вернули свои?
Акстафою не нашлось, что ответить. И Ламасов все понял, а пока Акстафой вспомнил фамилии и имена Луганшина Ильи и Щитовидкина, Софрона Сильвестровича, а еще Тульчанова, Аркадия Валентиновича, сумел назвать Варфоломею номера их телефонов, а Варфоломей записывал за ним слово в слово.
– Но это, надо полагать, только часть имен?
Акстафой вздохнул.
– Кто-нибудь из перечисленных вами знает, где вы живете?
– Это вы у них спрашивайте. Я не экстрасенс.
– А жена ваша, Юля, не могла кому-то адрес ваш назвать?
– Ей-то… на кой оно? Да и никто не знает адреса ее и телефона, чтобы обо мне допрашиваться да дозваниваться!
Варфоломей хмыкнул:
– Ладно. А кредиты оформлены на вас?
– Оформлены… давнишние.
– И как, тянете?
– Как бурлаки на Волге.
– А с сомнительными личностями дел не имели?
– С какими сомнительными?
– Ну, кто знает?
– Не имел… нынче, впрочем, все сомнительно.
– Ясно. Вы сегодня никого не видели, когда в подъезде стенку красили – никто от Ефремова не выходил, не входил?
Акстафой поискал взглядом пепельницу, ткнул в нее окурок:
– Нет.
– Это со всей уверенность?
– Категорически. Я – не видел!
– Ну, пусть так.
Варфоломей поднялся из-за стола.
– И еще одно…
Акстафой поднял недобрые глаза:
– Рожайте уж, я готов.
Варфоломей, пригибаясь, прошел по коридору, развернул к себе туфли, начал обуваться и скороговоркой проговорил:
– Десятикилограммовую гирю на вытянутой руке легче удержать на протяжении сколько-нибудь долгого времени, чем до краев наполненный водой стакан – и при этом не расплескать ни капли. Научный факт вам из энциклопедии.
– Из энциклопедии вымысла лейтенанта Ламасова? А то у вас и статистика, и физкультура, и наука, и все в одном флаконе…
– Не будь вы столь кичливым, не бросались бы со мной в напрасные словопрения, а покумекали лучше над смыслом услышанного. До свиданья, Алексей.
– И вам не хворать, лейтенант.
Варфоломей сдержанно поклонился и пожелал Акстафою доброй ночи и, обувшись, вышел из прокуренной квартиры, зашел к Ефремову – упокой господь его душу! – взял со стола упакованную в полиэтиленовый пакет для улик бутылку и, сунув за пазуху в широченный карман куртки, направился вниз по лестнице, покосившись на неумелую мазню Акстафоя на стене, спустился и открыл дверь, сразу заметив, как молодой участковый инспектор, работающий по району и оперативник уголовного розыска, закадычными приятелями с дурным видом стоят-постаивают, куря стрелянные сигареты в расхлябанных позах, распахнув одежки и перетаптываясь с ноги на ногу, с раскрасневшимися угреватыми носопырками, с прищуренными от ехидной, глупой веселости мальчишескими глазками – стоят, с кривыми оборотническими ухмылками на губах, а смятые окурки втаптывают в бесформенную пену растаявшего снега. И снежинки, громадные и невесомые, как стаи жидкокристаллических бабочек, почерневшие от траурных облачений, все кружатся, мечутся и стелются, и расстилаются, и увлажняют дорогу и тротуар, и небольшую хорошо освещенную площадь, и двое хихикающих ловят их языками.
Варфоломей застопорился и недобро глянул на парочку.
– Эй… вы не ополоумели ли, архаровцы! Что за гримасы кокетливые на рожах, как у шалашовок привокзальных! Вы на службе при погонах или в притоне застойном? Уберите свой мусор отсюда, полудурочные – а то каждого по окурку съесть заставлю! Боже ж мой, что за молодежь такая пошла, что ни мент – то мусор, честь милиционера унавоживаете! Акимов где?
– Слушаюсь, товарищ лейтенант! Да, Акимов с поисковой овчаркой, двумя оперативниками и добровольцем, по фамилии Романов, кажется, уборщиком мусоропроводов, вызвавшимся их сориентировать, прочесывают местность по следам неизвестного стрелка… и Романов этот, товарищ лейтенант, между прочим, со своими коллегами и друзьями, договорился нам предоставить видеоматериалы с камер скрытого наблюдения за дверьми внутридомового склада, которые они всей артелью дворников и слесарей установили; а на складе том, говорят, свою рабочую, профессиональную экипировку запирают и инструменты, в том числе и сотрудники жилищно-коммунальных, живущие в этом районе. Романов сообщил, что несколько раз на склад ворье да хулиганы влезали, и чтоб поймать их, в переулке расположили две камеры – не знаю, что за камеры! – но Романов говорит: дешевенькие, больше для испуга, так что на картинку заранее не рассчитывайте. И очень ему хотелось лично с руководителем, с товарищем лейтенантом, поговорить по этому поводу! Вот как вернутся они…
– Вот как вернутся, там и говорить будем, – отозвался Ламасов, с каждым произнесенным словом выдыхая из груди курящийся, насыщенный жаром воздух, – а пока что больше самоотдачи, мальчики и девочки, как искры от молота, как железом по железу, больше жажды правосудия, стиснув зубы, с голыми кулаками сжатыми, чтобы всякому злоумышленнику неповадно было, овчарка Акимова и та инициативу проявляет, а вы!..
Широкими шагами, сунув ладони в карманы, Варфоломей направился к магазину, где Ефремов затаривался спиртным.