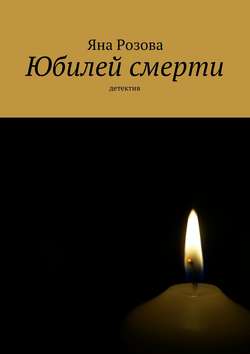Читать книгу Юбилей смерти - Яна Розова - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Жизнь первая
ОглавлениеМне восемнадцать. Все говорят: ты уже взрослая. Будто хотят от меня отделаться – кому нужна сирота?..
А я без мамы даже не знаю, где за квартиру платить.
Мне страшно и одиноко. Я ищу человека, с которым можно поговорить, но такого нет. Остается только Машка, а Машка сейчас не в помощь. Она боится что-то не то ляпнуть, напряженно следит за мной карими глазами, отражая мою боль. Мне уже самой хочется ее утешить, только я не знаю, как.
Одиночество поглощает. Постепенно ощущаю, что в нем содержится какая-то странная сила. Может, это свобода?
Я поступаю в педагогический институт, знакомлюсь с сокурсниками, осознавая глубину пропасти между нами: они еще дети, а я уже взрослая. Они могут позволить себе кино, кафе, прогулы лекций и семинаров, дискотеки, бунт против старших, дикий макияж, сиреневые ногти, зависнуть в общаге у мальчиков до утра, обжорство пирожными, курсы английского, нытье, бзики и крики. А я – нет.
Дни идут за днями. Мне кажется, что я адаптируюсь, что все не так уж и плохо. Только что-то изнутри заставляет искать большего. Хочу, чтобы рядом со мной оказался близкий человек.
Машка начинает отходить от моего горя, болтать про свои танцы и мальчиков. Она танцует в народном ансамбле и учится в кульпросветучилище, кульке по-нашему.
Моя Маша, самая близкая и родная.
Мы познакомились в пять лет, когда мамы привели нас (пухляшек с толстыми косичками) в балетную студию. Мы стали рядом к станку, обтянутые черными купальниками с белыми резинками на поясе. Резинки должны указывать – в первую очередь нам самим – где у нас талии. Без резинки талию не найти вовек. Наш хореограф кричит: «Втяните животы! Подтяните хвосты!». Мы, судорожно вдыхаем и пытаемся не отклячивать попы.
Запах балетного класса – это смесь аромата влажной древесины, исходящего от деревянных, смоченных водой, полов и вонь крепкого пота. Девчачий пот, вопреки тому, что знают о девочках прапорщики, резко и даже остро шибает в нос. Теплый, взболтанный вентилятором под потолком воздух наполняется звуками фортепиано и резким, но певучим голосом Тамары Борисовны. Как она орет на нас!.. И какая она красавица! Тонкая, ногастая, с длинной шеей и великолепными прямыми белыми волосами ниже пояса. У нее правильное породистое лицо – черты уверенные, аскетичные. Крупные запястья – она умеет ими говорить. Так легко представить Тамару Борисовну в пуантах, завязанных на щиколотках широкими лентами, и гибкий батман, фуэте, рондо-жам-порте, флик-фляк! Мы обожаем и боимся ее, как могущественной колдуньи, танцем вызывающей любовь и бури.
Через два года, первого сентября, мы с Машей, уже семилетние девицы в коричневых платьях и белых фартучках, встречаемся в школьном дворе. С восторгом узнаем, что будем учиться в одном классе! За одну парту нас не посадили, но мы оказываемся на одном ряду – я слева и сзади Маши. Остальные первоклашки – растерянные и брошенные, а мы вместе. Я тут же начинаю всех строить, ссорюсь с мальчиком, который толкнул девочку. Мальчик пытается толкнуть и меня, но рядом сердитая крепенькая Машка. Мальчик отступает.
Нам по десять и балетную студию преобразовывают в народный ансамбль «Колосок». Теперь мы пляшем, а не танцуем – кривится Тамара Борисовна. Некоторое высокомерие по отношению к хороводам и гопакам постепенно растворяется. Нам ставят красивые номера – сложные хореографические рисунки с вплетенными широкими «русскими» движениями, а также дробями, «веревочками» и прочими радостными подпрыгиваниями.
Мне кажется – уже тогда я понимала всю искусственность этих псевдонародных, лубочных поклонов и взмахов, производимых с широкой улыбкой под изумительно неестественную музыку и академически-безжизненные голоса исполнителей. Нам хотелось чего-то живого, настоящего, современного, чего было нельзя в те времена, потому что мы традиционно выступали на политических мероприятиях, метафоризируя тот самый народ, ради которого советские партократы лопали бутерброды с дефицитом в закрытых для быдла буфетах.
Черно-белая кошка, вульгарно развалившаяся в траве.
Мы с Машкой стыдим ее: какая нахалка! Подходим, укладываем в пристойную позу, гладим. Нам удивительно хорошо и спокойно, а моя мама ждет нас дома с блинами. Самое лучшее воспоминание детства.
Машке трудно со мной – я настырная, как говорит моя мама. Я лезу бороться за правду. Мой мир поделен на черное и белое, я пытаюсь не пустить черноту на свою белую половину. Мирю поссорившихся, ищу чужую потерянную сменку, делюсь булочкой с девочкой из многодетной семьи. Надо, чтобы все было справедливо! В итоге помиренные подруги объединяются против меня. Разыскивая сменку, я опаздываю на урок, и я наказана. Половинку булочки, отданную девочке из многодетной семьи, отбирает девочкин старший брат, а меня больно дергает за косу. Одни только неприятности!
Машка, наоборот, послушная. Ведет себя хорошо и пытается останавливать мои глупые попытки осчастливить всех вокруг.
С годами я не меняюсь, а только расширяю список вещей, против которых надо бороться. Учительская несправедливость, защита умственно отсталой девочки, школьная дедовщина, троллейбусные бабки, ненавидящие все молодое и веселое в мире, злые мальчишки постарше, томные дяденьки в транспорте, старающиеся тесненько прижаться к юному телу, плюс многое другое – по мелочи. Я борюсь, получая по башке, а вместе со мной достается и Машке. Нам частенько обещают секир-башка, и пару раз мы огребаем обещанное: однажды Машке выбивают зуб, ее увозит «Скорая». На следующий день прошу Машку не участвовать в моих сражениях. Она называет меня дурой. Я дуюсь, но глубоко в душе понимаю ее: как она, моя подруга, может не участвовать?..
Мама здорово страдает, не понимая, что мне надо: «Ты же девочка!» – «Девочка – это аморфное послушное чмо?» – «Нет, девочка – это образец воспитания» – «Или конформизма!». Я блистаю новым словом. Мама отворачивается.
Мы с мамой часто ссоримся, а после – так же часто обнимаемся. Мама признается, что просто боится за меня. Нельзя быть такой правдолюбкой. Я соглашаюсь, что можно сдохнуть, борясь со злом в мире – оно везде. Океаны зла! На следующий день стараюсь держаться в стороне от береговой зоны. Пусть себе плещутся волны несправедливости, а я маме обещала провести день, не нажив проблем.
И словно на зло – мою подопечную недоразвитую девочку дразнят девки из десятого класса, вредные гормональные кобылы. Я не удерживаюсь и вступаюсь. Здоровенная деваха, метр семьдесят, сто кг жира и мяса, хватает меня за волосы и выбрасывает в окно первого этажа. Что ей мои сорок пять чистейшей глупости и костей? Мне крупно везет: приземляюсь на кустарник. Оцарапанная и ошалевшая в полете, встаю на ноги.
Сижу в школьном медицинском кабинете, медсестра мажет мои раны йодом. Завуч по воспитательной работе сплетничает с ней. Так я узнаю, что садистке-десятикласснице не избежать показательных неприятностей, хоть папа и в горкоме. Она еще попляшет!
Мы все ждем мою маму. Но мама не приходит. Узнав, что я снова влипла, она расстраивается, идет на улицу, чтобы скорее ехать ко мне, и попадает под машину. Мама умерла.
Два года – до восемнадцати лет – я живу у тети Светы. Это двоюродная сестра мамы. Она не то чтобы не любит меня, а просто я ей не нужна. Отделаться от нахлебницы нет никаких возможностей, а ведь у тети Светы двое своих детей и инвалид-мама. Мужа нет и не было.
Как ни странно, я не вижу несправедливостей в доме тети Светы, а только беспросветность. Тетке тяжело, детям тяжело, инвалиду-бабушке тоже. Стараюсь помочь, но все некстати: картошка горит на плите, после уборки в квартире кран брошен открытым – я устраиваю потоп соседям снизу. Меня даже не ругают, отчего становится только тяжелее на душе.
В восемнадцать я начинаю жить без присмотра. Моя жизнь во взрослом мире пропитана одиночеством.