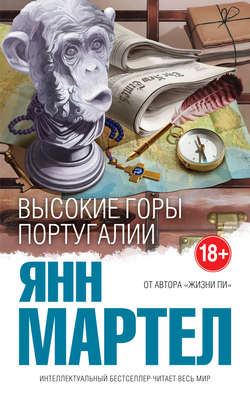Читать книгу Высокие Горы Португалии - Янн Мартел - Страница 2
Часть первая
Бездомный
ОглавлениеТомаш решает пройтись пешком.
От его скромной квартирки на улице Сан-Мигел в пользующемся дурной славой квартале Алфама до старинного дядюшкиного особняка в зажиточной Лапе путь не близкий – почти через весь Лиссабон. Где-то час ходьбы. Но утро выдалось погожим и теплым – прогулка обещала быть приятной. Давеча заезжал Сабиу, дядюшкин слуга, – забрал его чемодан и деревянный кофр с нужными бумагами для поездки в Высокие Горы Португалии, так что Томашу остается одно – перебраться самому.
Он ощупывает нагрудный карман куртки. Дневник отца Улиссеша на месте – завернут в мягкую тряпицу. Глупо брать его с собой, крайне неосмотрительно. Не дай бог потеряется – беда. Будь он посмышленей, оставил бы его в сундуке. Но этим утром Томашу нужна особая моральная поддержка – как всякий раз, когда он идет к дядюшке.
Даже в столь сильном возбуждении он не забывает прихватить подаренную дядюшкой трость вместо повседневной. Рукоятка дядюшкиной трости сработана из слоновой кости, а палка – из африканского красного дерева, и все же она не совсем обычная: сбоку, прямо под рукояткой, на ней имеется выдвижное кругленькое зеркальце. Оно чуть выпуклое – и отраженная картинка выглядит уж больно расплывчатой. Однако ж проку от зеркальца ни на грош, да и сама придумка неудачная, потому как рабочая прогулочная трость по природе своей пребывает в постоянном движении, а стало быть, отражение беспрерывно скачет и мелькает, сводя всю затею на нет. Но столь причудливая трость – дядюшкин подарок, сделанный на заказ, и всякий раз, собираясь навестить дядюшку, Томаш берет ее с собой.
С улицы Сан-Мигел он выходит на площадь Сан-Мигел, идет по улице Сан-Жуан-да-Праса, потом сворачивает под Арку Иисуса – простой и знакомый с детства маршрут для пешей прогулки через весь город, средоточие красоты и сутолоки, торговли и культуры, испытаний и наград. У Арки Иисуса он вдруг вспоминает Дору – она улыбается, желая прикоснуться к нему. Вот когда трость может сгодиться: воспоминания о Доре неизменно выводят его из равновесия.
– А ты у меня богатенький, – как-то сказала ему она, когда они лежали в постели у него дома.
– Боюсь, нет, – возразил он. – Вот дядюшка у меня богатенький. А я – бедный сын его бедного братца. Папаше счастье в делах никогда не улыбалось, не то что дядюшке Мартиму, вот уж везунчик каких поискать.
Он никогда об этом ни с кем не говорил – не откровенничал насчет превратностей судьбы своего отца, его деловых планов, рушившихся один за другим, что вынуждало его то и дело рассыпаться в благодарностях перед братом, спасавшим его снова и снова. Но Доре можно было открыться.
– Эх, что ни говори, а у богатеньких непременно кубышка где-нибудь да припрятана.
Он усмехнулся:
– Да ну? Я и понятия не имел, что мой дядюшка утаивает свое богатство. А раз так, если денег у меня куры не клюют, почему ты не хочешь пойти за меня?
По дороге на него таращатся прохожие. Одни отпускают колкости, большинство других – благие пожелания.
– Гляди не навернись! – участливо взывает какая-то дамочка.
К такому общественному вниманию Томаш привык; за насмешливыми кивками не угадывает доброжелательства.
Непринужденной походкой он знай себе вышагивает в сторону Лапы, вскидывая то одну ногу, то другую, а потом с той же очередностью резко опуская их. Изящная поступь.
Он наступает на апельсиновую корку – но не поскальзывается.
Не замечает спящую собаку – но пяткой впечатывается в каком-нибудь сантиметре от ее хвоста.
Оступается, спускаясь по какой-то кривой лестнице, – но, удерживаясь за поручень, с легкостью вновь обретает устойчивость.
Мелкие незадачи вроде этих случаются и дальше.
При упоминании женитьбы улыбку с лица Доры как рукой сняло. С ней всегда было так: то беззаботная веселость, то вдруг глубокая озабоченность.
– Нет, твоя родня наверняка укажет тебе на дверь. А семья – это все. Ты не можешь гнушаться ими.
– Ты моя родня, – возразил он, глядя ей прямо в глаза.
Она покачала головой:
– Нет уж.
Его глаза, большую часть времени избавленные от тягостной необходимости смотреть вперед, разом обмякают в глазницах, точно два пассажира в шезлонгах на корме судна. Они не вперяются в землю, а блуждают по сторонам, будто во сне. Примечают изгибы облаков и деревьев. Мечутся вслед за птицами. Наблюдают, как лошадь, сопя, тянет повозку. Останавливаются на упущенных ранее архитектурных изысках зданий. Следят за суетой на улице Кайс-де-Сантарем. Словом, утро этого приятного позднедекабрьского денька 1904 года обещает дивную прогулку.
Дора, прекрасная Дора. Она прислуживала в доме у его дядюшки. Томаш положил на нее глаз в первый же свой визит к дядюшке, когда ее только-только взяли на службу. Он не смел отвести от нее глаз и выбросить ее из головы. Он лез из кожи вон, стараясь быть с девушкой как можно учтивее, выискивая любую возможность перемолвиться с нею словечком то по одной ничтожной мелочи, то по другой. Так он мог разглядывать ее тонкий нос, ясные черные глаза, мелкие белоснежные зубы, каждое ее движение. Он вдруг стал частым гостем. И точно помнил тот день, когда Дора поняла: он обращается с нею не как со служанкой, а как с женщиной. Ее глаза мельком встречались с его глазами, взгляды на мгновение сливались, и она тут же отворачивалась, – но лишь после того, как уголки ее рта успевали растянуться в участливой улыбке.
Тогда его распирало от избытка чувств, и классовые и общественные барьеры, совершенно немыслимые и неприемлемые, – все шло прахом. В другой раз, когда он подавал ей свою куртку, их руки соприкоснулись, и они не спешили нарушить это соприкосновение. С этого все и завертелось. До той поры у него если с кем и была интимная близость, то лишь с двумя-тремя проститутками, и всякий раз это сперва ввергало его в крайнее возбуждение, а после – в глубокое уныние. И всякий раз он стыдливо бежал прочь и клялся, что такое больше не повторится. С Дорой же это ввергало его сперва в крайнее возбуждение, а после – в высшей степени крайнее. Она теребила густые волосы на его груди, прильнув к ней головой. И у него не возникало ни малейшего желания бежать прочь.
– Выходи за меня, выходи, выходи!.. – упрашивал он. – И мы принесем друг другу богатство.
– Нет, мы принесем друг другу бедность и одиночество. Ты ничего не знаешь. А я знаю и не желаю тебе такого.
Плодом их безмятежной любви стал кроха Гашпар. Если б не его горячие мольбы, Дору непременно выставили бы за дверь дядюшкиного дома, когда обнаружилось, что у нее есть младенец. Отец только и поддерживал его, уверяя, что он должен жить любовью к Доре, чего никак нельзя было сказать о дядюшке, молча сносившего бесчестье. Дору перевели на незаметную должность в самом чреве кухни. И Гашпар так же незаметно жил в доме Лобу, вкушая незаметную любовь своего отца, который незаметно любил его мать.
Томаш навещал их так часто, как только позволяли приличия. А Дора с Гашпаром наведывались к нему в Алфаму, как только ей выпадали выходные. Они шли в парк, садились на скамейку и глядели, как играет Гашпар. В такие дни они походили на самую обычную супружескую пару. Томаш был влюблен и счастлив.
Минуя трамвайную остановку, он слышит, как по рельсам грохочет трамвай, новенький транспорт, появившийся от силы года три назад, ярко-желто-сине-сероватый. Пригородные пассажиры рвутся вперед, чтобы забраться в него, а другие пригородные пассажиры спешат из него выбраться. Томаш обходит тех и других – кроме одного, на которого натыкается. После короткого взаимного общения с извинениями, предложенными и принятыми, он движется дальше.
Посреди тротуара торчат два-три булыжника, но он легко и плавно перешагивает через них.
Задевает ногой кофейный стул. Тот подскакивает, и только.
Смерть забрала Дору с Гашпаром одним решительным махом – как ни старался врач, которого вызвал дядюшка, все тщетно. Сначала язвы в горле и потеря сил, потом жар, озноб, боли, мучительное глотание, затрудненное дыхание, судороги, расширенные зрачки, удушье, обморок… и конец – землистые тела, скомканные и безжизненные, как простыни, на которых они перед тем метались. Он был рядом с каждым из них. Гашпару было пять, а Доре – двадцать четыре.
Смерть отца, несколькими днями позже, он не застал. Он был в музыкальном салоне в доме Лобу – молча сидел с одной из своих кузин, леденея от скорби, когда вошел дядюшка, мрачный как туча. «Томаш, – проговорил дядюшка, – у меня ужасные вести. Силвештру… твой отец умер. Я потерял единственного брата». Слова всего лишь звуки, но Томаш почувствовал, как они раздавили его физически, как обрушившаяся каменная глыба, и он возопил, точно раненый зверь. Его горячечно-несуразный отец! Человек, взрастивший его, потакавший ему во всех его мечтаниях!
За какую-то неделю – Гашпар умер в понедельник, Дора в среду, отец в воскресенье – сердце его разорвалось, точно треснувший кокон. Только вылезла из него не бабочка, а серая моль – села на стену его души и уже не шелохнулась.
Состоялись двойные похороны: жалкие – для служанки-деревенщины с ее внебрачным отпрыском и пышные – для бедолаги брата богатого человека, о жизненных неудачах которого благоразумно помалкивали.
Он не замечает приближающийся экипаж, ступая с обочины, как вдруг возница окликает его – и он отскакивает с пути лошади.
И натыкается на прохожего, стоящего к нему спиной. Вскидывает руку и произносит:
– Мои извинения!
Прохожий пожимает плечами и провожает его взглядом.
Делая единовременно один шаг и оглядываясь через каждые несколько шагов назад, чтобы на что-нибудь не наткнуться, Томаш продвигается в сторону Лапы спиной вперед.
«Зачем? Зачем ты это делаешь? Почему не ходишь, как все нормальные люди? Брось валять дурака!» – не раз выговаривал ему дядюшка. В ответ Томаш выдвигал несокрушимые аргументы в защиту своей походки. Разве это называется валять дурака, когда отгораживаешься от стихий – ветра, дождя, солнца, роя букашек, угрюмых взглядов незнакомцев, неуверенности в завтрашнем дне – щитом своего затылка, спины куртки, задней части штанов? Все это наша защита – броня. И служит она для того, чтобы противостоять превратностям судьбы. При всем том, когда человек движется задом наперед, куда более незащищенные части – лицо, грудь, изящные отделки одежды – остаются укрытыми от жестокого мира спереди, и ты выставляешь их напоказ лишь в том случае, если сам хочешь к кому-то повернуться и сбросить с себя маску анонимности. Не говоря уже об аргументах спортивного характера. Ведь куда более естественно спускаться с горы спиной вперед, мысленно рассуждает он, разве нет? С изящной легкостью упираешься в землю одним мыском, потом другим, при этом трехглавые мышцы голеней равномерно и точно распределяют приходящуюся на них нагрузку. Таким образом, движения при спуске становятся упругими и ненатужными. А если ненароком оступишься, куда безопаснее в таком случае приземлиться на ягодицы – они-то уж точно смягчат падение, не правда ли? Уж лучше так, чем сломать себе запястье, грохнувшись носом вниз. Впрочем, он не упрямствует. И делает исключения, когда, к примеру, приходится штурмовать многочисленные длинные извилистые лестницы Алфамы или перейти на бег.
От всех подобных доводов дядюшка только раздраженно отмахивался. Мартим Аугушто Мендеш Лобу – человек раздражительный. И все же он знает, почему Томаш ходит задом наперед, невзирая на его брюзгливые расспросы и ответные витиеватые объяснения. Однажды Томаш подслушал его разговор с заглянувшим к нему приятелем. Дядюшка говорил так тихо, что невольно пришлось навострить уши.
«…презабавнейшая картина, – нашептывал дядюшка. – Только вообразите себе: прямо перед ним, то есть у него за спиной, уличный фонарь. Я зову моего секретаря Бениту, и мы глядим молча, как зачарованные, задаваясь одним лишь вопросом: наткнется ли мой племянничек на фонарный столб? Тут на улице, с другого конца, появляется какой-то прохожий. И видит: Томаш идет в его сторону спиной вперед. Судя по тому, как прохожий вскинул голову, чудная походка моего племянника привлекла его внимание. По опыту я знаю, сейчас что-то будет: может, он походя сделает замечание, может, шутку отмочит или, по крайней мере, как-нибудь странно посмотрит. И точно: когда Томашу остается до столба всего ничего, тот, другой, ускоряет шаг и останавливает его, хлопнув по плечу. Томаш оборачивается. Нам с Бениту не слышно, о чем они меж собой говорят, мы видим только, как они жестикулируют. Незнакомец указывает на фонарь. Томаш улыбается, кивает и подносит руку к груди в знак благодарности. В ответ незнакомец тоже улыбается. Они обмениваются рукопожатиями. И, помахав друг дружке на прощание, идут себе дальше, каждый своей дорогой: незнакомец – вниз по улице, а Томаш, снова развернувшись спиной вперед, – вверх. Он обходит фонарь без всяких затруднений.
Ах, погоди! Это еще не все. Через какое-то время другой прохожий поворачивает голову – озирается на Томаша, ясное дело, с изумлением, ведь тот все так же пятится. По выражению его лица понятно – он озабочен: Осторожней, не будешь глядеть под ноги, свернешь себе шею! – и вместе с тем смущен, потому как Томаш тоже смотрит на него и заметил, как он оглядывается на него, и все мы понимаем – пялиться так неприлично. Прохожий быстро отворачивается и снова глядит вперед, но уже поздно: он тут же натыкается на другой фонарный столб. Бьется о него, как язык о колокол. Мы с Бениту невольно вздрагиваем от сочувствия. Бедняга отшатывается и, морщась, ощупывает лицо, потом грудь. Томаш спешит ему на выручку – уже лицом вперед. Казалось бы, обычная манера, да не совсем. Он даже не пружинит. Продвигается вперед широченными шагами, туловище слегка покачивается взад-вперед, словно на конвейерной ленте.
Между этими двумя опять что-то происходит: Томаш выражает глубокое соболезнование, а тот, другой, только отмахивается и все хватается рукой за лицо. Томаш поднимает его шляпу – она упала на землю. Бедняга, не говоря ни слова, снова отмахивается и, пошатываясь, уходит прочь. Томаш, как нам видно с Бениту, тоже уходит. Только когда незнакомец свернул за угол, Томаш идет дальше в обычной своей манере, развернувшись задом наперед. Но досадное происшествие явно сбило его с толку, потому как он вдруг со всего маху налетает на фонарь, который минутой раньше так ловко обошел. Почесав затылок, он оборачивается и сердито оглядывает столб.
И все же, Фаушту, он знай гнет свою линию. Плевать, сколько раз бьется головой, плевать, сколько раз падает, – несмотря ни на что, все пятится и пятится…» Томаш расслышал, как дядюшка рассмеялся, а вместе с ним и его приятель Фаушту. Дядюшка продолжал уже куда более мрачно: «А началось все с того самого дня, когда от дифтерии умер его малыш Гашпар. Внебрачный сын от моей служанки. Она тоже умерла от той же заразы. А потом – новый удар судьбы: через несколько дней скоропостижно скончался мой брат Силвештру, вот так, нежданно-негаданно. Мать Томаша умерла, когда он был еще совсем мал. И теперь вот – отец. Одна беда за другой! У иных такое навек отбивает охоту смеяться. Другие спиваются. А племянник мой с горя начал ходить задом наперед. И так уж целый год. Долго он еще будет горевать таким вот чудным образом?»
Вот только невдомек было дядюшке, что, разгуливая задом наперед, повернувшись спиной к миру, спиной к Богу, он не горюет. А восстает. Ибо когда у тебя отбирают все самое дорогое в жизни, что тебе еще остается – только восстать!
Он идет обходным путем. Сворачивает с улицы Нова-де-Сан-Франсишку и следует дальше по улице Сакраменту. Он почти на месте. Повернув голову и посмотрев через плечо – впереди, помнится, торчит фонарный столб, – он оглядывает задний двор дядюшкиного особняка с искусно отделанными карнизами, изящной лепниной, высокими окнами. Ощущает на себе чей-то взгляд – и в угловом окне второго этажа замечает фигуру. Учитывая, что как раз там помещается дядюшкин кабинет, скорее всего, это сам дядюшка Мартим, – он поворачивает голову обратно и старается ступать уверенно, осторожно обходя фонарный столб. Он следует вдоль стены, окружающей дядюшкину собственность, пока наконец не выходит к воротам. Оборачивается, чтобы дотянуться до колокольчика, и рука его повисает в воздухе. Он отдергивает ее. Знает, что дядюшка заметил его и ждет, но все же медлит. Затем достает из нагрудного кармана куртки старенький кожаный дневник, разворачивает хлопчатобумажную тряпицу, прислоняется спиной к стене, сползает по ней вниз, садясь прямо на тротуар. И впивается взглядом в обложку книжицы.
Сие есть Жизнеописание
и Наставления касаемо Дара
отца Улиссеша Мануэля Росариу Пинту,
смиренного слуги Божьего
Дневник отца Улиссеша он знает как свои пять пальцев. А местами даже назубок. Он раскрывает его наугад и читает:
«Когда невольничьи корабли подходят к острову, чтобы сдать свой груз, надобно прежде произвести премного всякой учетной работы и большую приборку. В виду гавани тела выбрасывают в море одно за другим и с левого борта, и с правого, хотя те еще не успевают окоченеть и сохраняют гибкость, а иные даже шевелятся. Все это либо уже мертвецы, либо шибко недужные; от первых избавляются потому, что они больше ничего не стоят, а от других – из страха, что недуг, коим они поражены, может расползтись и сие скажется на цене всех остальных. Временами ветер доносит до моего слуха крики живых еще невольников, не желающих, чтобы их выбрасывали с корабля, равно как и всплески, когда тела их плюхаются в воду. Они исчезают в полным-полном лимбе, который являет собою дно бухты Ана-Кавиш».
Дядюшкин дом – такой же лимб непрожитых, оборванных жизней. Он смыкает глаза. Одиночество набрасывается на него, как сопящая собака. И неуемно мечется вокруг него. Он отмахивается от этой собаки, но она так и липнет к нему.
На дневник отца Улиссеша Томаш наткнулся всего лишь через несколько недель после того, как его жизнь бесповоротно пошла под откос. Находка была случайностью, связанной с его работой в Национальном музее древнего искусства, где он служил в должности помощника смотрителя. Кардинал-патриарх Лиссабона Жозе Себастьян д’Альмейда Нето только-только принес в дар музею кое-какие вещицы из церковной и нецерковной утвари, собранные за многие столетия по всей Португальской империи. С позволения кардинала Нето музей направил Томаша провести изыскания в Епископальном архиве на улице Серпа-Пинту с заданием установить доподлинное происхождение этих прелестных артефактов – словом, историю того, как те или иные жертвенник, потир, распятие или псалтырь, картина или книга стали достоянием Лиссабонской епархии.
Место, где он оказался, было не самым образцовым архивом. Сменявшие друг дружку секретари разных архиепископов Лиссабона, как видно, гнушались земных дел и особо не трудились привести в порядок тысячи бумаг и документов. На одном из открытых стеллажей, посвященном правлению кардинала Жозе Франсишку де Мендоза-Валдерейша, патриарха Лиссабона с 1788 по 1808 год, в битком набитом разделе под дурацким названием Miudezas, «Всякое-разное», он заприметил сброшюрованный вручную томик в коричневой кожи обложке, с рукописным заглавием, вполне разборчивым, хотя местами и выцветшим.
Что за жизнь и что за дар? – размышлял он. Какие еще назидания? И кто он такой, этот отец Улиссеш? Когда он раскрыл томик, корешок будто хрустнул косточками. Рукописные строки полыхнули поразительной свежестью: черные чернила четко выделялись на бумаге цвета слоновой кости. Выведенные гусиным пером наклонные буквы складывались в почерк из другого времени. По краям страницы были чуть желтовато-золотистыми – стало быть, они почти не видели света с того дня, как были исписаны. Он сомневался, что кардинал Валдерейш когда-либо читал эту книжицу; на самом деле, поскольку ни на обложке, ни где-либо внутри не было никакой учетной записи – ни регистрационного номера, ни даты, ни единой ссылки, – никакого каталожного номера, у него создалось четкое ощущение, что ее вообще никто не читал.
Он внимательно просмотрел первую страницу, обратив внимание на отдельную запись сверху с указанием даты и географического названия: 17 сентября 1631 года, Луанда. Бережно перелистал страницы. Появились другие даты. Последняя была обозначена 1635 годом, хотя и без указания дня и месяца. Теперь дневник. Глаз то и дело останавливался на географических ссылках: «горы Баилунду… горы Пунго-Ндонго, старая бенгельская дорога», – все эти места, похоже, находились в Португальской Анголе. 2 июня 1633 года – название еще одного места: Сан-Томе, маленькая островная колония в Гвинейском заливе, «перхотная чешуйка вдали от Африканского мыса, в долгих днях пути к северу вдоль дышащего испарениями побережья этого чумного континента». Глаза его остановились на фразе, написанной несколькими неделями позже: Isso é minha casa. «Это мой дом». И написано это было не единожды. Этими словами была исписана вся страница. Целая страница – и одна и та же короткая фраза, сплетенная во множество слитых воедино, чуть прыгающих строк: «Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом…» Затем строки прерывались, уступая место и вовсе бессвязной писанине, и снова появлялись лишь через несколько страниц, испещряя одну из них наполовину: «Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом…» Потом, чуть дальше, опять – страница с четвертью: «Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом…»
Что это значит? Откуда это маниакальное повторение? В конце концов он обнаружил вероятный ответ на странице, где точно такой же фразой были исписаны уже почти две страницы, с одной лишь разницей – развернутой концовкой, ключом к усеченной фразе, которым автор всякий раз мысленно ее заканчивал: «Это мой дом. Это мой дом. Это мой дом, куда Господь водворил меня до той поры, покуда Он не приберет меня к Персям Своим». Отец Улиссеш, как видно, безмерно тосковал по родине.
На одной из страниц Томаш увидел любопытную зарисовку – рисунок лица. Контуры очерчены наспех, не считая печальных глаз, тщательно прорисованных. Он долго всматривался в эти глаза. Все глубже погружался в наполнявшую их скорбь. В его сознании кружили воспоминания о недавно утраченном сынишке. Уходя в тот день из архива, он припрятал дневник вместе с ничем не примечательными бумагами в портфель. В своих помыслах, казалось ему, он был честен. Хотя то было не изъятие во временное пользование без соблюдения формальностей, а заурядная кража. Однако в Епископальном архиве Лиссабона о существовании дневника отца Улиссеша забыли на двести пятьдесят лет с лишним и вряд ли вспомнят о нем сейчас, а ему хотелось изучить добычу обстоятельно, не спеша.
Он начал читать и изучать дневник сразу, как только представилось время. Продвигался медленно. Почерк был то аккуратный, то вдруг походил на череду путаных каракулей, и это вынуждало его разбирать их по слогам, всякий раз гадая, что могла бы означать та или иная закорючка. Поражало то, что начальные записи были сделаны ровной рукой, но чем дальше, тем менее внятными они становились. А заключительные страницы и того хуже – их едва можно было разобрать. Некоторые слова Томаш так и не смог понять, как ни старался.
То, что было написано в Анголе, представляло собой не более чем исполненный сознания долга отчет, в общем-то, малоинтересный. Отец Улиссеш был всего лишь одним из ставленников епископа Луанды, «помещавшимся в тени пьедестала его мраморного престола», пока усердствовал до тупой одури и суетился, крестя невольников целыми партиями. Но на Сан-Томе он впал в исступление. И начал трудиться над какой-то вещью – храмовым даром. Труды поглощали все его мысли и отнимали все силы. Он рассказывал, как тщился отыскать «самое совершенное дерево» и «надлежащие орудия», и вспоминал, как в юности обучался в мастерской своего дяди. Он описывает, как не раз умащивает свой дар для вящей сохранности «блестящими руками, служителями беззаветной любви». В конце дневника Томаш наткнулся на странные слова, восхваляющие поразительное свойство его творения:
«Оно сияет, истошно вопит, рявкает, рычит. Воистину Сын Божий испускает громкий крик и последний вздох, подобные треску храмовой завесы, рвущейся сверху донизу. Отмучился».
Чему же обучался отец Улиссеш и что ладили в мастерской его дяди? Что умащивал он своими руками? Что сияло, истошно вопило, рявкало и рычало? Вразумительного ответа в дневнике отца Улиссеша Томаш не обнаружил – одни лишь намеки. Когда Сын Божий испустил громкий крик и последний вздох? На Кресте. Выходит, распятие и есть та самая вещь, рассуждал Томаш. Определенно, то было какое-то изваяние. Впрочем, все наверняка куда сложнее. По словам отца Улиссеша, работа была не совсем обычная. Моль в душе Томаша зашевелилась. Он вспомнил предсмертный час Доры. Будучи уже прикованной к постели, она обеими руками цеплялась за распятие, и даже когда металась и ворочалась, когда кричала, не выпускала его из рук. Это была дешевенькая, невзрачная, тускло отливавшая медью фигурка, совсем небольшая – из тех, что можно повесить на стену. Дора скончалась, прижимая распятие к груди, в своей пустой комнатенке, где, кроме нее, был только Томаш, примостившийся на стуле у постели. О том, что настало последнее мгновение, он догадался по резкой остановке ее громкого, скрипучего дыхания (хотя их сынишка ушел тихо, словно опавший с цветка лепесток), напомнившего ему скрежет льдины, несущейся по реке.
Шло время, час за часом, а ночь все не заканчивалась и новый день все не наступал; Томаш ждал служащего похоронной конторы, а тот все не приходил; он то выходил из комнаты Доры, словно гонимый прочь ужасом, то возвращался, будто под действием магнетической силы. «Как же я теперь без тебя?» – вдруг запричитал он над нею. Взгляд его упал на распятие. Прежде вера была для него пустым звуком и он не придавал ей серьезного значения – замечал только внешнюю сторону, а на сокрытую в ней суть не обращал никакого внимания. Теперь же он понимал: к вере надо относиться либо всерьез, либо никак. Он воззрился на распятие, мечась между безоговорочной верой и безусловным неверием. И пока склонялся вот так, то в одну сторону, то в другую, решил оставить распятие себе – на память. Но Дора, вернее, тело Доры не хотело его отпускать. Руки покойницы сжимали вещицу с поистине неодолимой силой – так цепко, что когда он было попытался вырвать ее, то аж приподнял мертвое тело над постелью. (Гашпар, сравнения ради, даже в смерти оставался мягким, точно набитая соломой кукла.) Всхлипывая от ярости, Томаш бросил свою затею. И тут решение – больше похожее на угрозу – само пришло ему в голову. «Эй, ты… ты! Ну, погоди же у меня, сейчас я разберусь с тобой!..»
Наконец пожаловал служащий похоронной конторы и забрал тело Доры с собой вместе с окаянным распятием.
Если вещь, которую смастерил отец Улиссеш, представляла собой то, о чем Томаш догадывался, основываясь на сумбурной писанине священника, значит, это был поразительный, необыкновенный артефакт, нечто совершенно диковинное. То, что могло разом перевернуть вверх дном все устои христианства. И подтвердить его опасения. Но сохранилась ли она? Этот вопрос беспокоил Томаша с той самой минуты, когда он дочитал дневник у себя дома после того, как тайно вынес его из Епископального архива. В конце концов, вещь могла сгореть, разбиться вдребезги. Но в доиндустриальный век, когда вещи изготавливались поштучно и распространялись медленно, они и ценились высоко, а с развитием промышленности обесценились. В стародавние времена даже одежду не выбрасывали. Убогое рубище Христа, к примеру, поделили меж собой римские воины, считавшие его не более чем жалким евреем-демагогом. Уж если обыкновенные тряпки переходили из рук в руки, то большую резную вещь непременно постарались бы сберечь, тем паче если она была еще и религиозного свойства.
Как же узнать ее судьбу? Существовало два предположения: либо вещь осталась на Сан-Томе, либо ее оттуда вывезли. Поскольку остров бедствовал и выживал только за счет торговли, стало быть, думал Томаш, вещь покинула остров. Он надеялся, что она оказалась в Португалии – метрополии, хотя могла попасть и в одну из многочисленных факторий или в какой-нибудь городишко на африканском побережье.
После смерти дорогих его сердцу существ Томаш провел не один месяц в поисках указаний, где могло бы затеряться творение рук отца Улиссеша. В Государственном архиве Торре ду Томбу он отыскал и просмотрел судовые журналы португальских кораблей, ходивших к западному побережью Африки в течение нескольких лет после смерти отца Улиссеша. И пришел к заключению, что искомая резная поделка покинула Сан-Томе на борту какого-нибудь португальского корабля. Если же это был иностранный корабль, то одному лишь богу известно, куда ее могла забросить судьба.
В конце концов он наткнулся на судовой журнал некоего капитана Родолфу Перейра Пашеку, чей галеон покинул Сан-Томе 14 декабря 1637 года, увозя на своем борту среди прочих грузов «изображение Господа на Кресте, странное и удивительное». У Томаша сильно забилось сердце. То была первая и единственная ссылка на предмет культа, каким-то образом связанный, по его разумению, с захиревшей колонией.
Против наименования каждого товара в судовом журнале обозначался соответствующий пункт разгрузки. Большую часть товаров разгрузили в разных местах на Невольничьем и Золотом берегах[1] – там их продали либо обменяли на другие товары. Напротив крестика в судовом журнале капитана Пашеку Томаш прочел слово «Лиссабон». Вещь попала в метрополию! Он аж вскрикнул, явив пример неподобающего поведения в читальном зале Государственного архива.
Он перевернул вверх дном весь архив Торре ду Томбу, пытаясь раскопать, где же оказалось распятие отца Улиссеша после того, как оно попало в Лиссабон. Ответ он наконец нашел, только не в Государственном архиве, а в Епископальном, откуда и начались его поиски. По самой что ни на есть горькой иронии судьбы ответ, в виде двух писем, лежал на той самой полке с архивными бумагами кардинала Валдерейша, где он обнаружил дневник, – лежал себе полеживал рядышком все время, пока он его не вытащил. Будь дневник и письма перевязаны одной бечевкой, это избавило бы Томаша от лишней работы.
Первое письмо, датированное 9 апреля 1804 года, было от епископа Брагансы Антониу Луиша Кабрала-и-Камары, в котором тот испрашивал милостивого кардинала Валдерейша, нет ли у него какого-нибудь дара для прихода в Высоких Горах Португалии, чья церковь намедни пострадала от пожара, разрушившего тамошний алтарь. Это была «дивная старая церковь», писал епископ, хотя и не упоминал ни как она называется, ни где находится. В своем ответе, копия которого прилагалась к письму, кардинал Валдерейш писал так: «Имею удовольствие выслать вам предмет культа, пребывавший некоторое время в Лиссабонской епархии, представляющий собой необычное изображение Господа на Кресте и доставленный из африканских колоний». Разве могла эта ссылка, вкупе с дневником, доставленным из тех же африканских колоний, иметь отношение к какому-либо иному изображению Господа, кроме того, что было сотворено руками отца Улиссеша? Странно, что кардинал Валдерейш, имея перед глазами самый предмет, не смог разобрать, что он собой представляет. Но церковник ничего не знал – потому и не разобрал.
Из переписки с епархией Брагансы во времена епископа Камары явствовало, что никаких отметок о прохождении того самого африканского предмета через их канцелярию не сохранилось. Томаш огорчился. Творение странное и удивительное изначально, попав в Лиссабон, превратилось в нечто необычное, а оказавшись в руках у провинциалов – в нечто обыденное. Выходит, его сущность скрывалась намеренно. Томашу пришлось зайти с другого конца. Распятие предназначалось для церкви, пострадавшей от пожара. Записи свидетельствовали, что между 1793 годом, когда Камара был рукоположен в епископы Брагансы, и 1804 годом, когда он писал кардиналу Валдерейшу, пожары разной степени силы пережила не одна церковь в Высоких Горах Португалии. По трагической случайности церкви загорались от свечей, факелов и курильниц во время великих праздников. Камара упоминал, что распятие предназначалось для «дивной старой церкви». Так какая же из них заслуживала столь лестного отзыва епископа? Томаш предполагал: наверное, какая-нибудь готическая или, может, романская. А это означало, что церковь была построена в пятнадцатом веке, если не раньше. Секретарь Браганской епархии оказался не самым добросовестным церковным историком. Томаш склонялся к настойчивому убеждению, что похвалы епископа Камары были достойны лишь пять церквей, разрушенных пожаром, а именно: далеко расположенные друг от друга Сан-Жулиан-ди-Паласиуш, Санталья, Мофрейта, Гадрамил и Эшпиньозела.
Томаш написал настоятелю каждой церкви. Их ответы были неутешительными. Каждый настоятель расхваливал свою церковь, как только мог, превознося ее возраст и красоту. Судя по описаниям, они представляли собой копии Собора святого Петра, рассеянные по Высоким Горам Португалии. Но ни один из настоятелей толком так и не объяснял, чтó за распятие занимало почетное место в его церкви. Каждый уверял, будто это вдохновенное творение веры, но ни один не знал, когда церковь приобрела его или откуда оно взялось. В конечном счете Томаш решил, что ему ничего не остается, кроме как самому отправиться туда и все выяснить на месте, если его догадка насчет истинной сущности распятия отца Улиссеша была верна. Маловероятно, что распятие бесследно исчезло в Высоких Горах Португалии, отдаленном и уединенном уголке на самой северо-восточной окраине его родины. Так что очень скоро он наверняка увидит эту штуковину своими собственными глазами.
Тут он вздрогнул, услышав чей-то голос:
– Здравствуйте, сеньор Томаш. Никак в гости к нам пожаловали?
Это старый садовник Афоншу. Он уж отворил ворота и стоит, воззрившись на Томаша. Когда же он успел отворить их так быстро?
– Да, это я, Афоншу.
– Вам нехорошо?
– Все в порядке.
Он поднимается на ноги и по привычке засовывает книжицу обратно в карман. Садовник дергает за шнурок звонка. Звонок бренчит так, что своим бренчанием бьет Томашу по нервам. Придется войти, ничего не поделаешь. Хотя Дора с Гашпаром умерли не в этом доме, ему теперь каждый дом представляется весьма своеобразно. Любовь – это дом со множеством комнат: одна служит для того, чтобы питать любовь, другая – чтобы поддерживать ее, третья – чтобы ее очищать, четвертая – чтобы ее одевать, пятая – чтобы давать ей покой, – и каждая из них может с тем же успехом служить комнатой смеха, или комнатой прослушивания, или комнатой для секретничанья, или комнатой для злобствования, или комнатой для раскаяния, или комнатой для интимной близости, не считая, конечно же, комнат для новоиспеченных домочадцев. Любовь – это дом, в котором водопровод каждое утро вызывает новые бурлящие чувства, а сточные трубы смывают напрочь все раздоры, и светлые окна распахиваются настежь, впуская свежий воздух благодушия. Любовь – это дом с непоколебимым фундаментом и нерушимой кровлей. Когда-то и у него был такой дом, пока не рухнул. А теперь у него нет дома, нигде – его квартирка в Алфаме сродни убогой монашеской келье, – и, когда он ступает в любой другой дом, это напоминает ему, что он совсем-совсем бездомный. Он понимает, чтó так тянет его к отцу Улиссешу – их общая тоска по дому. Томаш вспоминает, какими словами священник описывает кончину жены губернатора Сан-Томе. Она была единственной европейкой на острове. Другая такая женщина жила в Лагосе[2], в восьмистах километрах через воды залива. На самом деле отец Улиссеш не встречался с женой губернатора. А если и видел ее, то лишь несколько раз.
«Смерть белого человека производит на этом заразном острове столь же великое смятение, сколь и в Лиссабоне. А если это женщина, и подавно! Кончина ее ощущается как самое непосильное бремя. Боюсь, вид подобной мне женщины больше никогда не утешит меня. Ни красотой, ни благородством, ни изяществом. Право, не знаю, надолго ли это со мной».
Томаш с Афоншу идут через мощенный булыжником внутренний двор – садовник почтительно держится на шаг впереди. А поскольку Томаш движется в свойственной ему манере – задом наперед, они идут нога в ногу и спина к спине. У парадной лестницы Афоншу отходит в сторонку и кланяется. Чтобы подняться по лестнице, нужно одолеть всего лишь несколько ступеней – и Томаш одолевает их задом наперед. Он едва успевает подойти к двери, как она открывается перед ним – и он входит в дом все так же задом наперед. Бросив взгляд через плечо, он замечает Дамьяну, старинного дядюшкиного дворецкого, которого знает с пеленок, – тот встречает его с распростертыми руками и улыбкой на лице. Томаш разворачивается к нему лицом.
– Привет, Дамьяну!
– Томаш, мальчик мой, как же я рад тебя видеть! Здоров ли ты?
– Вполне, благодарю. А как там моя тетушка Габриэла?
– Чудесно. Вся так и сияет, прямо как солнце.
Что касается солнца, оно сияет сквозь высокие окна, озаряя скопище трофеев в вестибюле. Дядюшка сколотил крупное состояние на торговле африканскими товарами – главным образом слоновой костью и древесиной. Одну стену украшают огромные слоновьи бивни. Между ними висит роскошный, отливающий глянцем портрет короля Карлоса I. Его величество собственнолично стоял перед этим изображением, когда почтил дядюшку своим посещением его дома. Другие стены убраны шкурами зебры и льва с приделанными сверху головами этих самых зверей – льва и зебры, равно как шкурами и головами канны[3], бегемота, гну[4], жирафа. Кожами обиты и кресла, и диван. Африканские ручные поделки выставлены в нишах и на стеллаже: ожерелья, простенькие деревянные бюсты, амулеты, ножи и копья, цветастые ткани, барабаны и все такое прочее. Разнообразные картины – пейзажи, портреты португальских землевладельцев и туземной челяди, а также большая карта Африки с особо выделенными португальскими владениями – дополняли общую картину, навевая воспоминания о тех или иных героях. А справа помещалось набитое чучело льва, ловко крадущегося среди высокой травы.
Вестибюль являет собой бестолковое собрание музейных экспонатов, воплощение культурной мешанины, где каждый артефакт вырван из обстановки, придававшей ему смысл. Но здесь расцветали глаза Доры. Она восхищалась всем этим пестрым изобилием. Оно вызывало в ней чувство гордости за Португальскую империю. Она трогала каждую вещицу, до которой могла дотянуться, кроме льва.
– Рад слышать, что у тетушки все хорошо. А дядя у себя в кабинете? – осведомляется Томаш.
– Дожидается тебя во внутреннем дворе. Будь любезен, следуй за мной.
Томаш поворачивается кругом и направляется за Дамьяну через вестибюль по устланному ковром коридору, мимо длинных рядов картин и витрин. Они сворачивают в другой коридор. Следуя впереди Томаша, Дамьяну открывает остекленные двери и сторонится. Томаш проходит на полукруглую лестничную площадку. И слышит безудержно громкий дядюшкин голос:
– Томаш, только полюбуйся на иберийского носорога!
Томаш глядит через правое плечо, решительно одолевает три ступеньки вниз, спускается в просторный внутренний двор, спешит к дядюшке и разворачивается перед ним. Они жмут друг другу руки.
– Дядюшка Мартим, я так рад видеть вас. У вас все хорошо?
– А разве может быть по-другому? Мне доставляет огромное удовольствие видеть моего дорогого и единственного племянника.
Томаш собирается еще раз справиться о тетушке, но дядя отмахивается от подобных тонкостей обхождения.
– Довольно, довольно. Ну, что скажешь о моем иберийском носороге? – оживляясь, спрашивает он. – Это гордость моего зверинца!
Упомянутая зверюга стоит посреди двора неподалеку от сухощавого, долговязого Сабиу, его хранителя. Томаш приглядывается к ней. В мягком рассеянном свете, обволакивающем ее словно дымкой, она кажется ему до нелепости безобразной.
– Прелестная… штука, – отвечает он.
Невзирая на все уродство, ему всегда было жалко животных, некогда бродивших по глухим закоулкам его родины. Что, если Высокие Горы Португалии и впрямь были последним оплотом иберийского носорога? Странно, что образ этого зверя сохранился в памяти португальцев. Поступательное развитие человечества привело его к гибели. Прогресс в известном смысле смел носорога с лица земли. На него охотились, его травили, обрекая на вымирание, покуда не извели под корень, как старое постыдное воспоминание, достойное разве что скорби и сожаления. Отныне он расхожая тема – избитый герой фаду, особого рода португальских песен, исполненных неизбывной saudade[5]. И то верно, размышляя сейчас о давным-давно вымершей твари, Томаш чувствует, как его переполняет эта самая saudade. Ему, если можно так выразиться, tão docemente triste quanto um rinoceronte — сладостно-грустно, как носорогу.
Дядюшке его ответ по душе. Томаш наблюдает за ним с некоторой долей мрачного предчувствия. Поверх крепкого костяка брат его отца облицевал свое тело пышным слоем дородности и носит ее с забавной гордостью. Живет он в Лапе – купается в роскоши. И запросто выкидывает уйму денег на какое-нибудь новенькое приобретение. Несколько лет назад его воображением завладел велосипед, двухколесное транспортное средство, приводимое в движение ногами самого ездока. На холмистых улицах Лиссабона велосипед не только непрактичен, но и опасен. Безопасно же разъезжать на нем можно разве что по дорожкам в парках – предаваясь воскресной забаве, состоящей в том, чтобы наворачивать круги, докучая гуляющим и вгоняя в ужас их чад с собаками. У дядюшки – целая конюшня французских велосипедов фирмы «Пежо». Засим ему взбрело обзавестись велосипедом с моторчиком, куда более быстрым, нежели велосипед с педалями, и к тому же довольно шумным. И вот нате вам – образчик последней дорогущей диковины, из недавно приобретенных.
– Но, дядя, – осторожно прибавляет Томаш. – Я вижу только автомобиль.
– Только, говоришь? – вторит дядюшка. – Что ж, в этом техническом чуде заключен вековечный дух нашей нации, вновь возрожденный к жизни. – Он ставит ногу на подножку автомобиля, узенькую платформу между передним и задним колесами. – Я все думал. Какой же тебе одолжить? «Даррак», «де дион бутон», «юник», «пежо», «даймлер» или, может, американский «олдсмобиль»? Выбрать было непросто. В конце концов для тебя, дорогой мой племянничек, и в память о моем брате, которого мне так не хватает, я выбрал чемпиона из всей этой достойной компании. Вот новенький четырехцилиндровый «рено», лучший образец инженерной мысли. Взгляни-ка! Эта штука не только излучает мощь технической логики, но и дышит поэтическим обаянием. Так давай же избавимся от этого зверя, чтоб не загрязнял наш город! Автомобилю не нужно спать, совсем, а лошади разве такое под силу? Да и в мощи ей с ним не тягаться. А мощь у нашего «рено» – в двигателе о четырнадцати лошадиных силах, и это только по строгой оценке с запасом. На деле же, вероятнее всего, он способен выдать и все двадцать лошадок. А механическая лошадиная сила куда мощнее, чем у живой лошадки, так что вообрази себе карету с упряжкой из тридцати лошадок. Представляешь, тридцать запряженных лошадей стоят в два ряда, бьют копытом, храпят, рвутся с места? Да уж, такое трудно себе представить. Хотя все это у тебя перед глазами. Те самые тридцать лошадок набиты в железную коробку вон там, между передними колесами. Вот это сила! Вот это расчет! Еще никогда старый добрый огонь не находил себе столь блистательного нового применения. А какие у автомобиля побочные продукты переработки в сравнении с лошадью, которых у нее хоть отбавляй? Никаких, разве что клубы дыма, да и те вмиг растворяются в воздухе. От автомобиля вреда не больше, чем от сигарет. Попомни мои слова, Томаш: нынешний век запомнится как век дымных клубов!
Дядюшка широко улыбается, переполняясь гордостью и радостью за свою французскую диковину. Томаш стоит и молчит. Он не разделяет дядюшкину страсть к автомобилям. Несколько таких новомодных штуковин уже появились на улицах Лиссабона. Среди городской суеты, вперемежку с гужевым транспортом, в общем и целом не самым шумным, эти самые автомобили теперь громоподобно жужжат, точно громадные насекомые, оглушая, раздражая глаз и отвратительно воняя. Что в них красивого? И дядюшкин бордовый экземпляр не исключение. Ни изящества тебе, ни гармонии. Салон непомерно, до смешного, огромен в сравнении с маленьким прикрепленным стойлом, куда набилось аж три десятка лошадей. Железное обличье этой штуковины, а железа в ней предостаточно, сверкает мучительно, не сказать бесчеловечно ярко.
Томаш обрадовался бы и коляске с обычной тягловой лошадью или мулом, чтобы добраться до Высоких Гор Португалии, но отправиться в путь ему предстоит в рождественские праздники, включая выходные и несколько дней отпуска за свой счет, который он выхлопотал у главного смотрителя буквально на коленях. В итоге на все про все выходит десять дней. Дорога совсем не близкая, а времени кот наплакал. На лошади или муле не управиться. Так что приходится воспользоваться хоть и весьма любезным, но не очень приглядным предложением дядюшки.
Громыхнув дверями, во двор входит Дамьяну с кофе и инжирными пирожными на подносе. Столик для подноса уже стоит, тут же пара кресел. Томаш с дядюшкой усаживаются. Подливают себе горячего молока, подсыпают сахару. Самое время поговорить о пустяках, но вместо этого Томаш спрашивает напрямик:
– И как же это работает, дядя?
Он спрашивает, чтобы отвлечься, – не видеть то, что расположено позади автомобиля и тянется вдоль ограды дядюшкиного особняка по обе стороны дорожки, ведущей к служебным пристройкам, а именно: ряды апельсиновых деревьев. Потому что там его дожидался сынишка, прячась за не такими уж толстыми стволами. Гашпар имел обыкновение пронзительно кричать, едва отцовский глаз замечал его. А Томаш имел обыкновение бегать за маленьким проказником, прикидываясь, будто тетушка с дядюшкой и многочисленные их соглядатаи не видят, как он мечется по этой самой дорожке, в точности как слуги прикидываются, будто не видят, как он проникает на их территорию. Да уж, лучше болтать об автомобилях, чем смотреть на апельсиновые деревья.
– Ах, хороший вопрос! Давай покажу тебе это чудо изнутри, – отвечает дядюшка, поднимаясь с кресла.
Томаш подходит следом за дядюшкой к передку автомобиля, наблюдает, как дядюшка отцепляет маленький закругленный железный капот и под скрип шарниров наклоняет его вперед. Под капотом – хитросплетение труб и какие-то блестящие железные выпуклости, похожие на луковицы.
– Любуйся! – велит дядюшка. – Встроенный четырехцилиндровый двигатель объемом три ноль пятьдесят четыре кубических сантиметра. Красота и совершенство! Обрати внимание на порядок расположения: двигатель, радиатор, фрикционное сцепление, коробка передач с подвижной шестерней, привод на заднюю ось. За такой центровкой будущее. Но прежде позволь растолковать чудодейственное свойство двигателя внутреннего сгорания.
Дядюшка тычет пальцем, чтобы воочию показать волшебство, творящееся за стенками двигателя.
– Вот сюда, в камеры сгорания, из карбюратора впрыскиваются пары лигроина[6]. Индуктор приводит в действие свечи зажигания; пары таким образом воспламеняются и взрываются. Поршни, вот эти самые, проталкиваются вниз, после чего…
Томаш ничего не понимает. Он глядит во все глаза, не говоря ни слова. В довершение исполненных торжества объяснений дядюшка тянется в салон за пухлой брошюрой, лежащей на сиденье водительской кабины. И вручает ее племяннику.
– Это инструкция по управлению автомобилем. Поможет тебе уяснить все, что непонятно.
Томаш разглядывает брошюру.
– Она же на французском, дядя.
– Ну да. Ведь «Братья Рено» – французская компания.
– Но…
– Я присовокупил к твоему снаряжению и французско-португальский словарь. Тебе придется с особым тщанием облизывать автомобиль, строго говоря.
– Облизывать?..
Дядюшка мог бы с тем же успехом изъясняться на французском.
Лобу пропускает его язвительное замечание мимо ушей.
– Разве не прекрасны эти крылья? Угадай-ка, из чего они сделаны? – говорит он, хлопая ладонью по одному из них. – Слоновьи уши! Изготовлены на заказ в память об Анголе. То же самое и с наружной обшивкой салона: только мелкозернистая слоновья шкура.
– А это что? – вопрошает Томаш.
– Клаксон. Чтобы сигналить, предупреждать, напоминать, убеждать, выражать недовольство.
Дядюшка сдавливает здоровенную резиновую грушу, прицепленную к закраине автомобиля, слева от рулевого колеса. Из приделанного к груше раструба вырывается трубный глас с легким вибрато. Вызывающе громкий. Томаш мысленно представляет себе наездника верхом на лошади, с гусем под мышкой, сдавливающего птицу всякий раз при виде какой-либо опасности, и заходится в кашле, силясь подавить смех.
– А можно попробовать?
Он несколько раз надавливает на грушу. И каждый гудок вызывает у него хохот. Он прекращает гудеть, лишь когда замечает, что дядюшке вовсе не смешно, поскольку не терпится вновь обратить внимание племянника на возрожденный фетиш с мотором. И благоговения в его словах куда больше, нежели разъяснений. Будь его дражайшая вонючая железная игрушка способна на чувства, она наверняка зарделась бы от смущения.
Они переходят к рулевому колесу, идеально круглому, размером со здоровенную тарелку. Снова просунув руку в водительскую кабину, дядюшка кладет ее на колесо.
– Чтобы повернуть автомобиль налево, ты и колесо крутишь налево. Если же хочешь повернуть направо, соответственно, и колесо крутишь направо. А если тебе нужно ехать прямо, колесо тоже держишь прямо. Безупречная логика.
Томаш приглядывается поближе.
– Но как неподвижное, так сказать, колесо может поворачиваться налево или направо? – спрашивает он.
Дядюшка сверлит его глазами.
– Не скажу, что я понимаю то, чего и понимать-то не нужно. Видишь верхушку колеса, рядом с моей рукой? Видишь, да? Так вот, представь, что там есть пятно, маленькое белое пятнышко. Я поворачиваю колесо в эту сторону, – и он меняет положение колеса, – видишь, как это самое белое пятнышко смещается влево? Видишь? Ну так вот, автомобиль тоже поворачивает влево. А сейчас видишь, когда я поворачиваю колесо в ту сторону, – и дядюшка снова налегает на колесо, – видишь, белое пятнышко тоже отклоняется вправо? В таком случае и автомобиль поворачивает направо. Теперь-то все понятно?
Томаш мрачнеет.
– Но взгляните, – показывает он пальцем, – на нижнюю часть рулевого колеса! Будь маленькое белое пятнышко там, оно смещалось бы в другую сторону. Вам пришлось бы крутить колесо вправо, если оно, как вы говорите, наверху, а если же оно внизу, то колесо нужно крутить влево. И потом, как быть с боковинами колеса? Крутя его то влево, то вправо, вы одну его боковину тянете вверх, а другую вниз. Словом, как ни крути, вы поворачиваете колесо одновременно вправо, влево, вверх и вниз. И ваше заявление, будто бы колесо поворачивается в какую-то определенную сторону, представляется мне как один из парадоксов греческого философа Зенона Элейского[7].
Лобу с ужасом глядит на рулевое колесо, переводя взгляд с макушки на нижнюю его часть, потом на боковины. Протяжно и глубоко вздыхает.
– Как бы то ни было, Томаш, водить автомобиль надлежит подобающим образом. Гляди в оба на верхушку рулевого колеса. И плевать на другие стороны. Итак, продолжим? Надо рассмотреть еще кое-какие мелочи – например, как работает сцепление и рычаг переключения скоростей…
Свои объяснения он подкрепляет телодвижениями, пускает в ход и руки, и ноги, – но ни слова, ни забавные жестикуляции не способны пробудить у Томаша даже слабой искры понимания. К примеру, что такое «крутящий момент»? Разве Пиренейский полуостров уже не получил сполна этих самых крутящих моментов при Великом инквизиторе Торквемаде?[8] И какой человек в здравом уме способен уразуметь, что значит «двойной выжим педали сцепления»?
– И это я раскрыл лишь малую толику того, что тебе пригодится.
Дядюшка распахивает дверцу салона, расположенного в задней половине автомобиля. Томаш склоняется вперед, чтобы заглянуть внутрь. Там полумрак. Он обращает внимание на конструктивные особенности салона. В них угадывается нечто от жилого помещения с черным диваном тончайшей кожи, стенами и потолком, обшитым отполированной кедровой рейкой. Переднее и боковые окна выглядят как окна изысканного домика, кичащегося светлыми добротными стеклами и мерцающими металлическими рамами. А заднее, над диваном, столь искусно оправленное, вполне могло бы сойти за картину на стене. Но размеры! Потолок – низехонький. На диване разместятся только двое, не больше, если с удобством. Каждое боковое окно такой величины, что смотреть в него может лишь кто-то один. Что же до заднего окна, будь оно и впрямь картиной, воспринимать ее можно разве что как миниатюру. А чтобы забраться через дверцу внутрь – в замкнутое пространство салона, – нужно согнуться в три погибели. Где же тут хваленый простор экипажа на конной тяге? Томаш отступает и переводит взгляд на одно из боковых зеркал автомобиля. Такое вполне сгодилось бы для умывальной. И разве дядюшка не упоминал что-то такое про огонь в двигателе? У него голова идет кругом. Это крохотное обиталище, где есть что-то от гостиной, умывальной и камина, служит жалким напоминанием, что человеческая жизнь сводится к жалким потугам ощутить себя дома, пока мчишься куда-то в состоянии беспамятства.
Кроме того, он заприметил в салоне множество всяких вещей. Вот его чемодан с кое-какими предметами первой необходимости. Рядом, и это главное, – кофр с разными важными бумагами: перепиской с секретарем епископа Брагансы и несколькими приходами в Высоких Горах Португалии; дубликатом дневника отца Улиссеша; вырезками из архивных газет касательно случаев с пожарами в тамошних деревенских церквях; выписками из судового журнала португальского корабля, возвращавшегося в Лиссабон в середине семнадцатого века, а также различными монографиями по истории архитектуры Северной Португалии. Обыкновенно, когда он не носил его у себя в кармане – всего лишь причуда, вспоминает он, – бесценный дневник отца Улиссеша хранился в кофре. Чемодан с кофром теснится рядом с канистрами, коробками, какой-то мелкой тарой и сумками. Салон походит на погреб с добром, способным удовлетворить аппетиты сорока разбойников[9], причем всех разом.
– Да вы настоящий Али-Баба, дядя Мартим! Тут столько всего! Я же не в Африку собрался. А всего лишь в Высокие Горы Португалии, в паре дней пути отсюда.
– Это дальше, чем ты думаешь, – отвечает дядюшка. – Ты собираешься в края, где отроду не видывали автомобиля. Тебе придется учиться жить самостоятельно. Вот я и положил тебе плотную парусиновую накидку от дождя да пару-тройку одеял, хотя лучше бы тебе спать в салоне. Вон в той коробке лежат все необходимые автоинструменты. Рядом – канистра с маслом. Этот пятигаллоновый бочонок с водой для радиатора, а этот с лигроином, эликсиром жизни для автомобиля. Так что по возможности дозаправляйся сам, причем почаще, потому как в иных местах тебе придется полагаться только на свои запасы. По дороге ищи аптеки, велосипедные мастерские, кузницы и скобяные лавки. У них есть лигроин, хотя они, кажется, называют его по-другому: бензин, уайт-спирит… в общем, что-то в этом роде. И понюхай, прежде чем будешь покупать. Припас я тебе и провизии. Автомобилем лучше управлять на сытый желудок. А теперь оцени вот это.
Из сумки, стоящей на полу салона, дядюшка извлекает пару светлых кожаных перчаток. Томаш в недоумении примеряет их. В самый раз. Кожа приятная, мягкая и скрипит, когда рука сжимается в кулак.
– Спасибо, – неуверенно благодарит он.
– Береги их. Они тоже из Франции.
Следом дядюшка протягивает ему защитные очки, здоровенные такие, отвратительные. Не успевает Томаш их натянуть, как дядюшка вынимает бежевое отороченное мехом пальто – гораздо ниже колен.
– Вощеный хлопок и норка. Высшее качество, – объясняет он.
Томаш облачается. Пальто большое и тяжелое. В довершение Лобу нахлобучивает племяннику на голову шапку с ремешками, которые завязываются под подбородком. Заправленный в перчатки, очки, пальто и шапку, Томаш чувствует себя громадным грибом.
– Дядя, зачем весь этот наряд?
– Чтобы ездить на автомобиле, разумеется. Чтобы защищаться от ветра и пыли. От дождя и холода. Ведь на дворе декабрь. Разве ты не видел водительскую кабину?
Он смотрит. Дядюшка говорит дело. В задней части автомобиля помещается закрытый отсек для пассажиров. А расположенная перед ним водительская кабина открыта всем ветрам, не считая крыши и переднего окна. С боков – ни окон, ни дверей. Ветер, пыль и дождь – добро пожаловать! Он чертыхается про себя. Не набей дядюшка салон под завязку всякой всячиной, так, что яблоку негде упасть, он мог бы и сам там разместиться, предоставив Сабиу вести машину.
А дядюшка знай гнет свою линию:
– Я положил и карты, все, какие есть. Если же от них, может статься, не будет толку, сверяйся с компасом. Путь твой лежит на северо-северо-восток. Дороги в Португалии ужасные, но у этой машины отличная подвесная система – листовые рессоры. Ей никакие ухабы нипочем. Если же в дороге тебя начнет мутить, влей в себя побольше вина. Там, в салоне, лежит пара бурдюков. От придорожных гостиниц и почтовых дилижансов держись подальше. Друзей ты там не сыщешь. Оно и понятно. От тех, чьей жизни может непосредственно угрожать автомобиль, ничего хорошего не жди. А что до остальных припасов, там сам разберешься, что к чему. Ну, пора в путь-дорогу. Ты готов, Сабиу?
– Да, сеньор.
– Дай надену куртку. Я довезу тебя до окраины Лиссабона, Томаш.
Дядюшка возвращается в дом. Томаш стаскивает с себя нелепый водительский наряд и запихивает его назад в салон. Дядюшка спускается обратно во двор в куртке и перчатках; щеки его пылают от возбуждения, в котором угадывается пугающая веселость.
– Кстати, Томаш, – выкрикивает он, – забыл спросить, за каким дьяволом тебя так тянет в Высокие Горы Португалии?
– Ищу кое-что, – отвечает Томаш.
– И что же?
Томаш медлит.
– Одну церквушку, – наконец выговаривает он. – Только вот не знаю, какую точно и в какой деревне.
Дядюшка подходит к нему ближе и вперивает в него свой взор. Томаш думает: надо бы сказать еще хоть что-нибудь. Точно такими же безжизненными глазами дядюшка вглядывается в экспонаты, когда наведывается в Музей древнего искусства.
– Вы слышали о Чарлзе Дарвине, дядя? – спрашивает Томаш.
– Да, слышать о Дарвине мне приходилось, – ответствует Лобу. – Что, неужели он похоронен в какой-то церквушке в Высоких Горах Португалии? – смеется он. – Ты вознамерился вывезти его бренные останки и определить их на почетное место в Музее древнего искусства?
– Нет. По работе я наткнулся на один дневник, написанный на Сан-Томе, в Гвинейском заливе. С конца пятнадцатого века этот остров был португальской колонией.
– И бедной притом. Я бывал там как-то по пути в Анголу. Думал, может, стоит вложиться в плантации какао.
– Во времена работорговли это было не последнее место.
– Что ж, а сейчас там делают плохой шоколад. Хотя плантации там роскошные.
– Известное дело. Так вот, методом дедукции, путем сопоставления разрозненных фактов – дневник, о котором я уже говорил, судовой журнал с корабля, вернувшегося в Лиссабон, и пожар в деревенской церквушке в Высоких Горах Португалии – я обнаружил нежданное сокровище и примерно определил, где его искать. В общем, я на пороге величайшего открытия.
– Думаешь? И что же это за сокровище, если не секрет? – интересуется дядюшка, не сводя глаз с Томаша.
Томаш крайне взволнован. Все это время ни с кем, даже с сослуживцами, он ни словом не обмолвился ни об открытии, которое сделал, ни об изысканиях, которые провел. Он проделал все своими силами, частным порядком. Но держать это в тайне больше нет мочи. Так почему бы не открыться дядюшке?
– Это… церковная вещь, резная… похоже, распятие.
– Как раз то, что нужно этой католической стране.
– Да нет, вы не поняли. Это не совсем обычное распятие. Оно удивительное.
– Правда? А какая тут связь с Дарвином?
– Скоро узнаете, – с жаром отвечает Томаш. – В этом Иисусе на кресте, должен заметить, что-то есть. Точно говорю.
Дядюшка ждет дальнейших объяснений, но их нет.
– Что ж, надеюсь, ты озолотишься. А теперь в путь! – командует он. И забирается на водительское сиденье. – Сейчас покажу, как запускать двигатель. – Он хлопает в ладоши и рычит: – Сабиу!
Сабиу спешит на зов – взгляд и руки так и тянутся к автомобилю.
– Прежде чем запустить двигатель, нужно открыть лигроиновый краник, – молодец, Сабиу! – дроссельный рычаг, вот здесь, под рулевым колесом, поворачиваем на половину впуска, а рычаг переключения скоростей ставим в нейтральное положение, вот так. Затем ты щелкаешь переключателем индуктора – здесь, на приборном щитке – и включаешь его. Дальше открываешь крышку на капоте – весь капот открывать необязательно, а только вон ту крышечку спереди, видишь? – и давишь разок-другой на поплавок карбюратора, утапливаешь его. Гляди, что делает Сабиу. Закрываешь крышечку, и теперь все, что тебе остается, так это крутануть заводную рукоятку. После этого садишься на водительское место, снимаешь ручной тормоз, включаешь первую передачу – и вперед! Проще пареной репы. Ты готов, Сабиу?
Сабиу, не сводя глаз с двигателя, широко расставляет ноги и прочно упирается ими в землю. Сгибается и хватается за заводную рукоятку, узенькую палку, торчащую спереди автомобиля. Руки прямо, спина прямо; он резко, со всей силы рвет рукоятку вверх, распрямляясь, потом, когда рукоятка совершает полуоборот, наваливается на нее всем телом, прежде чем рвануть ее вверх, как первый раз. Он проделывает это круговое движение с неимоверным усилием, так, что автомобиль сотрясается всем своим существом, а рукоятка проворачивается кругом раза два или три. Томаш готов по достоинству оценить ловкость, с какой Сабиу орудует рукояткой, благо автомобиль вдруг с ревом оживает. Заводится, утробно ворча, фыркая и резко грохоча. Покуда «рено» содрогается и трясется всем нутром, дядюшка выкрикивает:
– Давай запрыгивай скорей! Сейчас я тебе покажу, на что способно это чудо техники!
Томаш невольно, но спешно подсаживается рядом с дядюшкой на мягкое сиденье поперек водительской кабины. Дядюшка проделывает какие-то движения руками и ногами, включая то, нажимая это. Томаш замечает, как Сабиу оседлывает приставленный к стене мотоцикл и заводит его ножным стартером. Добрый малый собирается следом за нами.
И тут машина рывком приходит в движение.
Она живо набирает скорость и, сворачивая со двора, вырывается из распахнутых настежь ворот особняка Лобу на улицу ду-Пау-ди-Бандейра и там резко поворачивает направо. Томаш скользит по гладкому кожаному сиденью и врезается в дядюшку.
Он поверить не может, что эта встряска костей, эта умопомрачительная дрожь, какую он ощущает каждой клеткой своего тела, прямо связана с ревом, хотя он и есть всему причиной. Машина, того и гляди, рассыплется на части. Он понимает, что ошибся насчет предназначения подвесных пружин, о чем толковал дядюшка. Определенно, они предназначены вовсе не для того, чтобы оберегать автомобиль от ухабов, а напротив – ухабы от автомобиля.
Но куда более удручающее впечатление производит головокружительно быстрое поступательное движение машины. Томаш высовывает голову в боковое окно и оглядывается назад, думая – надеясь – разглядеть особняк Лобу, всех домочадцев с прислугой и увидеть, что это они толкают машину и издевательски насмехаются над ним. (О, если бы Дора была среди этих толкачей!) Но никого нет и в помине. Ему кажется ненормальным, что даже никакой зверь не толкает и не тормошит машину. Это следствие без причины, а стало быть, это ненормально и не может не тревожить.
Ох уж эти альпийские вершины Лапы! Автомобиль – кашляя, чихая, дребезжа, грохоча, дрожа, подскакивая, пыхтя, дымя, завывая и рыча – несется вниз, в самый конец улицы ду-Пау-ди-Бандейра, пересчитывая колесами булыжники, которые дают о себе знать беспрестанным стуком – тук-тук, – затем резко кренится влево и срывается вниз, точно со скалы: выезд на улицу ду-Приор славится своей крутизной. Томаш чувствует, как его нутро сжимается в комок. Автомобиль выкатывает в конец улицы, вжимаясь в брусчатку так, что Томаш и сам едва не расплющивается по полу водительской кабины. Не успевает машина выровняться, а он – снова занять свое место и успокоиться, как вновь рвется вверх по улице ду-Приор и поворачивает на улицу да-Санта-Тринидад, которая, в свою очередь, резко обрывается вниз. И вот уже автомобиль бойко приплясывает, зажатый меж железных челюстей трамвайных рельсов по улице Санта-Тринидад, вынуждая Томаша скатываться по сиденью туда-сюда, то и дело натыкаясь на дядюшку, который будто бы ничего не замечает, а иной раз – чуть ли не вывалиться из автомобиля, с края сиденья. На ходу он видит, как с балконов на них глазеют зеваки.
Дядюшка с непоколебимой решимостью сворачивает на улицу ди-Сан-Жоан-да-Мата. И они опять несутся вниз. Солнце слепит Томашу глаза – дядюшке словно все нипочем. Автомобиль пересекает улицу ди-Сантуш-e-Велью и мчит по извиву Кальсада-Рибейру-Сантуш. На Ларгу-ди-Сантуш Томаш с тоской – и мельком – озирается на людей, не отказывающих себе в удовольствии предаваться своим неспешным делам в красивом парке. Между тем дядюшка объезжает парк кругом и, безжалостно рванув влево, вылетает на широкий проспект Винти-и-Куатру-ди-Жулью. Плещутся воды Лапы, справа в просветах открывается захватывающая панорама Тежу[10] – но Томаш не успевает насладиться видами, пока они с грохотом прорываются сквозь городскую тесноту Лиссабона, со свистом рассекая воздух. Они так стремительно сворачивают на оживленном перекрестке Праса-ду-Дуки-да-Терсейра, что машину, словно выстрелом из рогатки, выбрасывает на улицу ду-Арсеналь. Суматошная Праса-ду-Комерсиу не помеха – всего лишь занятная история с географией. Томаш смутно примечает статую маркиза Помбала, громоздящуюся посреди площади. О! Если бы только маркиз видел, какие ужасы творятся на его улицах, он нипочем бы не стал отстраивать их наново[11]. А они знай себе с ревом мчатся все дальше вперед, словно в лихорадке, словно размазанное в пространстве пятно краски. А вокруг точно так же размазано и все остальное, что движется: лошади, коляски, экипажи, подводы, трамваи, людские толпы и собаки. Томаш ожидает, что они вот-вот налетят на какое-нибудь тягловое животное или человека, но в самое последнее мгновение дядюшка ухитряется спасти их от неминуемого столкновения, то резко уворачиваясь, то жестко давя на тормоз. Временами Томашу хочется кричать, но его лицо всякий раз сковывает ужас. И тогда он со всей силой вдавливает ноги в пол. Знай он, что дядюшка смирился с ролью спасательного круга, он, Томаш, с радостью вцепился бы в него мертвой хваткой.
А тем временем дядюшка Мартим – когда не осыпает проклятиями посторонних – сияет от радости, лицо его рдеет от возбуждения, рот растягивается в улыбке, глаза сверкают, и он то хохочет как одержимый, то восторженно выкрикивает, вроде как ни к кому, собственно, не обращаясь:
– Здорово!.. Класс!.. Фантастика!.. Что я говорил!.. А теперь налево, вот так!.. С ума сойти, просто с ума сойти!.. Гляди-гляди, выжимает полсотни километров в час!
Между тем Тежу течет себе безмятежно, неспешно и невозмутимо, похожая на огромное кроткое чудовище, возле которого, мечась из стороны в сторону и подскакивая, беснуется жалкая блоха.
В виду чистого поля, выехав на недавно проложенную сельскую дорогу, не успевшую обрасти булыжником, дядюшка в конце концов останавливается. Поодаль, у них за спиной, виднеются очертания Лиссабона, подобно прорезавшимся у младенца зубкам.
– Видишь, как далеко мы укатили… да как шустро!
Голос гулко раскатывается в живительном безмолвии. Дядюшка лучится радостью, как мальчишка на собственном дне рождения.
Томаш мельком оглядывает его, не в силах проронить ни слова, – и буквально вываливается наземь из водительской кабины. Шатаясь, он бредет к близстоящему дереву и хватается за него руками. Потом склоняется – и рвота фонтаном бьет у него изо рта.
Дядюшка выказывает понимание.
– Укачало, – весело замечает он, стягивая водительские перчатки. – Забавная штука. С пассажирами такое бывает, а вот с водителями никогда. Может, потому, что приходится все время думать о машине, а может, оттого, что всю дорогу глядишь в оба, не врезаться бы куда и где повернуть. Внимание и умственное напряжение при вождении отвлекают желудок от всяких болезненных ощущений. Сядешь сам за руль – и все как рукой снимет.
Томашу нужно время, чтобы уяснить сказанное. Он и представить себе не может, что ему под силу обуздать этого железного жеребца.
– Сабиу едет со мной, так ведь? – спрашивает он едва дыша, вытирая платком уголки рта.
– А вот Сабиу я тебе не отдам. Кто будет приглядывать за другими авто? К тому же Сабиу самолично убедился: «рено» в отличном рабочем состоянии. Так что он тебе без надобности.
– Но, дядюшка, этой штуковиной должен управлять Сабиу.
– Управлять? Это еще с какой стати? К чему ради какого-то слуги отказывать себе в удовольствии посидеть за рулем столь изумительного чуда техники? Сабиу здесь, чтобы служить, а не развлекаться.
И тут перед нами предстает тот, о ком идет речь, – Сабиу лихо сворачивает на фыркающем мотоцикле на обочину и, прижавшись к автомобилю, останавливается.
Томаш снова поворачивается к дядюшке. Как же ему не повезло с родственником, обзаведшимся эдаким богатством в виде целого автомобильного парка, – чудаком, которого хлебом не корми, дай только сесть за руль!
– Значит, Сабиу у вас за шофера.
– Только по особым случаям. А так возит в основном Габриэлу. Эта дурочка боится даже попробовать сесть за руль. А ты у нас молодой, смышленый. И отлично справишься сам. Верно, Сабиу?
Сабиу, тихо стоящий рядышком, согласно кивает, однако его взгляд, задержавшийся на Томаше, убеждает, что слуга далек от того, чтобы всецело разделять радужные надежды хозяина. От страха у Томаша схватывает живот.
– Дядя Мартим, пожалуйста, я же не умею…
– Послушай! Сперва ставишь на нейтралку, дроссельный рычаг на пол-оборота. Чтобы тронуться с места, включаешь первую передачу, затем плавно отпускаешь сцепление и одновременно давишь на педаль газа. Набираешь скорость, переключаешься на вторую передачу, потом на третью. Плевое дело. Только трогайся с ровного места. Ты мигом наловчишься.
Дядюшка делает шаг назад и с любовью глядит на автомобиль. Томаш надеется, что за время паузы дядюшкино сердце оттает, смягчится, проникнется сочувствием. Не тут-то было: вскоре следует кода, притом сногсшибательная:
– Томаш, надеюсь, ты понимаешь: перед тобой хорошо отлаженный оркестр, исполняющий самую прекрасную симфонию. Она ласкает слух своей полифонией, блистательно мрачной, мелодия незамысловатая, парящая, а темп меняется от vivace[12] до presto[13], хотя местами с изумительным adagio[14]. Когда я дирижирую этим оркестром, то всякий раз восхищаюсь этой музыкой – музыкой грядущих времен. Теперь тебе стоять за пультом, и я вручаю тебе дирижерскую палочку. Так что не ударь в грязь лицом.
Дядюшка похлопывает по водительскому сиденью.
– Твое место, – говорит он.
Внезапно Томаш чувствует, как у него спирает дыхание. Дядюшка подает знак Сабиу, чтобы он включал двигатель. И вновь загородную тишину вспарывает рокот двигателя внутреннего сгорания. Другого выхода нет. Томаш ждал слишком долго и понял все слишком поздно. Ему ничего не остается, как сесть за рулевое колесо чудовища.
И он садится. Дядюшка снова что-то показывает, объясняет, кивает, улыбается.
– У тебя все получится, – заключает он. – По ходу дела пообвыкнешь. Увидимся, Томаш, когда вернешься. Удачи! Сабиу, погоди, подсоби-ка ему.
Бесповоротно захлопнув дверцу, дядюшка поворачивается и скрывается позади автомобиля. Томаш высовывает голову наружу, силясь его разглядеть.
– Дядя Мартим! – кричит он.
Громыхнув, мотоцикл оживает и с треском срывается с места. Последний образ, запечатлевшийся в его памяти, – дядюшка, облепивший своими телесами крохотную двухколесную машинку, уносится прочь по дороге в клубах дыма.
Томаш переводит взгляд на Сабиу. До Томаша доходит, что дядюшка безвозвратно умчался на мотоцикле, бросив его один на один с автомобилем. Но тогда как же Сабиу вернется отсюда, с северо-восточной окраины Лиссабона, домой к своему хозяину в западную Лапу?
Сабиу спокойно отвечает:
– Управлять автомобилем, сеньор, – дело нехитрое. Немного опыта – и порядок.
– А у меня ничего такого нет и в помине! – вскрикивает Томаш. – Ни опыта, ни знаний, ни желания, ни способностей. Выручай же скорей – растолкуй еще раз, как обращаться с этой чертовой штуковиной!
И Сабиу берется с нудной дотошностью растолковывать, как укротить это рукотворное чудовище. Он объясняет все с неутомимым терпением, уделяя немало времени четкой последовательности, в какой следует выжимать и отпускать педали, включать и выключать рычаги. Он напоминает Томашу о левом и правом повороте рулевого колеса. Показывает, как обращаться с дроссельным рычагом, который нужен не только для запуска, но и для отключения двигателя. А еще он вспоминает такое, о чем дядюшка Мартим даже не упоминал: о разнице между сильным и легким нажатием на педаль газа; о действии тормозной педали; о важной функции ручного тормоза, на который необходимо ставить автомобиль всякий раз, когда останавливаешься; о пользовании боковыми зеркалами заднего вида. Сабиу показывает, как крутить заводную рукоятку. И когда Томаш пробует сам, ему кажется, будто в чреве автомобиля с трудом проворачивается что-то наподобие обильно политой соусом кабаньей туши на вертеле в жаровне. На третьем повороте вертела кабан разражается ревом.
Двигатель глохнет снова и снова. Сабиу, презрев страх, всякий раз возвращается к переднему краю машины и вновь возвращает ее к жизни. Потом предлагает поставить машину на первую передачу. Томаш переползает на пассажирское сиденье водительской кабины. Сабиу выполняет необходимые действия; шестерни согласно скрежещут, и машина медленно трогается вперед. Сабиу показывает, куда положить руки и куда нажимать ногой. Томаш пересаживается обратно. Сабиу освобождает место на водительском сиденье, становится на подножку, одобрительно кивает и сходит.
Томаш чувствует себя одиноким, отвергнутым, брошенным.
Дорога впереди прямая, как стрела, и машина крадется по ней, громко ворча на первой передаче. Рулевое колесо тугое, враждебное. И трясется в руках. Томаш с силой дергает его в одну сторону. Это влево? Или вправо? Трудно сказать. Колесо едва ему поддается. Как же у дядюшки получалось так легко с ним управляться? А удерживать ногу на педали газа, едва надавливая на нее, и вовсе выше всяких сил – ногу уже сводят судороги. На первом же повороте – изгибе вправо, когда автомобиль вдруг бросает поперек дороги в сторону кювета, страх вынуждает его что-то делать – он отдергивает ногу и начинает давить наугад на все педали. Машина кашляет и, подскочив, замирает на месте. Адский лязг, хвала богу, разом стихает.
Томаш озирается кругом. Дядюшка умчался прочь, Сабиу и след простыл, поблизости ни души… даже любимый Лиссабон, и тот скрылся из глаз – его сдуло, точно остатки снеди с тарелки. В безмолвии, больше похожем на пустоту, нежели на тишину, в его сознании вдруг возникает образ сынишки. Гашпар частенько отваживался выбегать во двор дядюшкиного дома и забавлялся там, покуда кто-то из слуг не прогонял его пинком, как бездомного котенка. Забирался он, бывало, и в гараж, где рядком стояли велосипеды, мотоциклы и авто. Дядюшка видел в его отпрыске родственную душу, когда дело касалось автомобилей. Гашпар буквально поедал их голодными глазенками. А потом мальчика не стало – и двор теперь безмолвен и пуст. Другие места в дядюшкином доме: эта дверь, то кресло, вон то окно – столь же болезненно напоминают Томашу об утрате Доры и отца. Кто мы без тех, кого любим? Свыкнется ли он когда-нибудь с утратами? Глядя себе в глаза в зеркале во время бритья, он видит пустые комнаты. И дни свои проживает, точно призрак, а не живой человек.
Нет, лить слезы для него не внове. Немало, ох как немало он их пролил после того, как смерть нанесла ему тройной удар. Чаще всего источником – очагом – его горя служит память о Доре, Гашпаре и отце, хотя, бывает, он заливается слезами без всякой видимой причины, ни с того ни с сего. Но сейчас совсем другое дело – ясно как божий день. Разве может какая-то грохочущая, неуправляемая железяка сравниться по силе воздействия с тремя гробами? Однако, как ни странно, машина ввергает его в такую же печаль, исполненную столь же острого чувства ужаса, болезненного одиночества и беспомощности. И он уже давится слезами, не в силах совладать с горем и все нарастающей тревогой. Томаш достает из кармана куртки дневник и прижимает его к лицу. Он чувствует исходящий от него запах древности. И закрывает глаза. Он ищет прибежища в Африке, в экваториальных водах близ ее западного побережья, на португальском колониальном острове Сан-Томе. В горе своем он ищет человека, который ведет его в Высокие Горы Португалии.
Он пытался разузнать хоть что-нибудь об отце Улиссеше Мануэле Росариу Пинту, но история, похоже, напрочь вычеркнула этого человека из своих анналов. После него не осталось никаких следов, кроме пары дат – двух черточек к его незаконченному портрету: родился июля 14-го дня 1603 года, как явствует из метрической книги прихода в Коимбре, и мая 1-го дня 1629 года там же был рукоположен в священники в соборе Животворящего Креста Господня. Никаких иных сведений, включая и дату смерти, Томаш так и не обнаружил. Все, что осталось достопамятного об отце Улиссеше, это гонимые рекой времени, непотопляемые страницы его дневника.
Он отнимает дневник от лица. Обложка залита слезами. Это его огорчает. Как знаток древностей, он раздосадован. И промакивает обложку рукавом сорочки. Странная штука – эта его привычка разводить сырость. А животные плачут? Определенно, они умеют грустить – но разве слезами выражают они свою грусть? Сомнительно. Он никогда не слыхал, чтобы кошки, собаки или какие дикие зверушки плакали. Похоже, это свойство присуще только человеку. Он не понимает, для чего оно нужно. Он плачет навзрыд, даже с какой-то неистовостью – и что потом? Безутешная усталость. И платок, мокрый от слез и соплей. Красные глаза, которые ни от кого не спрячешь. Нет, лить слезы – занятие недостойное. Это за гранью приличия, это проявление некоего душевного своеобразия, выражение чего-то сугубо личного. Гримасы, количество слез, характерное звучание всхлипываний, высота голоса, всплески руками, принятая поза – человек познает слезы, сиречь собственную слезливость, через слезы. Странный способ познания – не только других людей, но и самого себя.
В Томаше вдруг пробуждается решимость. Церковь в Высоких Горах Португалии ждет его. И он должен до нее добраться. И эта железяка на колесах ему поможет – он управится с нею и попадет туда, куда надо. Isso é minha casa. Это мой дом. Он опускает глаза на педали. Потом глядит на рычаги.
Пора в путь-дорогу. Загвоздка не в том, чтобы тронуться с места. Дело это, как он сам видел, наблюдая столько раз за Сабиу, нехитрое. Руки прямо, спина прямо, ноги в рабочем положении – он поворачивает заводную рукоятку. Не остывший еще двигатель как будто снова готов вернуться к жизни. Загвоздка в том, чтобы заставить машину ехать. Но на какие бы педали он ни нажимал, на какие бы рычаги ни давил, конечный результат один и тот же: тягостный скрежет или злобное фырканье, порой просто оглушительное, – и ни с места. Он делает перерывы. Забирается в кабину. Встает рядом с автомобилем. Ходит кругами. Примостившись на подножке, закусывает хлебом, ветчиной, сыром, сушеными финиками и запивает их вином. Безрадостная трапеза. Автомобиль никак не выходит у него из головы. Вот он, стоит на обочине, весь какой-то несуразный. Проходящие мимо лошади и быки с любопытством поглядывают на авто и на Томаша – но в такой близости от Лиссабона погонщики, снующие туда-сюда, подгоняют животных и только кричат ему что-то и приветственно помахивают руками. Томашу нечего сказать в ответ.
Наконец свершилось. После бессчетных и неудачных попыток он давит на педаль газа – и машина трогается вперед. Он что есть мочи выворачивает рулевое колесо, как ему кажется, в правильную сторону. Вот так.
Автомобиль теперь посреди дороги и едет вперед. Дабы не угодить в кювет, ему нужно вести свой корабль одним неизменным курсом – на узкий, съеживающийся горизонт далеко-далеко впереди. Править строго по прямой на точку в бесконечности – дело изнурительное. Машина то и дело норовит сбиться с пути, к тому же на дороге полно бугров и колдобин.
Да и людей хватает, и чем дальше от Лиссабона, тем с большей злостью они глядят ему вслед. Хуже того, навстречу едут здоровенные подводы и телеги, тяжело груженные товарами для города. Они вырастают прямо перед ним, застилая горизонт. И когда подъезжают совсем близко, то как будто расползаются во всю ширь дороги. Он мчит прямо на них, а они знай себе стучат и цокают с неспешной, тупой самоуверенностью. Ему приходится точно рассчитывать курс, чтобы объехать их, а не въехать. Глаза слезятся от напряжения, руки, не выпускающие рулевое колесо, нещадно ноют.
И вдруг – все, будет. Он давит на педаль. Машина кашляет и резко замирает на месте – его бросает на рулевое колесо. Он выбирается из кабины, изможденный, но спокойный. И в изумлении моргает глазами. Нажим на педаль тормоза – и вокруг внезапно распахнулся, вздыбился неоглядный простор: деревья, холмы, виноградники – слева и широко разбросанные поля с Тежу – справа. Пока ехал, он ничего этого не видел. Глаза пожирали только уходящую вдаль дорогу. Какое это счастье – жить на земле, неизменно чудесной и всегда готовой делиться своими чудесами! Неудивительно, что именно здесь делают вино. Дорога уже пуста, и вот он один-одинешенек. В легкой опаловой дымке угасающего дня Томаш чувствует умиротворение в тиши раннего вечера, окутывающего этот край. Он вспоминает строки из дневника отца Улиссеша и нашептывает их:
«Я прибыл, чтобы пасти не свободных, а несвободных. Ибо у первых есть своя церковь. А у церкви стада моего нет ни стен, ни кровли, устремленной к Господу».
Здесь, в церкви под открытым небом, окружающей его, он легкими и глазами вкушает тихую благодатную прелесть Португалии. Он не знает, в какие дали его занесло, но определенно пешком он бы сюда нипочем не добрался. На первый день довольно. Завтра он поднажмет и двинет еще дальше.
Сооружать укрытие из непромокаемого брезента – дело хлопотное. Вместо этого Томаш решает устроить себе постель в тесноте заднего салона, как и советовал дядюшка, и начинает перебирать вещи, пожертвованные дядюшкой на экспедицию. Она находит: легкие котелки и сковородки; маленькую горелку, работающую на белых кубиках сухого спирта; миску, тарелку, чашку, прочую утварь – все из железа; порошковый суп; сайки и буханки; вяленое мясо и рыбу; сосиски; свежие овощи; свежие и сушеные фрукты; маслины; сыр; сухое молоко; какао-порошок; кофе; мед; сладкие булочки и печенье; бутылку масла для жарки; специи и приправы; бутыль воды; автомобильную куртку с сопутствующими принадлежностями – перчатками, шапкой, безобразными очками; шесть автопокрышек; трос; топор; острый нож; спички и свечи; компас; чистый блокнот; графитные карандаши; набор карт; французско-португальский словарь; инструкция к «рено»; шерстяные одеяла; ящик с инструментами и прочими автопринадлежностями; канистра лигроина; полотнища непромокаемого брезента со шнурами и колышками; и всякое такое прочее.
Целая куча барахла! Излишняя предусмотрительность дядюшки означает, что обустраивать уютное гнездышко в салоне для себя он и не думал. Расчистив диван, Томаш пробует улечься. Коротковат, не больно разоспишься – придется поджать колени под себя. Через широкое переднее стекло он заглядывает в водительскую кабину. Сиденье там хоть и жестковатое, зато плоское и гладкое, больше похожее на скамейку, и к тому же не зажато боковыми дверцами, а стало быть, там можно высунуть ноги наружу.
Прихватив с собой буханку хлеба, вяленую треску, маслины, бурдюк с вином, дядюшкино пальто, а также автомобильную инструкцию со словарем, Томаш перебирается обратно в водительскую кабину. Укладывается спиной на сиденье и высовывает ноги наружу. Делая все, как учил дядюшка, он, с инструкцией в руках и словарем на груди, погружается в изучение автомобильного дела.
Смазка, оказывается, дело нешуточное. С нарастающим ужасом он понимает, что шестерни, сцепление, манжета сцепления, задняя ось, передний и задний шарниры вала коробки передач, подшипники всех колес, шарнирные соединения передней оси, подшипники полуоси, соединительные оси, шарниры ведущей тяги, ось индуктора, дверные петли и дальше по списку – словом, все, что крутится в машине, нуждается в исправной смазке. Многое из перечисленного нужно лишь чуть спринцевать каждое утро перед запуском двигателя, кое-что надо смазывать каждые два-три дня, другое – раз в неделю, а остальное – в зависимости от пробега в милях. Он уже видит автомобиль в ином свете: это огромный цыплятник, где истошно пищат сотни птенчиков, вытянув шейки и широко разинув клювики, трясясь тельцами и истошно требуя положенных капелек масла. Как тут уследить за всеми этими прожорливыми ротиками? Да уж, с наставлениями касаемо дара отца Улиссеша все куда проще! На поверку оказалось, что это всего лишь обращение к искусным португальским мастерам на родине, наделенным доступом к первосортной краске, с просьбой собственноручно перекрасить его шедевр. Ибо ему самому покамест пришлось использовать никудышные местные заменители.
Ночью становится свежо – Томаш благодарен дядюшке за пальто. Норка – штука теплая и мягкая. Он засыпает, представляя себе, что пальто – это Дора. Она была такая же теплая и мягкая, добрая и милая, красивая и заботливая. Но блаженные воспоминания о Доре заглушает тревога – ох уж эти прожорливые ротики! – и он забывается тревожным сном.
На следующее утро, после завтрака, Томаш находит ручную масленку и делает все согласно инструкции – пункт за пунктом, картинка за картинкой, параграф за параграфом, страница за страницей. Он смазывает автомобиль сверху донизу, для чего требуется не только поднять капот на шарнирах и засунуть голову в чрево машины, но и снять пол в водительской кабине, чтобы добраться до сокрытой под ним части автомобильного скелета, и даже заползти по земле под машину. Просто пытка – тяжкая, изощренная, грязная! Потом он обмывает автомобиль водой… И тут еще одна насущная загвоздка. В машине, которую дядюшка расписывал как последнее слово техники, не хватает одного из наиглавнейших технических достижений – туалета… Приходится обойтись листьями с ближайшего куста.
Запуск холодного двигателя – занятие долгое и тягостное. Эх, ему бы руки да ноги покрепче! Затем возникает другая умопомрачительная задача – как сдвинуть машину с места, когда она начинает фыркать и громыхать. С минуты пробуждения до мгновения, когда машина срывается вперед, проходит четыре часа. Томаш обхватывает руль и сосредоточивается на дороге. Он подъезжает к Повоа-ди-Санта-Илье, меленькому городишке под Лиссабоном, ближайшему населенному пункту в северо-восточном направлении от столицы по этой дороге – месту, о котором до сего дня у него не было ни малейшего представления. Он въезжает в городок – сердце стучит как барабан.
Появляются люди с салфетками на груди, с куриными ножками и прочей снедью в руках – глядят во все глаза. Брадобреи с намыленными помазками, а следом за ними мужчины с намыленными же лицами бросают свое занятие – и глядят во все глаза. Сбившиеся в кучку старушки творят крестное знамение – и глядят во все глаза. Мужчины смолкают на полуслове – и глядят во все глаза. Женщины отрываются от покупок – и глядят во все глаза. Старичок вскидывает руку в воинском приветствии – и глядит во все глаза. Две женщины с испугу хихикают – и глядят во все глаза. Старики на скамейке жуют беззубыми ртами – и глядят во все глаза. Детвора визжит, разбегается, прячется – и глядит во все глаза. Лошадь ржет, взбрыкивает, пугая возницу, – и глядит во все глаза. Овца в загоне с выходом на главную улицу отчаянно блеет – и глядит во все глаза. Коровы мычат – и глядят во все глаза. Осел кричит – и глядит во все глаза. Собаки лают – и глядят во все глаза.
Под действием этой мучительной зрительной аутопсии Томаш напрочь забывает про педаль газа. Машина кашляет раз-другой и стихает. Он с силой давит на педаль. Ничего не происходит. Он закрывает глаза, силясь скрыть досаду. Через мгновение открывает и озирается. Спереди, с обеих сторон и сзади на него глядит тысяча глаз, человеческих и звериных. Не слышно ни звука.
Глаза моргают – тишина обваливается. Незаметно, робко, обитатели Повоа-ди-Санта-Ильи движутся вперед, обступая автомобиль во всех сторон плотными рядами в десять, а потом пятнадцать человек глубиной.
Кто-то криво улыбается и забрасывает его вопросами:
– Вы кто?
– Почему остановились?
– Как она ездит?
– Сколько стоит?
– Вы богач?
– Женаты?
А кто-то смотрит сурово и ворчит:
– Вам что, не жалко наших ушей?
– Зачем напылили тут?
Ребятишки выкрикивают всякие глупости:
– Как ее звать?
– Что она ест?
– А лошадь-то где – в кабине?
– А какие у нее какашки?
Многие подходят погладить машину. Большинство же просто глазеет и тихонько помалкивает. Старичок, вскидывавший руку в воинском приветствии, и дальше приветствует Томаша таким же манером всякий раз, когда он обращает на него свой взгляд. Позади толпы овцы, лошади, ослы и собаки снова принимаются почтительно гомонить на все лады.
Проболтав с горожанами битый час, Томаш видит, что те и не думают расходиться, покуда он не уберется из их городка. Ему есть куда ехать, а им нет.
Самое время преодолеть природную застенчивость. С необоримо вязким чувством неловкости, уповая на глубинные внутренние резервы души, Томаш выбирается из водительской кабины, встает на подножку и просит народ расступиться. А народ как будто ничего не слышит или не понимает. Томаш уговаривает толпу, но та только плотнее сбивается вокруг и все нарастает. Людей вокруг автомобиля скапливается столько, что Томашу приходится протискиваться между телами, чтобы добраться до заводной рукоятки, и расталкивать людей, освобождая место, чтобы ее крутануть. Некоторые любопытные взбираются на подножки. Другие даже пробуют забраться в водительскую кабину, презирая удерживающий их ледяной взгляд. Детвора с застывшими на лицах ухмылками и в исступленном восторге знай себе давит на сигнальную резиновую грушу.
После нескольких попыток крутануть рукоятку и поочередно надавить на разные педали и рычаги автомобиль со зловещим рыком срывается вперед и тут же застывает как вкопанный. Кругом поднимается крик. Люди перед машиной в ужасе вопят и хватаются за грудь. Женщины визжат, ребятня воет, мужчины бурчат. Старичок с ужимками бравого вояки перестает приветственно вскидывать руку.
Томаш громко извиняется, бьет по рулевому колесу, поносит автомобиль на чем свет стоит. Он спрыгивает наземь, чтобы утешить обиженных. Пинает колеса. Дубасит кулаком по крыльям автомобиля, похожим на слоновьи уши. Осыпает проклятиями безобразный капот. Затем злобно налегает на заводную рукоятку, ставя машину на место. Но все тщетно. Доброжелательность обитателей Повоа-ди-Санта-Ильи разом испаряется на зимнем португальском солнце.
Томаш спешно забирается в водительскую кабину. И – о чудо! – автомобиль взвывает, встряхивается – и, будто на цыпочках, трогается вперед. Обитатели Повоа-ди-Санта-Ильи в страхе расступаются – дорога открыта. Томаш давит на газ.
Следующий городок, Алверка-ду-Рибатежу, он проезжает насквозь с ревом и со всей решимостью, крепко давя на педаль газа. Не обращая внимания ни на его обитателей, ни на их изумленные взгляды. То же самое – и в городке Алхандра. За Алхандрой он замечает знак «Порту-Алту», указывающий направо, – в сторону от главной дороги, туда, где течет Тежу. Три моста соединяют два островка. Томаш обводит взглядом пустынную равнину за восточным берегом реки и останавливается.
Выключает двигатель и достает из салона карты Португалии. Их целый комплект – все аккуратно сложены и помечены: вот государственная, а вот региональные карты – Эштремадуры, Рибатежу, Алту-Алентежу, Бейра-Баиши, Бейра-Алты, Дору-Литорал и Алту-Дору. Есть даже карты соседних испанских провинций: Касерес, Саламанки и Саморы. Похоже, дядюшка подготовил его к любому возможному повороту маршрута к Высоким Горам Португалии, включая окольные и проселочные пути-дороги.
Томаш изучает государственную карту. Все, как он и думал. К западу и северу от Тежу, вдоль и близ португальского побережья всяких городов, больших и малых, не счесть. С другой стороны, глухомань за рекой – к востоку от Тежу – и захолустья на границе с Испанией ободряют его своей безлюдностью. Пожалуй, только Каштелу-Бранку, Ковилья и Гуарда злобно посверкивают огоньками своих многочисленных селений. А что до всех остальных прочих, какой автомобилист устрашится таких деревенек, как Рошманиньял, Меймоа или Зава?
Он запускает двигатель, усердно нажимает на разные педали и ставит рычаг переключения передач на первую позицию. Удача ему благоволит. Томаш поворачивает направо и едет по дороге, что ведет к мостам. При въезде на первый мост он раздумывает. Мост деревянный. Он вспоминает про тридцать лошадок. Но неужто двигатель весит как три десятка лошадей? Вспоминает он и отца Улиссеша – его плавание из Анголы к новому месту назначения в миссии на Сан-Томе:
«Плавание по морю есть сущий ад, особенно в зловонной теснотище невольничьего корабля с пятьюстами пятьюдесятью двумя рабами и тридцатью шестью белыми надсмотрщиками на борту. Нас терзают то мертвый штиль, то свирепые бури. Невольники стонут и кричат беспрестанно, денно и нощно. Горячие зловонные испарения, сочащиеся из трюмов, где те помещаются, расползаются по всему кораблю».
Томаш спешит. Его терзают не невольники, но призраки. А кораблю его предстоит совершить лишь три прыжка через реку. Мосты он переезжает под неумолчное громыхание. И боится, как бы не сорваться. Одолев третий мост и выехав на восточный берег реки, он понимает, что так, с неуемно трясущимися поджилками, ехать дальше нет сил. Но раз уж он за рулем, значит, пристало воспользоваться такой возможностью и овладеть премудростями вождения как должно. Томаш останавливается и достает из салона все необходимое. Снова садится за руль и с инструкцией и словарем в руке начинает постигать искусство переключения передач с поочередным нажатием на педали сцепления и газа. Да уж, инструкция – штука толковая, да только знания, которые он черпает из нее, – чистая теория. Применять же их на практике – форменное мучение. Он понимает, что плавно переходить из нейтрального положения, как это называл дядюшка, на первую передачу – дело совсем нелегкое. За остаток дня, с бесконечными резкими рывками и троганьями, он продвигается от силы на пять сотен метров. Машина постоянно ревет, кашляет, трясется и то и дело глохнет. Он клянет все и вся, пока ночь наконец не вынуждает его завалиться на боковую.
В тускнеющем свете, когда холод добирается до него своими пальцами, он ищет утешение в дневнике отца Улиссеша.
«Ежели Империя есть человек, стало быть, рука, держащая цельный слиток золота, – это Ангола, а прочие гроши, что позвякивают в кармане, – это Сан-Томе».
Здесь священник предстает в обличье эдакого обиженного торгаша. Томаш внимательно изучил историю жизни отца Улиссеша, уготованной тому судьбой: священник ступил на землю Сан-Томе между сахаром и шоколадом, в межвременье, когда остров перестал быть ведущим поставщиком сахара – в конце шестнадцатого века, но еще не стал поставлять какао-бобы – уже в наше время, в начале века двадцатого. Остаток его короткой жизни пришелся на начало трехсотлетнего периода оскудения, нищеты, загнивания, отчаяния и упадка – времени, когда Сан-Томе превратился в остров полузаброшенных плантаций, враждующих меж собой хозяев жизни, добывающих большую часть жалких средств к существованию, и без того убогому, посредством работорговли. Остров снабжал невольничьи суда провиантом – водой, древесиной, ямсом, маисовой мукой, фруктами, – а часть невольников использовал для собственных нужд, на неумолимо угасающей добыче сахара, хлопка, риса, имбиря и пальмового масла – при том что белые островитяне и сами промышляли работорговлей. Они и помыслить не могли соперничать с Анголой по части внутренних запасов живого товара, бессчетных и нескончаемых, но за Гвинейским заливом лежал залив Бенин, и он служил им преддверием к побережью, богатому невольниками. Остров Сан-Томе был удобным перевалочным пунктом для кораблей, собиравшихся через Атлантику в ужасное плавание, так называемый Средний Проход[15], – какое-то анатомическое название, думал Томаш, – и вместе с тем потайной дверью в Португальскую Бразилию, вечно охочую до рабского труда. И рабы прибывали – тысячами. «И карман сей глухо звенит оглушенными африканскими душами», – поясняет отец Улиссеш.
Тот факт, что он отплыл на Сан-Томе на невольничьем судне, не был случайностью. Он сам просился окормлять невольников: уделом таких священников было спасать невольничьи души. «Угодно мне служить самым униженным из униженных, тем, о чьих душах Человек забыл, а Господь нет». Отец Улиссеш так объясняет свое новое неотложное назначение на Сан-Томе:
«Полтораста лет тому на остров доставили еврейских детишек в возрасте от двух до восьми лет. И вот из этого зловредного семени произросло растение, пустившее корни по всей земле, оскверняя легковерные души. Посему у меня двойная миссия: вновь обратить души африканцев к Господу, а засим вырвать из их душ цепкие корни иудейства. Все дни кряду я провожу в гавани, точно страж Господень, поджидая невольничьи корабли, дабы принять их щедрый дар. Когда прибывает такой корабль, я всхожу на борт и крещу африканцев, и читаю им из Библии. Все вы чада Господни, повторяю я им неустанно. И по случаю делаю зарисовку».
Таков его долг, и он исполняет его с беспрекословным тщанием – обращает чужеземцев в неведомую им веру на неведомом им языке. В этой части дневника отец Улиссеш предстает типичным священником своего времени, беззаветным слугой Божьим, погрязшим в неведении и презрении. Но все изменится – Томаш знает.
Он засыпает – мысли его путаются. Автомобиль все же – неудобная штука: им неудобно управлять, в нем неудобно спать.
Утром он не прочь помыться, но в салоне ни тебе мыла, ни полотенца. Повозившись, как обычно, с двигателем, он наконец заводит машину. Дорога по безотрадной равнине, меж распаханных полей, ведет в городок Поту-Алту, который на поверку оказывается больше, чем он ожидал. Томаш успел поднатореть в искусстве вождения, но все его хладнокровие и новообретенное умение подвергаются серьезному испытанию, когда вдруг, откуда ни возьмись, со всех сторон появляются люди. Они машут руками, кричат, подходят ближе. Какой-то паренек бежит рядом с автомобилем.
– Привет! – кричит он.
– Привет! – кричит в ответ Томаш.
– Потрясная машина!
– Спасибо.
– Может, тормознете?
– Нет!
– А что так?
– Мне еще ехать и ехать! – кричит Томаш.
Паренек отстает. Но вместо него справа тут же возникает другой малый, готовый продолжать рубленый разговор с Томашом. Но вот и он отстает, а на смену тотчас подоспевает третий. Всю дорогу через Порту-Алту Томаш без умолку говорит, кричит, общаясь с назойливыми чужаками, бегущими вприпрыжку рядом с машиной. На выезде из города он наконец победоносно вскрикивает, радуясь своему водительскому мастерству, но вместо крика у него вырывается глухой сип.
За городом его взгляд падает на рычаг переключения передач. За последние три дня он покрыл немалое расстояние: машина – штука выносливая, вот только плетется как улитка. А в инструкции черным по белому написано, да и дядюшка наглядно это продемонстрировал на улицах Лиссабона: настоящее мастерство вождения можно показать только на высшей передаче. Томаш мысленно проделывает все еще раз. И вот пора решать – да или нет. Педали, кнопки, рычаги – все включается и нажимается, надавливается и толкается в нужной последовательности. Он выполняет все эти действия, не отрывая глаз от дороги, и всякий раз с выдохом. Педаль сцепления подрагивает, словно подавая ему сигнал – работу свою она, мол, сделала и была бы не против, если бы он убрал с нее ногу, что он и делает. В то же мгновение педаль газа как бы приопускается, совсем чуть-чуть, будто, напротив, требуя, чтобы он надавил на нее сильнее. И он давит – сильнее.
Чудовище рвется вперед на второй скорости. Дорога исчезает из-под его колес с таким грохотом, что ему кажется, будто не машина катит по равнине, а равнина откатывается у нее исподнизу, как в процессе опасного трюка, когда из-под расставленной на столе посуды выдергивается скатерть, а самая посуда остается на месте. Равнина исчезает позади со зловещим предупреждением – трюк-де сработает только на бешеной скорости. Так что если раньше Томаш боялся ехать слишком быстро, то теперь ему страшно ехать слишком медленно, потому как если вторая скорость откажет, тогда не только он расшибется насмерть, врезавшись в телеграфный столб, но и весь этот фарфоровый ландшафт разобьется вместе с ним. В этом наваждении он – чашка на дребезжащем блюдце, и глаза его сверкают опаловым блеском китайской глазури.
Покуда Томаш мчит сквозь пространство, неподвижный в стремительном движении вперед, и неотрывно глядит на дорогу, он мечтает о покое, о безмятежных пейзажах, о тихих виноградниках, какие видел вчера, или о морском береге, как тот, о котором часто вспоминает отец Улиссеш, где каждая маленькая волна замирает у его ног в благоговейном оцепенении, точно паломник у заветной святыни. И священник по-своему содрогается, разве нет? Подобно тому, как Томаш трясется в своей адской машине, так, должно быть, временами дрожит и рука отца Улиссеша, когда он перекладывает терзающие его тягостные мысли на страницы дневника.
Священник быстро разочаровывается в Сан-Томе. Здешняя природа ему по душе не больше, чем в Анголе. Та же удушливая растительность, вспоенная нескончаемыми ливнями и дышащая таким же неослабным зноем. В сезон дождей он страдает от этих самых проливных дождей, перемежающихся гнилой духотой; страдает он и от засухи с ее испепеляющей жарой и клубящимся над землей маревом, насыщенным водяными парами. Он горько сетует на парниковый зной, «от которого звенит зеленый лист, а человек гибнет». Добавьте к этому прочие, побочные, невзгоды: зловонные сахароварни, дурная пища, полчища термитов и клещей размером с вишневую косточку, порезанный большой палец на левой руке, который начинает гноиться.
Говорит он и про «бронзовую тишь», замешанную на жаре и влаге, царящих на острове, неотъемлемая часть которой – несчастные туземцы. И эта бронзовая тишь пресмыкается во всех отношениях. Вечно угрюмых невольников заставляют делать все, что угодно, и они все это делают в тиши. Что до европейцев, живущих на Сан-Томе своей жизнью, то их приказания, обыкновенно резкие и раздраженные, возможно, и слышны, но исполняются не сразу, потому как они словно глохнут в этой тиши. Невольники гнут спину на плантациях с утра до ночи, им не разрешено ни петь, ни даже разговаривать; только одна передышка, в полдень, на еду и отдых – а дальше все та же осознанная тишь. Рабочий день заканчивается безмолвной трапезой, одиночеством и тревожным сном. Ночью на Сан-Томе более звучно, нежели днем, и все из-за неугомонных букашек. Потом восходит солнце – и все начинается сызнова, в тиши.
Эта тишь питает только два чувства: отчаяние и злобу. А еще, как выражается отец Улиссеш, «черную оспу и красную лихорадку». (Томашу ох как хорошо знакома эта пара!) Его отношения с местной церковной братией не ладятся. Но природу своей досады он не уточняет. Впрочем, какова бы ни была причина, суть одна: отец Улиссеш становится нелюдимым, все больше и больше. По мере написания дневника упоминания о соотечественниках-европейцах встречаются у него все реже. Тогда о ком же еще он говорит? Социальные, языковые и культурные преграды мешают любым дружеским отношениям между белым, пусть даже священником, и рабами. Рабы приходят и уходят, и с европейцами они обычно общаются широко раскрытыми глазами. Что до местных, вольноотпущенников и мулатов, от общения с европейцами им нет никакого проку. Торговать с ними, работать на них и меньше попадаться им на глаза – самая лучшая линия поведения. Отец Улиссеш сокрушается:
«Лачуги туземцев вдруг исчезают, и круги пустоты тут же обступают одиноких белых людей, к числу коих принадлежу и я. В Африке я один-одинешенек».
Томаш останавливает машину и, оглядывая небо, решает, что вечер обещает быть прохладным и хмурым, а значит, для езды не самым подходящим. Уж лучше переждать, укутавшись в норковое пальто.
На другой день дорога пролегает по малонаселенной местности до самого Косу, где через реку Соррая переброшен мост. Из-под узкого моста спархивают белые и серые цапли, до того мирно стоявшие в воде. Взор ласкают апельсиновые деревья – единственные яркие пятна на фоне серого дня. А Томашу хочется солнца. Только солнце оживляет ландшафт, окрашивая его в натуральный цвет, подчеркивая очертания и наделяя душой.
На подъезде к городку под названием Понти-ди-Сор он останавливает автомобиль. И в город собирается пешком. Размять ноги – милое дело. Но они резко подергиваются. Несут его задом наперед чуть ли не вприпрыжку. Откуда этот неуемный зуд? Зудит все: голова, лицо, грудь. Тело требует омовения. Из-под мышек попахивает, да и от ног тоже.
Томаш входит в город. Люди глазеют на него, на его ходьбу. Он находит аптеку, намереваясь купить лигроина, – по совету дядюшки почаще дозаправляться. И спрашивает у мужчины за прилавком, есть ли у него то, что ему нужно. Приходится перечислить не одно название, прежде чем непрошибаемо серьезный аптекарь наконец кивает и достает с полки стеклянную бутылочку, от силы поллитровку.
– А еще есть? – осведомляется Томаш.
Аптекарь отворачивается и приносит еще пару бутылок.
– Мне бы побольше, если можно.
– Больше нет. Это все, что есть.
Томаш вздыхает. При таком раскладе придется заворачивать во все аптеки между Понти-ди-Сор и Высокими Горами Португалии.
– Тогда беру все три, – говорит он.
Аптекарь несет их к кассе. Покупка – дело самое что ни на есть обычное, но в его действиях заметно что-то странное. Он завертывает бутылки в газету, потом, когда в аптеку входят еще двое, поспешно сует сверток Томашу. Томаш замечает, что аптекарь глядит на него в упор. Его охватывает смущение. Он почесывает висок.
– Что-то не так? – спрашивает Томаш.
– Нет, ничего, – отвечает аптекарь.
Томаш сбит с толку, но молчит. Выходит из аптеки и отправляется на прогулку по городу, примечая дорогу, которой поедет в автомобиле.
Когда он через час возвращается в Понти-ди-Сор, все идет наперекосяк. Он безвозвратно сбивается с пути и чем больше кружит по городу, тем чаще привлекает к себе внимание местных. Толпы осаждают его на каждом углу. За очередным крутым поворотом, пока его руки судорожно бьются с рулевым колесом, мотор снова глохнет.
На Томаша тотчас набрасывается куча любопытных и недовольных.
Несмотря на наседающую толпу, заводится он довольно успешно. И даже чувствует, что может запросто включить первую передачу. Потом переводит взгляд на рулевое колесо и теряется: в какую же сторону его крутить? Силясь перед тем вписаться в поворот и выехать на скрытую за ним улицу, он несколько раз дернул руль, а потом заглох. И теперь пытается рассуждать логически, – туда? сюда? – но решиться все никак не может. На тротуаре рядом с автомобильной фарой он замечает упитанного малого. Одет он получше других. Томаш высовывается из окна и окликает его, стараясь перекричать шум двигателя:
– Простите, сеньор! Будьте добры, не откажите в помощи. У меня тут техническая загвоздка. Боюсь, мне одному, без вас, не справиться. Подскажите, вон то колесо, справа, перед вами поворачивается?
Толстяк отходит назад и глядит на колесо. Томаш обхватывает руль и поворачивает его. Поскольку автомобиль стоит на месте, сделать это совсем непросто.
– Ну как, – громко и тяжело выдыхает Томаш, – поворачивается?
Толстяк выглядит озадаченным.
– Поворачивается? Нет. Если бы поворачивалось, ваша коляска ехала бы.
– Я говорю, может, оно поворачивается в другую сторону?
Толстяк осматривает автомобиль сзади.
– В другую сторону? Нет-нет, туда оно тоже не поворачивается. Оно вообще никуда не поворачивается.
Многие в толпе согласно кивают.
– Простите, я не так выразился. Я не о том, крутится ли колесо само по себе, как у телеги. А о том, – он подбирает нужные слова, – поворачивается ли оно на месте, ну, как балерина, так сказать?
Толстяк в недоумении смотрит на колесо. Потом переводит взгляд на стоящих рядом – слева и справа, но те тоже не решаются высказать свое мнение.
Томаш с неистовой силой снова налегает на руль.
– А сейчас оно движется, хоть немного, хоть чуть-чуть? – выкрикивает он.
Толстяк кричит в ответ, многие в толпе вторят:
– Да! Да! Теперь вижу. Движется!
Чей-то голос кричит:
– Вот и вся загвоздка!
Толпа ликует – люди хлопают в ладоши. Томашу хочется, чтобы они расступились. Его помощник, толстяк, радостно повторяет:
– Оно двигалось, да еще как!
Томаш подзывает его взмахом руки. Толстяк робко подходит чуть ближе.
– Хорошо, хорошо! – говорит Томаш. – Премного благодарен за помощь.
Никакой ответной реакции – толстяк лишь медленно смаргивает и едва уловимо кивает головой. Покойся на его плешивой голове разбитое яйцо, желток дрогнул бы еле-еле.
– Скажите только, – подавшись вперед, решительным тоном продолжает Томаш, – в какую сторону оно поворачивается?
– В какую сторону? – переспрашивает толстяк.
– Да. Оно поворачивает влево, или же оно поворачивает вправо?
Толстяк опускает глаза и заметно сглатывает. По толпе расползается липкая тишина, пока Томаш ждет ответа.
– Так влево или вправо? – допытывается он, наклоняясь еще больше вперед и пытаясь таким образом снискать доверие толстяка.
Желток подрагивает. Возникает заминка – город на мгновение разом затаил дыхание.
– Не знаю! – наконец взвизгивает толстяк, проливая желток.
Он вырывается из толпы, точно пуля. При виде неуклюжего, кривоногого, почтенного, во всех отношениях занятного гражданина, убегающего по улице прочь, Томаш стушевывается. Он потерял единственного союзника.
Между тем кто-то громко выговаривает:
– Может, влево, а может, вправо. Трудно сказать.
Отовсюду доносится одобрительный шепот. Толпа, похоже, берет себя в руки – ее терпимость сменяется раздражением. Томаш убирает ногу с педали – двигатель глохнет. Томаш выбирается из машины, берется за заводную рукоятку и с мольбой обращается к толпе:
– Послушайте, пожалуйста! Машина сейчас тронется – дернется с места! Ради ваших детей, ради самих себя, пожалуйста, расступитесь! Прошу вас! Эта штуковина очень опасная. Отойдите же!
Кто-то из стоящих рядом спокойно обращается к нему:
– Вот идет Деметриу со своей мамашей. Вы же ее не раздавите?
– А кто такой Деметриу?
– Местный дурачок. Мамаша так его приодела, любо-дорого посмотреть.
Томаш оглядывает улицу и видит: занятный гражданин возвращается. Он рыдает – лицо блестит от слез. Его тащит за руку совсем крохотная женщина в черном. В другой руке у нее клюшка. Она не сводит глаз с Томаша. Своей манерой волочь за руку сына она напоминает ретивую собачонку, тянущую за поводок нерасторопного хозяина. Томаш возвращается на водительское сиденье и хватается за рычаги управления. Он все проделывает так, чтобы машина ненароком не рванула вперед. По мере того как он шарит ногами по педалям, автомобиль лишь малость сдвигается с места, точно каменная глыба, из-под которой выбился удерживающий его на месте маленький голыш, но еще не собирается скатиться со клона, грозя сокрушить деревню, что лежит внизу. Толпа тяжело вздыхает и мигом расступается. Томаш сильнее давит на педаль газа. Готовится со всей яростью вывернуть руль в ту сторону, куда подскажет «шестое чувство», лишь бы только в нужную, – и тут же замечает, что руль выворачивается сам по себе. И как будто в правильную сторону. Автомобиль ползет вперед и наконец сворачивает на поперечную улицу. Томаш и дальше глядел бы на происходящее в праведном изумлении, если бы не услыхал лязгающий звук деревянной клюшки, ударившей по железу.
– ТЫ ПОСМЕЛ НАСМЕХАТЬСЯ НАД МОИМ СЫНОМ? – кричит мать Разбитого Яйца. Она влепила по фаре с такой силой, что разбила ее вдребезги. Томаш в ужасе: еще бы, дядюшкино сокровище! – Я ЗАДУШУ ТЕБЯ СВОИМИ РУКАМИ, ОСЕЛ ТЫ ЭДАКИЙ!
Разъяренная мамаша оказалась ростом аккурат вровень с капотом машины. Клюшка взмывает вверх и обрушивается вниз. Мощный удар – на капоте возникает вмятина. Томаш охотно надавил бы на педаль газа сильнее, но кругом все еще полно народу.
– Пожалуйста, умоляю, уберите клюшку! – взывает он.
Но вот в пределах досягаемости мамаши оказывается подфарник. Еще удар. Звон бьющегося стекла – и подфарника как не бывало. Сумасшедшая, чей отпрыск беспрестанно и безутешно всхлипывает, вновь взмахивает клюшкой.
– Я СКОРМЛЮ ТЕБЯ СОБАКЕ, А ПОСЛЕ САМА ЕЕ СОЖРУ! – визжит она.
Томаш резко давит на педаль газа. Женщина чудом промахивается по боковому зеркалу заднего вида – ее клюшка разбивает вдребезги дверное окно кабины. Он и раненый автомобиль с ревом вырываются вперед – и уносятся прочь из Понти-ди-Сор.
Через несколько километров дальше по дороге, возле кустарниковых зарослей Томаш останавливается. Выбирается из машины, осматривает нанесенные ей повреждения. И очищает кабину от осколков стекла. При виде того, что сталось с гордостью его зверинца, дядюшка придет в ярость.
Прямо впереди – деревня Рожманиньял. Должно быть, дыра вроде тех, над которыми он всегда потешался. Ты же не разочаруешь меня, Рожманиньял? – мысленно смеется он. А вдруг эта самая дыра теперь отплатит ему за ехидство? Томаш готовится к очередной ночевке в машине. Только в этот раз поверх дядюшкиного пальто он кутается в одеяло. Достает из кофра бесценный дневник и открывает его наугад.
«Ни солнце, ни сон не приносят облегчения. Пища и человеческое общество тоже. Остается просто дышать, да только и в этом нет отрады».
Томаш глубоко вздыхает, находя отраду там, где ее не мог найти отец Улиссеш. Странно, что столь скорбная исповедь вызывает у него такую радость. Бедный отец Улиссеш! Он был исполнен стольких надежд, когда прибыл на Сан-Томе! Прежде чем недуг и одиночество истощили его силы, он слонялся без всякой цели и наблюдал. И все же блуждал он, похоже, не бесцельно, а для того, чтобы избавиться от отчаяния: уж лучше отчаянно блуждать, чем отчаянно сидеть в непомерно душной хижине. И все, что видел, он записывал.
«Нынче один невольник спросил меня – показал знаками, – верно ли, что башмаки у меня из кожи африканца. Они такого же цвета. И что сталось с ним самим – его съели? А кости истерли в полезный порошок? Иные из африканцев считают нас, европейцев, людоедами. Они так думают потому, что не верят в пользу человека применительно к работам в поле. По их опыту материальная часть человеческой жизни – то, что мы называем заработком, не требует больших усилий. Чтобы ухаживать за огородом в тропиках, не нужно ни много времени, ни много рук. А вот с охотой все куда сложнее: это дело объединенное, оно приносит в некотором роде удовольствие, и потому на него никаких сил не жалко. Тогда к чему белым людям столько невольников, ежели у них нет никаких иных тайных причин, кроме полевых работ? Я заверил того невольника, что башмаки у меня вовсе не из кожи его сородича. Не знаю, сумел ли я его переубедить».
Томаш догадывается о том, чего не знают ни рабы, ни отец Улиссеш: тростниковые плантации в Бразилии, а позднее хлопковые поля в Америке нуждаются бесконечном притоке все новой рабочей силы. Человеку, мужчине или женщине, наверное, нет нужды ломать спину ради того, чтобы прокормиться, да только шестеренки в запущенном механизме должны крутиться бесперебойно.
«Откуда бы они ни были – с какой земли, из какого племени, – невольники вскоре оказываются в одинаковом безотрадном положении. Они делаются равнодушными, вялыми, словно деревянными. И чем пуще усердствуют надсмотрщики, силясь привести их в чувство щедрыми плетьми, тем крепче становится их безразличие. Из множества признаков безысходности, выказываемых невольниками, больше всего меня изумляет их склонность к геофагии[16]. Они скребут землю, точно псы, скатывают ее в комья, суют их себе в рот, жуют и проглатывают. Я все никак не решу, по-христиански ли это – есть гумус Господень».
Томаш поворачивает голову и оглядывает простирающиеся кругом поля, которые погружаются во тьму. Мыкать горе на земле – и потом ее есть? Дальше отец Улиссеш пишет, как он сам отведал ее:
«Тьма удушливыми щупальцами расползается внутри меня, сдавливая душу. Я медленно жую. На вкус не дурно, только неприятно на зубах. Долго ли еще, Господи, долго ли еще? Мне худо, а по глазам других я вижу, что дело вовсе дрянь. Добраться до селения – сущая мука. Я хожу к заливу и гляжу на море».
Какая бы немощь ни одолевала отца Улиссеша – а в Африке европейцев, к несчастью, подстерегали самые разные недуги: малярия, дизентерия, заболевания органов дыхания и сердца, малокровие, гепатит, проказа и, среди прочего, сифилис, не считая дурной пищи, – она медленно и мучительно убивала его.
Томаш засыпает с мыслями о сынишке и о том, как иной раз ночью, погостив вечером в доме у дядюшки, он укладывался спать в комнате Доры, на половине для слуг. Дора уже спала после долгого рабочего дня. Тогда он брал спящего Гашпара на руки и качал его. Странное дело, они оба спали как убитые. А он качал обмякшего в его руках сынишку и тихонько что-то напевал ему, втайне надеясь, что тот проснется и они во что-нибудь поиграют.
На другое утро он просыпается оттого, что зудят голова и грудь. Он поднимается и методично почесывается. Под ногтями – траурная кайма. Вот уже пять дней, как он не мылся. Нужно поскорее найти гостиницу с мягкой постелью и горячей ванной. Тут он вспоминает, что впереди деревня, над которой он потешался, а ему предстоит через нее ехать. Страх перед Рожманиньялом в тот день заставляет его переключиться на третью передачу – предел механических возможностей для автомобиля. Не успев тронуться с места, он переводит машину на вторую скорость. Без всякого зловещего колебания он повторяет поочередные действия руками и ногами и толкает рычаг переключения передач дальше, чем делал это раньше. Шкала на приборном щитке мигает, словно в изумлении. Автомобиль перевоплощается в саму скорость. На третьей передаче двигатель внутреннего сгорания изрыгает такой огонь, что превращается в двигатель внешнего сгорания и грохочет на всю округу, точно мчащийся по небу метеор. И все же, как ни странно, третья передача не такая шумная, как вторая: звук как будто отстает от машины. Вокруг водительской кабины завывает ветер. Машина несется с такой скоростью, что телеграфные столбы вдоль дороги смещаются, сближаясь друг с другом, и уже больше походят на зубья расчески. Что до пейзажа вокруг, его совсем не разглядеть. Он мелькает подобно перепуганному рыбьему косяку. В туманном царстве Высокой Скорости Томаш сознает только две вещи: ревуще-грохочущий каркас автомобиля и уходящую вдаль дорогу, что завораживает своей прямизной и потому похожа на леску с крючком, на который он попался. Хотя кругом – неоглядные просторы, разум настолько сосредоточен на дороге, что Томашу кажется, будто он мчится сквозь туннель. В изумлении, с трудом соображая в окружающем грохоте, он, однако, вспоминает про смазку. Ему представляется, что какая-нибудь деталь двигателя пересыхает, нагревается и вспыхивает, а следом за тем на воздух взлетает целиком вся машина, охваченная сине-оранжево-красным пламенем полыхнувшего лигроина.
Но ничто не вспыхивает. Автомобиль только дребезжит, рычит и с невероятной жадностью пожирает дорогу. Если в Рожманиньяле и есть чертовы жители – или даже если в Рожманиньяле живут сами ангелы, – он не замечает ни одного. Деревня исчезает в мгновение ока. Он видит человека – мужчину? женщину? – тот поворачивается, глядя ему вслед, и мигом пропадает.
Через несколько километров за Рожманиньялом он настигает почтовую карету. А ведь дядюшка предупреждал о таком, верно? Томаш притормаживает, думая держаться сзади, пока не появится объездной путь или карета не свернет в сторону. Но загородная дорога пуста, а терпение его небезгранично. Тридцать лошадок, бьющих копытами в чреве его машины, не идут ни в какое сравнение с четверкой лошадей, цокающих впереди кареты.
Томаш давит на педаль газа. Выдохнув, кашлянув и вздрогнув, машина цепляется за дорогу с еще большей решимостью. Он чувствует, как руки сами тянутся вперед, в то время как голова откидывается назад. Расстояние между автомобилем и каретой сокращается. Томаш уже различает чью-то голову над крышей кареты спереди. Ему машут рукой. Спустя мгновение карета, только что ехавшая вроде как с правой стороны дороги, вдруг выкатывается на середину. Но разве дядюшка не предупреждал, что почтовые кареты горазды выписывать самые непредсказуемые кренделя? Но этот крендель Томаш расценивает как знак учтивости: карета-де сторонится, пропуская его вперед, как хорошо воспитанный добропорядочный мужчина, позволяющий даме первой пройти в дверь. Приветственные взмахи лишний раз подтверждают его догадку. Томаш бросает автомобиль вперед. И протискивается в просвет справа от кареты. Машина дребезжит всем своим железным естеством. Пассажиры в карете, которую широко ведет из стороны в сторону, липнут к окошкам, выгибают шеи, силясь получше его разглядеть, и на их лицах читаются самые разные чувства: и любопытство, и удивление, и страх, и недовольство.
Томаш замечает двух возниц – в некотором смысле своих собратьев – и чуть отпускает педаль газа. Возницы и он должны обменяться приветствиями, как капитаны кораблей на пересекающихся курсах. Во время своих изысканий он перечитал кучу судовых журналов разных капитанов. В том, как карета с автомобилем покачиваются взад и вперед, переваливаясь одновременно с боку на бок, есть что-то от мореходства. Томаш вскидывает руку в приветственном жесте, лицо его расплывается в улыбке.
Он глядит на возниц – и не верит своим глазам. Если лица пассажиров выражают целую гамму чувств, то на лицах возниц читается только одно выражение: лютая ненависть. Человек, еще недавно повернувшийся к нему и помахавший рукой – хотя, быть может, на самом деле он грозил кулаком? – теперь рявкает и рычит на него по-собачьи и всем своим видом показывает, что готов перепрыгнуть с козел на крышу машины. А его напарник, что правит каретой, так и кипит от злобы. Лицо краснющее от ярости, рот распахнут в неумолчном крике. Он размахивает длинным кнутом, подгоняя и подгоняя лошадей. Кнут взмывает вверх, сворачивается в воздухе кольцом, затем обрушивается вниз и распрямляется с резким, хлестким щелчком, похожим на хлопок ружейного выстрела. Томаш только сейчас понимает, что припустил своих лошадок громоподобным галопом. Он чувствует, как их копыта сотрясают землю у него под ногами. Несмотря упругость резиновых колес автомобиля и смягчающее действие подвесных рессор, от тяжелого, бесподобного топота его лошадок у него дребезжат все кости, а разум цепенеет в благоговейном ужасе. Выражаясь фигурально, он неспешно обгоняет почтовую карету в точности, как резвый ходок обходит на улице престарелого пешехода, причем делает это с такой беспечной легкостью, что успевает слегка коснуться своей шляпы и приветствовать пешехода добрым словом. Но, с точки зрения какого-нибудь зеваки, стоящего на обочине, он и почтовая карета мчатся сквозь пространство с поистине невероятной скоростью, как если бы престарелый пешеход и резвый ходок шли не по улице, а передвигались по крышам двух скоростных поездов, несущихся по двум параллельным железнодорожным путям.
Тишина, окутавшая его оттого, что он весь напрягся и сосредоточился, вдруг взрывается дробным стуком лошадиных копыт, скрипучим повизгиванием раскачивающейся почтовой кареты, истошными воплями возниц, пронзительно-тревожными вскриками перепуганных пассажиров, резким хлестом кнута и ревом автомобиля. Томаш давит на педаль газа со всей силой, на какую только способен. Автомобиль вырывается вперед – но медленно.
Следом за тем его бьет по ушам новый звук – пронзительно хлесткий. Возница перестал охаживать кнутом лошадей и теперь стегает им по крыше автомобиля. Томаш кривится, словно кнут хлещет по его спине. Второй возница вскидывает руки. Над его головой возникает деревянный, окованный железом сундук. По всему видно – тяжелый. Глупец швыряет его в автомобиль – тот обрушивается на крышу, точно бомба, после чего со скрежетом (и со всем своим содержимым) скатывается с нее. Лошади в каком-нибудь метре от Томаша вздымают клубы пыли и изрыгают горы пены. Глаза у них вылезли из орбит от ужаса. Они жмутся все ближе. Возница направляет их на автомобиль. «Вот мне и конец», – думает Томаш.
Силы лошадей иссякают, как только автомобиль набирает предельную скорость. Машина решительно устремляется вперед – Томашу удается выровнять ее и снова выкатить на середину дороги, подрезая правую переднюю лошадь в упряжке так, что в боковое зеркало ему видно, как она мигом отбрасывает голову назад, чтобы ненароком не стукнуться ею о задок кабины.
Едва он вырывается вперед, почтовая упряжка сбивается с хода и застывает как вкопанная. Возницы позади неугомонно кричат. В боковое зеркало Томашу видно, как пассажиры выскакивают из кареты и, размахивая руками, перекрикиваются с возницами и меж собой.
Встреча с почтовой каретой выбивает его из колеи – хочется остановиться, но Томаш боится, как бы карета не настигла его, и едет дальше. Как только его злополучный корабль устремляется вперед, Томаш снова сосредоточивает все внимание на дороге. В животе у него штормит, как на море. От нестерпимого зуда нет никакого спасения.
Томаш обдумывает свое положение. Сколько уже дней он за рулем? Он задумывается, подсчитывает. Раз, два, три, четыре – четыре ночи. Четыре ночи и пять дней дают в сумме десять дней. Только десять дней. А он все еще никак не выберется из провинции Рибатежу – и за все это время осилил лишь четверть пути до места назначения. Откуда он взял, что ему удастся управиться со всеми делами за несколько дней? И смех и грех. Дядюшка обещал ему ковер-самолет – и он клюнул на приманку. Главный смотритель Музея древнего искусства не больно обрадуется, если он, Томаш, опоздает на работу. Пропусти он хоть один день, ему без лишних слов укажут на дверь. Ведь он живет в мире труда и являет собой мелкую, вполне заменимую детальку. А его отношения с главным смотрителем, заведующими отделами и прочим музейным начальством складываются не лучше, чем у отца Улиссеша с епископом и островным духовенством. Как же приятно трудиться, когда твои сослуживцы не едят поедом друг дружку, а сидят себе посиживают в мрачном одиночестве! Временами ему кажется, что беды, пережитые отцом Улиссешом, во всем сродни невзгодам, что он, Томаш, пережил у себя в музее. Та же смертная скука. Та же отчужденность в работе, усугубленная натянутыми отношениями с сослуживцами. То же болезненное состояние, в его случае – от нескончаемо долгих дней, проведенных в сырых, затхлых подземных хранилищах или на дышащих жаром, пыльных чердаках. Та же удушающая мука. Те же неуклюжие попытки осмыслить происходящее.
«На плантациях, разбитых в самых отдаленных уголках, я натыкаюсь на небольшие алтари. Они грубо вытесаны либо из дерева, либо из обожженной глины; на них лежат раковины и сгнившие фрукты. Если их разрушают – а делаю это не я, – они появляются вновь, но уже в других местах. Сии находки радуют мне глаз. У себя в деревнях невольники занимаются разнообразными ремеслами, а здесь их используют лишь на принудительных работах в полях. Они не обрабатывают ни железо, ни дерево, не плетут корзин, не мастерят украшений, не размалевывают себе тело, не поют песен – они не делают ничего. На этом острове, поросшем буйной, зловредной растительностью, они такие же бесплодные, как мулы. Только в тех алтарях я угадываю следы их былой жизни, исполненной плодовитости».
Томаша одолевают сомнения. А как насчет «плодовитости» его собственных изысканий? Ему кажется, что дар отца Улиссеша мог бы понравиться Гашпару, учитывая его детскую восприимчивость, но он не уверен, пришлось бы это по душе Доре. Его всегда мучило, что в своем стремлении служить истине и правде он мог чем-то ее огорчить. Но ведь сокровище существует! И он всего лишь раскрывает сокровенное. Мысленно он просит, умоляет Дору о прощении. Это возвеличивание всякой твари, любовь моя. Нет-нет, здесь нет никакого кощунства. Но он знает: Дора не поверила бы ему, и спорить тут нечего… Он не смеет остановить машину и, обливаясь слезами, едет дальше и дальше.
На подъезде к деревне Аталая Томаш наконец останавливается. И взбирается на крыло, чтобы оценить ущерб, причиненный крыше автомобиля. Какой ужас! От сундука – огромная вмятина. Да и кнут в руках умельца сделал свое гнусное дело. Ярко-бордовая краска сплошь в поперечных трещинах и уже отслаивается широкими струпьями. Заглянув в салон, он видит, что кедровая обшивка потолка треснула и торчит концами внутрь, точно сломанная грудная клетка.
В Аталаю за лигроином Томаш отправляется пешком. И находит лавчонку, где торгуют всякой всячиной. Он перечисляет различные виды топлива, хозяйка лавки кивает и выносит одну-единственную бутылочку. Он просит еще. Хозяйка удивляется. А что тут такого! На капле-другой животворного автомобильного пойла далеко не уедешь. Автомобиль – ненасытный обжора. И Томаш получает все, что у нее есть: пару бутылок.
Вернувшись к автомобилю и вскормив голодному зверю весь лигроин из бутылок, добытых в такой дали, он невольно обращает внимание на бутылочные этикетки. И начинает читать. «Средство от вшей и блох! Эффективно и самым беспощадным образом уничтожает всех паразитов, а также их гниды, – гласит надпись на этикетке. – Использовать без ограничений. Внутрь не употреблять. ДЕРЖАТЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ ОГНЯ».
Отчего же хозяева лавок с аптекарями даже не полюбопытствовали, зачем ему столько отравы? То, что он приобретал как топливо для автомобиля, они сбывали как средство борьбы с паразитами. Они, верно, думали, что он собирается воевать с полчищами вредителей, сонмом вшей и блох и прочими паразитами, копошащимися у него на голове. Неудивительно, что они поглядывали на него искоса. Так, стоп! Ну да. Ну конечно. Иного объяснения быть не может. И хозяева лавок с аптекарями недалеки от истины. Ведь у него все чешется с головы до ног – до умопомрачения, поскольку он буквально кишит полчищами вредителей, сонмом вшей и блох и прочими паразитами, копошащимися у него на голове.
Томаш глядит на другую руку. Бутылка, которую он держит вверх дном, булькнув напоследок, опорожнилась. Она последняя. А сколько же их было? Штук пятнадцать. Запас топлива имелся у него еще перед дорогой – бутылки звякали по всему салону, и это не считая полного бочонка. И вот не осталось ничего, а раздобыть больше негде. Он хватается за маленькое круглое отверстие топливного бака, словно собираясь вытащить его. Не получается. Между его нестерпимыми страданиями и облегчением – узкие промежутки, и шире они не становятся.
Он размышляет: Кто же прикасался ко мне? Кто трогал за одежду? От кого эта зараза? Все могло произойти в Повоа-ди-Санта-Илье или в Понти-ди-Сор. И там, и там он общался с людьми – соприкасался с ними, – когда пытался вырваться из обступавших его машину толп.
Томаш начинает судорожно чесаться.
Небо темнеет. Начинается дождь, и он прячется в автомобиле. Переднее стекло покрывается водяными полосами и крапинками – дорогу сквозь них не различить. Дождь становится все сильнее, превращаясь в равномерный поток, и Томаш задумывается: а ведь дядюшка ни словом не обмолвился о том, может ли машина ехать в дождь. Он не верит, что она удержится на дороге. И решает подождать, когда закончится дождь.
Сумерки, а затем тьма расползаются нездоровыми испарениями. Во сне на него со всех сторон несутся галопом почтовые кареты. Холодно. Ноги его торчат из водительской кабины – и мокнут под дождем. Время от времени он просыпается от зуда.
Дождь не перестает и утром. У Томаша зуб на зуб не попадает от холода – ополоснуться целиком нет ни малейшей охоты. Он лишь смачивает руки и умывает лицо. Отцу Улиссешу на острове тоже докучал дождь. И поливал он там так, что впору было с ума сойти. Разве сравнить с легкой европейской изморосью?
На пустынной дороге попадаются лишь случайные крестьяне – они непременно останавливаются и подолгу мелют языком. Они бредут вдоль дороги – кто в одиночку, кто тащит за собой осла, а некоторые, мелкие землевладельцы, гнущие спину на своих крохотных наделах, вырастают словно из-под земли. И дождь, похоже, им нипочем.
Что один крестьянин, что другой – все одно. Они с любопытством осматривают колеса автомобиля и нахваливают их за изящную форму и малую величину. Они пялятся в боковые зеркала заднего вида – и нахваливают за хитроумное приспособление. Они разглядывают механизмы управления – и пугаются. Они смотрят на двигатель – и теряются в догадках. И каждый воспринимает все в целом как некое диво.
1
Невольничий и Золотой берега – участки побережья Гвинейского залива в Западной Африке.
2
Лагос – столица Нигерии, на северном побережье Гвинейского залива.
3
Канна – африканское парнокопытное животное семейства антилоп.
4
Гну – крупное животное семейства полорогих, обитающее в Южной и Юго-Восточной Африке.
5
Saudade (порт.) – грусть, печаль, тоска.
6
Лигроин – вид топлива, получаемый при прямой перегонке нефти; широко использовался до появления бензина и дизельного топлива.
7
Зенон Элейский (ок. 495–430 до Р.Х.) – древнегреческий философ, остро критиковавший учение своего учителя Парменида о невозможности движения и множественности вещей: так, он доказывал, что принятие опыта, множественности, движения и делимости приводит к неразрешимым противоречиям.
8
Игра слов: по-английски крутящий момент – torque, и точно так же пишется первая часть фамилии испанского инквизитора Томаса де Торквемады (1420–1498) – Torquemada.
9
Герои восточной сказки «Али-Баба и сорок разбойников» из сборника «Тысяча и одна ночь».
10
Тежу – река в Испании и Португалии, в устье которой расположен Лиссабон.
11
После разрушительного землетрясения 1 ноября 1755 года под руководством маркиза Себастьяна Жозе Помбала (1699–1782) ветхий средневековый Лиссабон превратился в одну из самых современных и стильных столиц Европы.
12
Vivace (муз.) – оживленно.
13
Presto (муз.) – быстро.
14
Adagio (муз.) – медленно, спокойно.
15
Средний Проход – путь невольничьих судов из Африки в Вест-Индию.
16
Геофагия – патологическое влечение к поеданию земли.