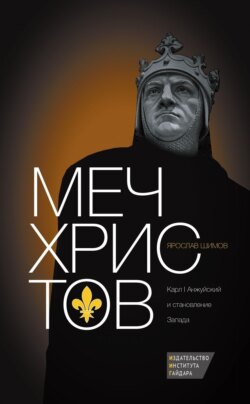Читать книгу Меч Христов. Карл I Анжуйский и становление Запада - Ярослав Шимов - Страница 8
Пролог: Европа, Карл, XIII век
Роль четвертая: крестоносец-колонизатор
ОглавлениеПеремены в христианской Европе, которые принес XIII век, не исчерпывались изменением роли церкви. Развивалась и сама Европа – как пространство общей культуры, религии, социальных и политических институтов, наконец, как единый рынок, пронизанный торговыми путями, пестрящий россыпью растущих городов… «Мир раннего Средневековья был миром многообразия локальных культур и обществ. История XI, XII и XIII столетий – о том, как на смену этому многообразию во многих отношениях пришло единство»[32]. Чтобы оценить масштабы этого процесса, придется мысленно переместиться еще на пару столетий назад.
В Х и начале XI века Западная и Центральная Европа, за исключением средиземноморских областей, берегов Рейна, Фландрии, севера Франции и некоторых районов Англии, оставалась слабо освоенным и по большей части довольно диким пространством. Попытка Каролингов возродить европейское единство, воссоздав подобие былой универсальной империи, Roma Aeterna[33], оказалась недолговечной, хотя и оставила заметный след в сознании западных христиан и их социальных практиках. Отдельные части европейского пространства были очень слабо связаны между собой, а путешествие, к примеру, из Лондона в Рим или из Парижа в Константинополь представляло собой многомесячное и опасное предприятие. Западноевропейский мир был удручающе беден; византийские и арабские хронисты пишут в этой связи о «западных варварах» и их примитивной жизни. Скажем, византийский император Никифор II, известный своим полководческим искусством, в 966 году высказал прибывшему в Константинополь епископу Кремоны Лиутпранду такое мнение о качествах западного войска: «Воины твоего государя[34] не умеют ни ездить на конях, ни вести пеший бой. Их длинные копья и огромные щиты, тяжелые панцири и каски мешают им в сражениях… Им мешает их обжорство, их бог – чрево, они пьяницы и трусы!»[35]
За два с половиной последующих столетия ситуация изменилась кардинально. Христианский Запад перешел в военное, экономическое и культурное наступление, хотя процесс этот был стихийным и в целом никем не координировался. Почву для начала этого наступления создало прекращение опустошительных набегов агрессивных иноземцев. Вначале венгры, этот бич Запада в Х веке, после ряда поражений от войск германского императора (зря все-таки издевался над ними его византийский коллега!) осели на плодородных равнинах древней Паннонии. Там при короле Стефане (Иштване) Святом они приняли христианство и вскоре создали державу, которая успешно боролась со слабеющей Византией за доминирование на юго-востоке Европы. Затем норманны, грозные скандинавы, не знавшие, если верить хронистам IX – Х столетий, «ни Бога, ни милосердия», понемногу вписались в конгломерат западноевропейских княжеств, обосновавшись в той области на севере Франции, за которой закрепилось их имя – Нормандия.
Осев там, это беспокойное племя через некоторое время продолжило экспансию. Одна группа нормандских рыцарей, искателей земель и приключений, обосновалась на юге Италии, где постепенно создала одно из самых любопытных государств тогдашней Европы – Сицилийское королевство. Оно пестрело многообразием культур, языков и религий и в то же время было весьма крепко спаяно жесткой властью своих нормандских повелителей. Другая группа, под началом Вильгельма, бастарда из нормандского герцогского рода, переправилась в 1066 году через Ла-Манш и завоевала Англию. Если прибавить к этому активное участие норманнов (или нормандцев, как некоторых из них будет правильнее называть с момента обретения ими во Франции «второй родины») в крестовых походах на Ближнем Востоке и в Испании, а также в делах Византии и русских княжеств, то не будет преувеличением сказать, что в XI веке нормандцы взяли Европу в кольцо. При этом незаметно для самих себя они стали неотъемлемой частью той западнохристианской Европы, грозой которой еще недавно являлись.
Но не нормандцами едиными и их новыми владениями прирастала тогдашняя Европа. В XII–XIII столетиях происходит перелом в многовековой борьбе христиан и мусульман на Пиренейском полуострове: христианские королевства и княжества – прежде всего Кастилия, Леон, Наварра и Арагон – все решительнее теснят на юг арабских эмиров, некогда переходивших со своими войсками через Пиренеи. Одновременно на другом конце Европы, в населенных славянами и балтийскими племенами областях Восточной Европы, развивают свой Drang nach Osten немецкие государи и рыцарские ордена. Они действуют в одних случаях огнем и мечом, в других – с помощью дипломатии и брачных союзов (многие знатные прусские и бранденбургские роды – потомки смешанных германо-славянских браков) и почти везде используют экономическую заинтересованность немецких крестьян и купцов, которые тысячами переселяются на слабозаселенные берега Одры, Вислы, Влтавы и Мазурских озер. Так формируется та часть Центральной и Восточной Европы, чей многонациональный и мультикультурный славяно-угро-балто-германский характер оставался неизменным до середины ХХ века, несмотря на частые перемещения государственных границ.
Наконец, на юге Европы, в ее средиземноморской колыбели, тоже произошел поворот военной и экономической экспансии. Арабские нападения на побережье Италии, юга Франции и Балкан сменились контрвыпадами европейцев, атаковавших арабские города Северной Африки. Завоевание Сицилии нормандцами во второй половине XI века и постепенное отступление Византии, которая потеряла владения на юге Италии и испытывала все большее давление на свои северо-западные границы на Балканах, означали окончательное утверждение западных христиан в Центральном и Восточном Средиземноморье. Оно сопровождалось впечатляющей экспансией итальянских торговых городских республик – Венеции, Генуи, Пизы, Амальфи, чьи флоты доминировали в Средиземном море и чьи колонии распространились в XII–XIII столетиях от Константинополя и Иерусалима до Каффы (Феодосии) в Крыму и Таны в районе нынешнего Азова. Наконец, крестоносная эпопея принесла латинянам, как их называли греки, недолговечное господство над рядом областей Ближнего Востока, а после 1204 года – над столицей восточного христианства, Константинополем, и рядом земель материковой и островной Греции.
Но именно во времена Карла Анжуйского этот расширяющийся во все стороны Запад наталкивается на границы своей экспансии. С Востока накатываются две мощные и опасные волны воинственных кочевых народов – монголов и турок-сельджуков. Первая из них затронула Запад лишь отчасти: разгромив в 1242 году Венгрию, монголы по внутренним причинам повернули обратно, прервав поход «к последнему морю». Со второй волной пришлось вплотную столкнуться крестоносцам на Ближнем Востоке – и в конце концов проиграть. Крепость Сен-Жан-д’Акр, последний оплот латинян в Святой земле, пала в 1291 году, через шесть лет после смерти Карла, который успел побывать, пусть и, скорее, номинально, королем Иерусалимским. Правда, сам Иерусалим к тому времени давно находился в руках мусульман, а претензии Карла на иерусалимскую корону были признаны далеко не всеми европейскими дворами.
Во многом решающим становится XIII век для взаимоотношений католического Запада с православным Востоком – прежде всего с Византийской империей. Раскол западного и восточного христианства принято относить к 1054 году, когда произошел конфликт между патриархом Константинопольским Михаилом Керуларием и прибывшими во «второй Рим» папскими легатами. Его итогом стало взаимное отлучение глав католической и православной церквей. В действительности это событие вряд ли имело столь роковое значение, какое ему часто приписывают. Впоследствии обе церкви не раз предпринимали попытки сближения, которые неоднократно заканчивались соглашениями об унии – каждый раз, правда, недолговечными. Ближе всего к восстановлению единства христианской церкви стороны подошли в 1270-е годы, во время так называемой Лионской унии (к этим событиям мы обратимся в главе IV). Однако непростая история взаимоотношений греческого и латинского мира, прежде всего разгром Константинополя крестоносцами и полвека существования там «Романии», или Латинской империи, сделали уровень взаимного недоверия столь высоким, а политические интересы сторон – столь разными, что надежды на объединение рухнули очень скоро.
Ретроспективно эти события можно назвать трагическими для всего христианского мира. Сохранявшийся раскол отделил Византию от Запада. А между тем после ряда поражений греков на Востоке лишь ненавистные латиняне могли быть для слабеющей империи ромеев единственным потенциальным источником военной и экономической поддержки в борьбе с турецким нашествием. В заметной мере события XIII века, когда пути католичества и православия разошлись окончательно, предопределили и дальнейшую трагическую судьбу Византии, и последующие несколько веков борьбы Запада с Османской империей, когда чаши весов не раз склонялись то на одну, то на другую сторону. Результатом всех этих процессов стало то, что «грандиозная цезура, разрыв между Восточной и Западной Европой, который ощущался со времен Римской империи, в Средние века получил новое обоснование – это был разрыв лингвистический, религиозный и политический»[36].
Борьба греков и латинян на Балканах и в Восточном Средиземноморье ослабляла обе стороны, делая их – в первую очередь византийцев – беззащитными перед угрозой с Востока. Важной частью этой борьбы стало противостояние Карла Анжуйского, к 1270 году прочно утвердившегося на троне Неаполя и Сицилии, с византийским императором Михаилом VIII Палеологом. Последний изгнал в 1261 году латинян из Константинополя, восстановив тем самым, по крайней мере формально, прежнее величие Византии. Уже средневековые хронисты – большинство из них, правда, было по разным причинам враждебно настроено к Карлу, – а вслед за ними и многие современные историки приписывают Карлу Анжуйскому планы создания некоей колоссальной империи в Восточном Средиземноморье. В ее состав, согласно этой версии, вошли бы, помимо юга Италии, восстановленная «Романия», включающая Константинополь и ряд балканских провинций, земли в Северной Африке (куда был направлен последний крестовый поход Людовика Святого в 1270 году) и владения крестоносцев в Святой земле. Как отмечал греческий летописец XIV века Никифор Григора, «Карл, ведомый не малым, но великим честолюбием, посеял в своем разуме, как семя, решимость овладеть Константинополем. Он думал, что, став хозяином [этого города], он восстановит, можно сказать, всю империю Юлия Цезаря и Августа»[37].
К вопросу о том, был ли Карл Анжуйский в действительности таким мегаломаном, мы вернемся в соответствующем месте. Пока же ограничимся двумя замечаниями. Во-первых, став повелителем юга Италии, Карл не мог не руководствоваться той же военно-политической логикой, что и его предшественники на сицилийском троне – нормандцы из рода Отвилей, а затем Гогенштауфены. Эта логика подразумевала создание опорных пунктов на Балканах и максимальное ослабление Византии, которая никогда не забывала о своем былом господстве в нижней части «итальянского сапога». Будучи честолюбивым государем, Карл стремился использовать каждую возможность для расширения своих владений. Но можно ли с уверенностью говорить о том, что в его планы входило покорение всего востока Средиземноморья? По мнению современного биографа Карла, «причиной его кампаний 1280 и 1281 годов против Михаила VIII Палеолога была решимость защитить Ахайю и Дураццо»[38] – те самые ранее занятые им опорные пункты на Балканах. Константинополь оставался для Карла манящей целью, но достижение этой цели ставилось им в зависимость от множества других обстоятельств, о которых нам предстоит поговорить позднее.
Во-вторых, действия Карла Анжуйского трудно понять, не учитывая одно обстоятельство: он был не просто королем, а королем-крестоносцем. Опыт участия в первом крестовом походе Людовика Святого в 1248–1250 годах наложил отпечаток на всю его деятельность. В какой-то мере Карл, как и его старший брат, являл собой ходячий анахронизм в эпоху, когда крестоносный энтузиазм шел на убыль, а вместо «мечты найти свою долю за синими волнами Средиземного моря, у подножия Ливанских гор, вырастало решение ковать ее дома, в повседневном труде и борьбе за переустройство жизни»[39]. Однако Карл нашел «свою долю» так, как находили ее крестоносцы предыдущих поколений, – хоть и не в Святой земле, а на юге Италии, но в борьбе с Гогенштауфенами, которых церковь официально провозгласила своими врагами, в походе, приравненном к крестовому.
«Очарование карьеры Карла, – отмечает его биограф, – по крайней мере отчасти заключено в том ощущении, которое она вызывает, – возникающего напряжения между замыслом и действием»[40]. Если для его старшего брата, Людовика Святого, политика являлась способом воплощения в жизнь принципов и основ христианской веры, которым этот король был предан всей душой, государство и церковь – инструментами такого воплощения, а царствование – своего рода духовной миссией, то мировоззрение Карла было более простым и безыскусным, свойственным рыцарям той поры: «Отождествление служения Всевышнему со службой сильному, щедрому и благородному феодальному сеньору, поклонение Деве Марии, понимаемое как служение даме сердца в ее небесном подобии, поиск Бога через паломничество в Иерусалим, готовность к мученичеству, а также верность товарищам по оружию и уважительное отношение к неприятельским воинам… – вот [идейные] основы рыцарства эпохи крестовых походов…»[41]
В отличие от брата, Карл всегда видел в крестовых походах (к которым приравнивался и его собственный поход за сицилийской короной) прежде всего политический феномен, пусть и освященный религиозными целями. Людовик IX искал у Бога ответа на мучившие его вопросы, жаждал вдохновения и мира – через поход против врагов христианства, то есть через войну, но для католика того времени в этом не было противоречия. Карл Анжуйский был далек от столь высоких идеалов, он вполне удовлетворялся своей миссией gladius Christi, меча Христова, которая позволяла ему связать воедино собственные политические цели, волю римской церкви и замысел Провидения. Старший брат пытался придать новый смысл и новое содержание роли монарха и самому королевству, доставшемуся ему от предков. Младший для начала должен был завоевать свое королевство, а потом отстоять его. При всем различии этих задач обе они были двумя сторонами единой исторической миссии – завершения строительства средневековой Европы.
Сицилийский поход Карла Анжуйского (1265–1266), равно как и его участие в двух крестоносных эпопеях (1248–1250 и 1270), дали ему возможность стать одним из видных участников процесса оформления Запада, который пришелся на XIII век. Если присмотреться повнимательнее, станет ясно, что рубежи западного мира в Европе с тех пор изменились не слишком сильно. Границы обществ, которые принято считать западными, с соседними, порой близкими, но все же культурно и исторически отличными обществами и сегодня проходят примерно там, где остановилась экспансия западного христианства в XIII веке. Это (с севера на юг) балтийские страны, Польша, Венгрия, Балканы и северное побережье Средиземного моря. Карл Анжуйский оказался одной из последних исторических фигур, определявших, где будут стоять эти незримые пограничные столбы Запада, – хотя, конечно, не подозревал об этом.
* * *
Итак, французский принц, европейский государь, католический воин и крестоносец, определявший границы Запада на исходе Средневековья. Все эти роли совместились в рамках одной беспокойной жизни продолжительностью в неполных 60 лет. Понять, как нашему герою удалось сыграть их и насколько успешен был он в каждой из своих ипостасей, невозможно вне более широкого контекста. А это значит, что биография Карла Анжуйского, чья жизнь оказалась связана с несколькими крупными историческими процессами, не обойдется без их хотя бы краткого описания. И поэтому каждая глава этой книги, посвященная одному из этапов жизни короля Карла, открывается «картиной» – небольшим обзором того исторического процесса, в котором нашему герою довелось участвовать в той или иной из своих жизненных ролей. Для удобства и наглядности каждая «картина» сопровождена краткой хронологией, облегчающей ориентацию во множестве давних событий, явлений и лиц.
32
Bartlett R. The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change 950–1350. L., 1994. P. 311.
33
Roma Aeterna (лат.) – Вечный Рим.
34
Западного императора Оттона I.
35
Сборник документов по социально-политической истории Византии / Отв. ред. акад. Е.А. Косминский. М., 1951. С. 209.
36
Ле Гофф Ж. Рождение Европы. С. 8.
37
Цит. по: Geanakoplos Deno J. Emperor Michael Palaeologus and the West 1258–1282. A Study in Byzantine – Latin Relations. Cambridge, Ms, 1959. P. 190.
38
Dunbabin J. Charles I… P. 114.
39
Добиаш-Рождественская О. Указ. соч. С. 97.
40
Dunbabin J. Charles I… P. 7.
41
Cardini F. Válečník a rytíř. In: Středověký člověk a jeho svět / Ed. Jacques Le Goff. Praha, 1999. S. 85.