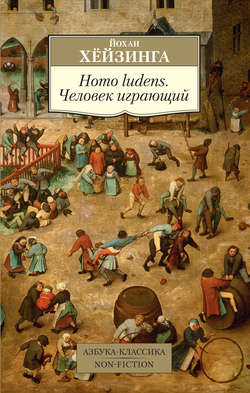Читать книгу Homo ludens. Человек играющий - Йохан Хёйзинга - Страница 3
Глава первая
Характер и значение игры как явления культуры
ОглавлениеИгра старше культуры, ибо понятие культуры, сколь неудовлетворительно его ни описывали бы, в любом случае предполагает человеческое сообщество, тогда как животные вовсе не дожидались появления человека, чтобы он научил их играть. Да, можно со всей решительностью заявить, что человеческая цивилизация не добавила никакого сколько-нибудь существенного признака в понятие игры вообще. Животные играют – точно так же, как люди. Все основные черты игры уже воплощены в играх животных. Стоит лишь понаблюдать, как резвятся щенята, чтобы в их веселой возне приметить все эти особенности. Они побуждают друг друга к игре посредством особого рода церемониала поз и движений. Они соблюдают правило не прокусить друг другу ухо. Они притворяются, что до крайности обозлены. И самое главное: все это они явно воспринимают как в высшей степени шуточное занятие и испытывают при этом огромное удовольствие. Щенячьи игры и шалости – лишь один из самых простых видов того, как играют животные. Есть у них игры и гораздо более высокие и изощренные по своему содержанию: подлинные состязания и великолепные представления для окружающих.
Здесь нам сразу же приходится сделать одно очень важное замечание. Уже в своих наипростейших формах, в том числе и в жизни животных, игра есть нечто большее, чем чисто физиологическое явление либо физиологически обусловленная психическая реакция. И как таковая, игра переходит границы чисто биологической или по крайней мере чисто физической деятельности. Игра – это функция, которая исполнена смысла. В игре вместе с тем играет нечто, выходящее за пределы непосредственного стремления к поддержанию жизни, нечто, вносящее смысл в происходящее действие. Всякая игра что-то значит. Назвать активное начало, которое придает игре ее сущность, духом – было бы слишком; назвать же его инстинктом – было бы пустым звуком. Как бы мы его ни рассматривали, в любом случае эта целенаправленность игры являет на свет некую нематериальную стихию, включенную в самоё сущность игры.
Психология и физиология занимаются тем, чтобы наблюдать, описывать и объяснять игры животных, а также детей и взрослых. Они пытаются установить характер и значение игры и указать место игры в жизненном процессе. То, что игра занимает там весьма важное место, что она выполняет необходимую, во всяком случае полезную функцию, принимается повсеместно и без возражений как исходный пункт всех научных исследований и суждений. Многочисленные попытки определить биологическую функцию игры расходятся при этом весьма значительно. Одни полагали, что источник и основа игры могут быть сведены к высвобождению избыточной жизненной силы. По мнению других, живое существо, играя, следует врожденному инстинкту подражания. Или удовлетворяет потребность в разрядке. Или нуждается в упражнениях на пороге серьезной деятельности, которой потребует от него жизнь. Или же игра учит его уметь себя сдерживать. Другие опять-таки ищут это начало во врожденной потребности что-то мочь, чему-то служить причиной, в стремлении к главенству или к соперничеству. Некоторые видят в игре невинное избавление от опасных влечений, необходимое восполнение односторонне направленной деятельности или удовлетворение некоей фикции желаний, невыполнимых в действительности, и тем самым поддержание ощущения собственной индивидуальности[5].
Все эти объяснения совпадают в исходном предположении, что игра совершается ради чего-то иного, что она отвечает некоей биологической целесообразности. Они спрашивают: почему и для чего происходит игра? Приводимые здесь ответы ни в коей мере не исключают друг друга. Пожалуй, можно было бы принять одно за другим все перечисленные толкования, не впадая при этом в обременительную путаницу понятий. Отсюда следует, что все эти объяснения верны лишь отчасти. Если бы хоть одно из них было исчерпывающим, оно исключало бы все остальные либо, как некое высшее единство, охватывало их и вбирало в себя. В большинстве случаев все эти попытки объяснения отводят вопросу: чтó есть игра сама по себе и чтó она означает для самих играющих – лишь второстепенное место. Эти объяснения, оперируя мерилами экспериментальной науки, спешат проникнуть в самое тело игры, ничуть не проявляя ни малейшего внимания прежде всего к глубоким эстетическим особенностям игры. Собственно говоря, именно изначальные качества игры, как правило, ускользают от описаний. Вопреки любому из предлагаемых объяснений остается правомочным вопрос: «Хорошо, но в чем же, собственно, сама суть игры? Почему ребенок визжит от восторга? Почему игрок забывает себя от страсти? Почему спортивные состязания приводят в неистовство многотысячные толпы народа?» Накал игры не объяснить никаким биологическим анализом. Но именно в этом накале, в этой способности приводить в исступление состоит ее сущность, ее исконное свойство. Логика рассудка, казалось бы, говорит нам, что Природа могла бы дать своим отпрыскам такие полезные функции, как высвобождение избыточной энергии, расслабление после затраты сил, приготовление к суровым требованиям жизни и компенсация неосуществленных желаний, всего-навсего в виде чисто механических упражнений и реакций. Но нет, она дала нам Игру, с ее напряжением, ее радостью и ее потехой [grap].
Этот последний элемент, aardigheid [забавность] игры, сопротивляется любому анализу, любой логической интерпретации. Само слово aardigheid здесь многозначно. Своим происхождением от aard [природа, род, вид, характер] оно как бы признает, что далее упрощать уже нечего. Для нашего современного чувства языка это свойство неупрощаемости нигде не выражено столь разительно, как в английском fun [шутка, веселье, забава, развлечение], сравнительно недавнем в его нынешнем смысле. Нидерландским grap и aardigheid вместе примерно соответствуют, хотя и в несколько ином соотношении, немецкие Spaß [шутка, забава, потеха, удовольствие, развлечение] и Witz [юмор, шутка, острóта]. Во французском языке, как ни странно, эквивалент этому понятию отсутствует. А ведь именно этот элемент и определяет сущность игры. В игре мы имеем дело с тотчас же узнаваемой каждым абсолютно первичной жизненной категорией, с некоей тотальностью, если вообще существует что-нибудь заслуживающее этого имени. В этой ее целостности и должны мы попытаться понять игру и дать ей оценку.
Реальность, именуемая Игрой, ощутимая каждым, простирается нераздельно и на животный мир, и на мир человеческий. Следовательно, она не может быть обоснована никакими рациональными связями, ибо укорененность в рассудке означала бы, что предел ее – мир человеческий. Существование игры не связано ни с какой-либо ступенью культуры, ни с какой-либо формой мировоззрения. Каждое мыслящее существо в состоянии тотчас же возыметь перед глазами эту реальность: игру, участие в игре – как нечто самостоятельное, самодовлеющее, даже если в его языке нет слова, обобщенно обозначающего это понятие. Игру нельзя отрицать. Можно отрицать почти любую абстракцию: право, красоту, истину, добро, дух, Бога. Можно отрицать серьезность. Игру – нельзя.
Но вместе с игрою, хотят того или нет, признают и дух. Ибо игра, какова бы ни была ее сущность, не есть нечто материальное. Уже в мире животных она вырывается за границы физического существования. С точки зрения мира, мыслимого как детерминированный, то есть как чисто силовое взаимодействие, игра есть в полном смысле слова superabundans, нечто избыточное. Лишь через вторжение духа, который сводит на нет эту безусловную детерминированность, наличие игры становится возможным, мыслимым, постижимым. Существование игры непрерывно утверждает, и именно в высшем смысле, сверхлогический характер нашего положения в космосе. Животные могут играть, следовательно, они суть уже нечто большее, нежели механизмы. Мы играем и знаем, что мы играем, следовательно, мы суть нечто большее, нежели всего только разумные существа, ибо игра неразумна.
Обратив свой взгляд на функцию игры не в жизни животных и не в жизни детей, но в культуре, мы вправе подойти к понятию игры там, где биология и психология его не затрагивают. Игра в культуре предстанет тогда как некая данность, предшествующая самой культуре, сопровождающая и пронизывающая ее от истоков вплоть до той фазы культуры, которую в данный момент переживает сам наблюдатель. Он всюду обнаруживает присутствие игры как определенной особенности или качества поведения, отличного от обыденного поведения в жизни. Он может оставить без внимания, насколько удается научному анализу выразить это качество в количественных соотношениях. Дело здесь для него именно в этом качестве, в том, насколько оно присуще той жизненной форме, которую он именует игрою. Игра как некая форма деятельности, форма, наделенная смыслом, и как социальная функция – вот предмет его интереса. Он больше не ищет естественных побуждений, которые предопределяют игру вообще, но рассматривает игру в ее многообразных конкретных формах и подходит к ней как к социальной структуре. Он пытается понять игру так, как воспринимает ее сам играющий, в ее первичном значении. Если он придет к выводу, что игра основывается на обращении с определенными образами, на некоем образном претворении действительности, тогда он прежде всего попытается понять ценность и значение этих образов и этого претворения в образы. Он захочет понаблюдать за тем, как они проявляются в самой игре, и таким образом попытаться понять игру как фактор культурной жизни.
Наиболее заметные первоначальные проявления общественной деятельности человека все уже пронизаны игрою. Возьмем язык, это первейшее и высшее орудие, которое человек формирует, чтобы иметь возможность сообщать, обучать, править. Язык, посредством которого человек различает, определяет, устанавливает, короче говоря, именует, то есть возвышает вещи до сферы духа. Играя, речетворящий дух то и дело перескакивает из области вещественного в область мысли. Всякое абстрактное выражение есть речевой образ, всякий речевой образ есть не что иное, как игра слов. Так человечество все снова и снова творит свое выражение бытия, второй, вымышленный мир рядом с миром природы. Или обратимся к мифу, который тоже есть образное претворение бытия, только более подробно разработанное, чем отдельное слово. С помощью мифа люди пытаются объяснить земное, помещая основание человеческих деяний в область божественного. В каждом из тех причудливых образов, в которые миф облекает все сущее, изобретательный дух играет на грани шутливого и серьезного. Возьмем, наконец, культ. Раннее общество совершает свои священнодействия, которые служат ему залогом благополучия мира, свои освящения, свои жертвоприношения, свои мистерии в ходе чистой игры в самом прямом смысле этого слова.
В мифе и культе зачинаются, однако, великие движущие силы культурной жизни: право и порядок, общение и предпринимательство, ремесло и искусство, поэзия, ученость, наука. И все они, таким образом, уходят корнями в ту же почву игровых действий.
Цель настоящего исследования – показать, что возможность рассматривать культуру sub specie ludi[6] есть нечто гораздо большее, нежели стремление к чисто риторическому сравнению. Мысль эта отнюдь не нова. Вообще-то она уже была однажды в большой моде. Это произошло в начале XVII столетия. На свет появился великий мировой театр. В блистательной чреде имен от Шекспира, Кальдерона и до Расина драма господствовала в поэтическом искусстве века. Каждый из поэтов, в свою очередь, сравнивал мир с подмостками, где всякому приходится играть свою роль. В этом, казалось бы, заключается повсеместное признание игрового характера культурной жизни. Тем не менее, если как следует вникнуть в это расхожее сравнение жизни с театральной игрою, нетрудно заметить, что оно, восходя к платоновским представлениям[7], как кажется, обращено почти исключительно к области нравственного. Все это было одной из вариаций на старую тему vanitas[8], тяжким вздохом о бренности всего земного, не более. Действительное переплетение игры и культуры было здесь не осознано и не выражено. На сей раз мы хотели бы показать, что истинная, чистая игра сама по себе выступает как основа и фактор культуры.
В нашем сознании игра противостоит серьезности. Пока что это противопоставление остается столь же невыраженным, как и само понятие игры. Но если вглядеться чуть пристальней, то в противопоставлении игры и серьезности мы не увидим законченности и постоянства. Мы можем сказать: игра – это несерьезность. Но помимо того, что такое суждение ничего не говорит о положительных свойствах игры, оно вообще весьма шатко. Стоит нам вместо «игра – это несерьезность» сказать «игра – это несерьезно», как наше противопоставление лишается смысла, ибо игра может быть чрезвычайно серьезной. Более того, мы тут же наталкиваемся на различные фундаментальные жизненные категории, которые также подпадают под определение несерьезного и все же никак не соотносятся с понятием игры. Смех определенно противопоставляют серьезности, но с игрой он никоим образом прямо не связан. Дети, футболисты, шахматисты играют с глубочайшей серьезностью, без малейшей склонности к смеху. Примечательно, что как раз чисто физиологическая способность смеяться присуща исключительно человеку, тогда как, если говорить о смысле игры, то эта функция является у него общей с животными. Аристотелево animal ridens [животное смеющееся] характеризует человека, в противоположность животному, пожалуй, еще точнее, чем homo sapiens.
Все, что касается смеха, касается и комического. Комическое равным образом подпадает под понятие несерьезного, оно стоит в несомненной связи со смехом, оно возбуждает смех, но его взаимосвязь с игрой носит второстепенный характер. Игра сама по себе не комична ни для игроков, ни для зрителей. И зверята, и дети за игрою временами комичны, но взрослые собаки, гоняющиеся друг за другом, уже не кажутся или почти не кажутся таковыми. Если фарс и потешное представление мы называем комическими, то это не из-за игрового действа самого по себе, но из-за его содержания. Мимику клоуна, комичную и вызывающую смех, можно лишь в самом общем смысле этого слова назвать игрою.
Комическое тесно связано с глупостью. Игра, однако, отнюдь не глупа. Она вне противопоставления мудрость – глупость. Но и понятие глупости может послужить тому, чтобы выразить громадное различие между обоими жизненастроениями. В позднесредневековом словоупотреблении словесная пара folie et sens [безумие и разум] довольно хорошо отвечала нашему различению игры и серьезности.
Все термины этой неопределенно взаимосвязанной группы понятий, к которым относятся игра, смех, забава, шутка, комическое и глупость, отличает несводимость к чему-то иному, особенность, которую нам уже довелось признать за игрой. Их ratio[9] лежит в очень глубоком слое нашей духовной сущности.
Чем больше мы пытаемся отграничить игровые формы от других, по видимости родственных им форм в нашей жизни, тем более очевидной становится их далеко идущая самостоятельность. И мы можем пойти еще дальше в этом выделении игры из сферы основных категориальных противоположностей. Если игра лежит вне различения мудрость – глупость, то она в той же степени находится и вне противопоставления правда – неправда. А также и вне пары добро и зло. Игра сама по себе, хотя она и есть деятельность духа, не причастна морали, в ней нет ни добродетели, ни греха.
Если же игру не удается прямо связать с добром или истиной, не лежит ли она тогда в области эстетического? Здесь суждение наше колеблется. Свойство быть прекрасной не присуще игре как таковой, однако она обнаруживает склонность сочетаться с теми или иными элементами прекрасного. Более примитивные формы игры изначально радостны и изящны. Красота движений человеческого тела находит в игре свое высочайшее выражение. В своих наиболее развитых формах игра пронизана ритмом и гармонией, этими благороднейшими проявлениями эстетической способности, дарованными человеку. Связи между красотой и игрою прочны и многообразны.
Все сказанное означает, что в игре мы имеем дело с такой функцией живого существа, которая полностью может быть столь же мало определена биологически, как логически или этически. Понятие игры странным образом остается в стороне от всех остальных интеллектуальных форм, в которых мы могли бы выразить структуру духовной и общественной жизни. Поэтому для начала мы вынуждены будем ограничиться описанием основных признаков игры.
Здесь нам будет на руку то, что предмет нашего интереса, взаимосвязь игры и культуры, позволяет нам не подвергать рассмотрению все существующие формы игры. Мы можем ограничиться главным образом играми социальными по характеру. Если угодно, их можно назвать более высокими формами игры. Их удобнее описывать, чем более примитивные игры младенцев или зверенышей, ибо они более развиты и разносторонни, их отличительные признаки более заметны и многогранны, тогда как при определении сущности примитивной игры мы почти тотчас наталкиваемся на невыводимое качество игрового, что мы полагаем недостаточным для логического анализа. Поэтому мы будем говорить о таких вещах, как единоборство и состязание в беге, представления и зрелища, танцы и музыка, маскарад и турнир. Среди признаков, которые мы постараемся перечислить, некоторые имеют отношение к игре вообще, другие характеризуют преимущественно социальные игры.
Всякая Игра есть прежде всего и в первую очередь свободное действие. Игра по принуждению уже более не игра. Разве что – вынужденное воспроизведение игры. Уже один этот характер свободы выводит игру за пределы чисто природного процесса. Она присоединяется к нему, она накладывается на него как некое украшение. Разумеется, свободу здесь следует понимать в том несколько вольном смысле, при котором не затрагиваются вопросы детерминизма. Можно предположить следующее рассуждение: мол, для детеныша животного или человеческого младенца этой свободы не существует; они должны играть, ибо к этому их побуждает инстинкт, а также из-за того, что в игре раскрываются их телесные и избирательные способности. Но, вводя термин инстинкт, мы прячемся за некое неизвестное, а заранее принимая предположительную полезность игры, опираемся на petitio principii[10]. Ребенок или животное играют, ибо черпают в игре удовольствие, и в этом как раз и состоит их свобода.
Как бы то ни было, для человека взрослого и наделенного чувством ответственности игра – то, без чего он мог бы и обойтись. Игра, по сути, избыточна. Потребность играть становится настоятельной лишь постольку, поскольку она вытекает из доставляемого игрой удовольствия. Игру можно всегда отложить, она может и вовсе не состояться. Она не бывает вызвана физической необходимостью и тем более моральной обязанностью. Она не есть какая-либо задача. Ей предаются в свободное время. Но с превращением игры в одну из функций культуры понятия долженствования, задачи, обязанности, поначалу второстепенные, оказываются все больше с ней связанными.
Вот, следовательно, первый основной признак игры: она свободна, она есть свобода. Непосредственно с этим связан второй ее признак.
Игра не есть обыденная или настоящая жизнь. Это выход из такой жизни в преходящую сферу деятельности с ее собственным устремлением. Уже ребенок прекрасно знает, что он «ну просто так делает», что все это «ну просто, чтоб было весело». Сколь глубоко такого рода сознание коренится в детской душе, особенно выразительно иллюстрирует, на мой взгляд, следующий эпизод, о котором поведал мне как-то отец одного ребенка. Он застал своего четырехгодовалого сына за игрой в поезд, восседающим во главе выстроенных им друг за другом нескольких стульев. Отец хотел было приласкать мальчика, но тот заявил: «Папа, не надо целовать паровоз, а то вагоны подумают, что все это не взаправду». В этом «ну просто» всякой игры заключено осознание ее неполноценности, ее развертывания понарошку – в противоположность серьезности, кажущейся первичной. Но мы уже обратили внимание, что это сознание просто игры вовсе не исключает того, что просто игра может происходить с величайшей серьезностью, с увлечением, переходящим в подлинное упоение, так что характеристика просто временами полностью исчезает. Всякая игра способна во все времена полностью захватывать тех, кто в ней принимает участие. Противопоставление игра – серьезность всегда подвержено колебаниям. Недооценка игры граничит с переоценкой серьезности. Игра оборачивается серьезностью, и серьезность – игрою. Игра способна восходить к высотам прекрасного и священного, оставляя серьезность далеко позади. Мы вернемся к этим трудным вопросам, как только пристальнее вглядимся в соотношение игры и священнодействия.
Пока что речь идет об определении формальных признаков, свойственных тому роду деятельности, который мы именуем игрою. Все исследователи подчеркивают не обусловленный посторонними интересами характер игры. Не будучи обыденной жизнью, она стоит вне процесса непосредственного удовлетворения нужд и страстей. Она прерывает этот процесс. Она вторгается в него как ограниченное определенным временем действие, которое исчерпывается в себе самом и совершается ради удовлетворения, доставляемого самим этим свершением. Такой, во всяком случае, представляется нам игра и сама по себе, и в первом к ней приближении: как интермеццо в ходе повседневной жизни, как отдохновение. Но уже этой своей чертою регулярно повторяющегося разнообразия она становится сопровождением, дополнением, частью жизни вообще. Она украшает жизнь, заполняет ее и как таковая делается необходимой. Она необходима индивидууму как биологическая функция, и она необходима обществу в силу заключенного в ней смысла, в силу своего значения, своей выразительной ценности, а также духовных и социальных связей, которые она порождает, – короче говоря, как культурная функция. Она удовлетворяет идеалам индивидуального самовыражения – и общественной жизни. Она располагается в сфере более возвышенной, нежели строго биологическая сфера процесса пропитания – спаривания – самозащиты. Этим суждением мы входим в кажущееся противоречие с тем фактом, что в жизни животных брачные игры занимают столь важное место. Но разве так уж абсурдно было бы такие вещи, как пение, танцы, брачное великолепие птиц, равно как и человеческие игры, поместить вне чисто биологической сферы? Как бы то ни было, человеческая игра во всех своих высших проявлениях, когда она что-либо означает или торжественно знаменует, обретает свое место в сфере праздника или культа, в сфере священного.
Лишает ли тот факт, что игра необходима, что она подвластна культуре, более того, сама становится частью культуры, – лишает ли это ее признака незаинтересованности? Нет, ибо конечные цели, которым она служит, сами лежат вне сферы непосредственного материального интереса или индивидуального удовлетворения насущных потребностей.
Игра обособляется от обыденной жизни местом и продолжительностью. Ее третий отличительный признак – замкнутость, отграниченность. Она разыгрывается в определенных границах места и времени. Ее течение и смысл заключены в ней самой.
Итак, вот новый и позитивный признак игры. Игра начинается, и в определенный момент ей приходит конец. Она «разыгрывается». Пока она идет, в ней есть движение вперед и назад, чередование, очередность, завязка, развязка. С ее временной ограниченностью непосредственно связано другое примечательное качество. Игра сразу же закрепляется как культурная форма. Однажды сыгранная, она остается в памяти как некое духовное творение или духовная ценность, передается от одних к другим и может быть повторена в любое время: тотчас – как детские игры, партия в триктрак, бег наперегонки – либо после длительного перерыва. Эта повторяемость – одно из существеннейших свойств игры. Оно распространяется не только на всю игру в целом, но и на ее внутреннее строение. Почти все высокоразвитые игровые формы содержат элементы повтора, рефрен, чередование как нечто само собой разумеющееся.
Еще разительней временнóго ограничения – ограничение местом. Всякая игра протекает в заранее обозначенном игровом пространстве, материальном или мыслимом, преднамеренном или само собой разумеющемся. Подобно тому как формально отсутствует какое бы то ни было различие между игрой и священнодействием, то есть сакральное действие протекает в тех же формах, что и игра, так и освященное место формально неотличимо от игрового пространства. Арена, игральный стол, магический круг, храм, сцена, киноэкран, судебное присутствие – все они по форме и функции суть игровые пространства, то есть отчужденная земля, обособленные, выгороженные, освященные территории, где имеют силу свои особые правила. Это временные миры внутри мира обычного, предназначенные для выполнения некоего замкнутого в себе действия.
Внутри игрового пространства господствует присущий только ему совершенный порядок. И вот сразу же – новое, еще более положительное свойство игры: она устанавливает порядок, она сама есть порядок. В этом несовершенном мире, в этой сумятице жизни она воплощает временное, ограниченное совершенство. Порядок, устанавливаемый игрой, непреложен. Малейшее отклонение от него мешает игре, вторгается в ее самобытный характер, лишает ее собственной ценности. Эта глубоко внутренняя связь с идеей порядка и есть причина того, почему игра, как мы вскользь уже отметили выше, судя по всему, в столь значительной мере лежит в области эстетического. Игра, говорили мы, норовит быть красивой. Этот эстетический фактор, быть может, есть не что иное, как навязчивое стремление к созданию упорядоченной формы, которое пронизывает игру во всех ее проявлениях. Термины, пригодные для обозначения элементов игры, большей частью лежат в сфере эстетики. С их помощью мы пытаемся выражать и эффекты прекрасного. Это напряжение, равновесие, колебание, чередование, контраст, вариация, завязка и развязка и, наконец, разрешение. Игра связывает и освобождает. Она приковывает к себе. Она пленяет и зачаровывает. В ней есть те два благороднейших качества, которые человек способен замечать в вещах и которые сам может выразить: ритм и гармония.
Среди характеристик, применимых к игре, было названо напряжение. Причем элемент напряжения занимает здесь особенное и немаловажное место. Напряжение – свидетельство неуверенности, но и наличия шанса. В нем сказывается и стремление к расслаблению. Что-то «удается» при определенном усилии. Присутствие этого элемента уже заметно в хватательных движениях грудного младенца, у котенка, который возится с катушкою ниток, у играющей в мяч маленькой девочки. Элемент напряжения преобладает в одиночных играх на ловкость или сообразительность, таких как головоломки, мозаичные картинки, пасьянс, стрельба по мишени, и возрастает в своем значении по мере того, как игра в большей или меньшей степени принимает характер соперничества. В азартных играх и в спортивных состязаниях напряжение доходит до крайней степени. Именно элемент напряжения сообщает игровой деятельности, которая сама по себе лежит вне области добра и зла, то или иное этическое содержание. Ведь напряжение игры подвергает силы игрока испытанию: его физические силы, упорство, изобретательность, мужество и выносливость, но вместе с тем и его духовные силы, поскольку он, обуреваемый пламенным желанием выиграть, вынужден держаться в предписываемых игрою рамках дозволенного. Присущие игре свойства порядка и напряжения подводят нас к рассмотрению игровых правил.
В каждой игре – свои правила. Ими определяется, что именно должно иметь силу в выделенном игрою временном мире. Правила игры бесспорны и обязательны, они не подлежат никакому сомнению. Поль Валери как-то вскользь обронил, и это была необычайно дальновидная мысль, что по отношению к правилам игры всякий скептицизм неуместен. Во всяком случае, основание для определения этих правил задается здесь как незыблемое. Стоит лишь отойти от правил, и мир игры тотчас же рушится. Никакой игры больше нет. Свисток судьи снимает все чары, и «обыденный мир» в мгновение ока вступает в свои права.
Участник игры, который действует вопреки правилам или обходит их, это нарушитель игры, шпильбрехер[11]. С манерой игры теснейшим образом связано понятие fair[12], – играть надо честно. Шпильбрехер, однако, вовсе не то, что плут. Этот последний лишь притворяется, что играет. Он всего-навсего делает вид, что признает силу магического круга игры. Сообщество входящих в игру прощает ему его грех гораздо легче, нежели шпильбрехеру, ломающему весь их мир полностью. Отказываясь от игры, он разоблачает относительность и хрупкость того мира игры, в котором он временно находился вместе с другими. В игре он убивает иллюзию, inlusio, буквально в-игрывание, слово достаточно емкое по своему смыслу[13]. Поэтому он должен быть изничтожен, ибо угрожает самому существованию данного игрового сообщества. Фигура шпильбрехера яснее всего проступает в играх мальчишек. Это маленькое сообщество не задается вопросом, уклоняется ли он от игры из-за того, что ему не велят, или из-за того, что боится. Или, вернее, такое сообщество не признает никаких «не велят» и называет это «боится». Проблема послушания и совести для него, как правило, не выходит за рамки страха перед наказанием. Шпильбрехер разрушает магию их волшебного мира, поэтому он трус и должен быть подвергнут изгнанию. Точно так же и в мире высокой серьезности плуты, жулики, лицемеры всегда чувствуют себя гораздо уютней шпильбрехеров: отступников, еретиков, вольнодумцев, узников совести.
Разве что эти последние, как то нередко случается, тут же не создают, в свою очередь, новое сообщество со своими собственными, уже новыми правилами. Именно outlaws[14], революционеры, члены тайного клуба, еретики, необычайно тяготеют к созданию групп и вместе с тем почти всегда с ярко выраженными чертами игрового характера.
Игровое сообщество обладает вообще склонностью сохранять свой постоянный состав и после того, как игра уже кончилась. Разумеется, не каждая игра в камушки или партия в бридж ведет к возникновению клуба. И все же присущее участникам игры чувство, что они совместно пребывают в некоем исключительном положении, совместно делают одно важное дело, обособляясь от прочих и порывая с общими для всех нормами, простирает свои чары далеко за пределы продолжительности отдельной игры. Клуб приличествует игре, как голове – шляпа. При этом, однако, не многого стоила бы поспешная попытка все, что этнология называет фратриями, возрастными классами или мужскими союзами[15], истолковывать как игровые сообщества. И все же нам постоянно предстоит убеждаться, насколько сложно начисто отделить от игровой сферы длительно сохраняющиеся общественные союзы, прежде всего те, что встречаются в архаических культурах, с их обычаем ставить себе чрезвычайно значительные, величественные и даже священные цели.
Особливость и обособленность игры обретают наиболее яркую форму в таинственности, которой она столь охотно себя окружает. Уже маленькие дети увеличивают заманчивость своих игр, делая из них секрет. Ибо игры – для нас, а не для других. Чтó делают эти другие за пределами нашей игры, до поры до времени нас не касается. Внутри сферы игры законы и обычаи обыденной жизни не имеют силы. Мы суть, и мы делаем «нечто иное». Это временное устранение обычного мира мы вполне можем вообразить уже в детские годы. Весьма отчетливо просматривается оно и в столь важных, закрепленных в культе играх первобытных народов. Во время большого праздника инициации[16], когда юношей принимают в мужское сообщество, от действия обычных законов и правил освобождаются не только основные участники. Во всем племени затихает вражда. Все акты кровной мести откладываются. Многочисленные следы этой временной отмены правил повседневной общественной жизни на период важных, священных игр продолжают встречаться и в гораздо более развитых культурах. Сюда относится все, что касается сатурналий и обычаев карнавалов[17]. Прошлое нашего отечества с его более грубыми нравами частной жизни, бóльшими сословными привилегиями и более покладистой полицией знавало сатурнальные вольности молодых людей этого племени, весьма гораздых на «студенческие проказы». В британских университетах подобные привычки еще продолжают жить в формализованном виде как ragging [бесчинства] – в словарном описании «an extensive display of noisy disorderly conduct, carried on in defiance of authority and discipline» [ «всяческое проявление шумного, буйного поведения, с явным пренебрежением к властям и порядку»].
Инобытие и тайна игры вместе зримо выражаются в переодевании. «Необычность» игры достигает здесь своей высшей точки. Переодевшийся или надевший маску «играет» иное существо. Но он и «есть» это иное существо! Детский страх, необузданное веселье, священный обряд и мистическое воображение в безраздельном смешении сопутствуют всему тому, что есть маска и переодевание.
Суммируя, мы можем назвать игру с точки зрения формы некоей свободной деятельностью, которая осознается как ненастоящая, не связанная с обыденной жизнью и тем не менее могущая полностью захватить играющего; которая не обусловливается никакими ближайшими материальными интересами или доставляемой пользой; которая протекает в особо отведенном пространстве и времени, упорядоченно и в соответствии с определенными правилами и вызывает к жизни общественные объединения, стремящиеся окружать себя тайной или подчеркивать свою инакость по отношению к обычному миру своеобразной одеждой и обликом.
Игровая функция, в тех ее высших формах, что мы здесь рассматриваем, может быть сразу же сведена в основном к двум аспектам, в которых она себя проявляет. Игра – это борьба за что-то или показ, представление этого «что-то». Обе эти функции могут и объединяться, так что игра представляет борьбу за что-то или же превращается в состязание в том, кто именно сможет показать что-то лучше других.
Представлять означает, по самому происхождению этого слова, не что иное, как ставить перед глазами. Это может быть простой показ перед зрителями чего-либо данного самой природой. Павлин или индейский петух показывают самкам свое роскошное оперение, но в этом показе уже заключается предъявление чего-то на удивление особенного, необычного. Если же птица еще и выделывает при этом танцевальные па, тогда это уже представление, выход из обычной действительности, транспозиция этой действительности в более высокий порядок. Мы не знаем, что происходит при этом с самим животным. В жизни ребенка подобные представления уже очень рано преисполнены образности. Дети воображают нечто иное, более красивое, или более возвышенное, или более опасное, чем обычно. Ребенок то принц, то отец, то злая ведьма, то тигр. Он испытывает при этом такую степень восторга, которая подводит его вплотную к мысли, что он это и есть, не вытесняя, однако, полностью из его сознания обычной действительности. То, что он при этом показывает, – это мнимо-осуществление, воображение, то есть представление или выражение в образе.
Переходя теперь от детской игры к священным культовым представлениям архаических культур, мы обнаруживаем, что в сравнении с детской игрой духовный элемент здесь в большей мере в игре, и это очень трудно поддается точному определению. Священное представление – больше, нежели мнимое претворение, больше, чем символическое претворение, это – мистическое претворение. В таком представлении нечто незримое и невыразимое обретает прекрасную, значимую, священную форму. Участвующие в культовом действе убеждены, что оно претворяет в жизнь некое благо, и при этом высший порядок вещей действенно вторгается в их обычное существование. Тем не менее это претворение через устраиваемое ими представление продолжает во всех отношениях сохранять формальные признаки игры. Оно разыгрывается, ставится в пределах реально выделенного игрового пространства как подлинный праздник, то есть радостно и свободно. Ради него выделяют собственный, временно существующий мир. При этом с концом игры действие ее вовсе не прекращается, но продолжает озарять обыденный внешний мир – укрепляя надежность, порядок, благополучие тех, кто участвовал в празднестве, вплоть до той поры, когда священные дни приблизятся снова.
Такие примеры можно заимствовать чуть не в каждом уголке земли. Согласно древнему китайскому учению, предназначение танца и музыки – удерживать мир в его колее и обуздывать природу во благо людей. От состязаний на праздниках, приуроченных ко времени года, зависит удача в течение всего объемлющего эти четыре периода срока. Если люди не сойдутся все вместе, урожая не будет[18].
Священнодействие – это δρώμενον, то есть свершаемое. Представляемое зрителю – δρᾶμα[19], то есть действие, не важно, происходит ли оно в форме представления или же состязания. Такое действие представляет собою некое космическое событие, однако не только в виде его репрезентации, но и как отождествление с ним. Оно вторит событию. Культовый обряд позволяет вызвать эффект, образно представленный в действии. Его функция – не простое подражание, но становление частью, участие в действии[20]. Это – «helping the action out»[21] [ «вызволение действия»].
Наука о культуре не задается вопросом, каким образом психология понимает духовный процесс, который находит выражение в этих явлениях. Психология, возможно, попытается разделаться с потребностью, приводящей к таким представлениям, как с «identification compensatrice» [ «компенсирующим отождествлением»] или как с «репрезентативным действием при невозможности выполнить настоящее действие, направленное на определенную цель»[22]. Для науки о культуре важно понять, чтó означают эти представления в духовной жизни тех народов, которые создают их и почитают.
Мы затрагиваем здесь основы науки о религии, вопрос о сущности культа, обряда, мистерии. Древнеиндийский обряд жертвоприношения, известный по Ведам[23], целиком покоится на идее, что культовое действие, будь то жертвоприношение, состязание или представление, понуждает богов дать ему совершиться, если некое желаемое космическое событие представить, передать, вообразить в ритуале. Для античного мира эти взаимосвязи убедительно разрабатывает в своей книге Themis: A Study of the social origins of Greek religion[24] [Фемида. Исследование социальных истоков греческой религии] мисс Дж. Э. Харрисон, исходя из боевого танца куретов на Крите[25]. Не вдаваясь во все историко-религиозные вопросы, обусловленные этой темой, рассмотрим поближе игровой характер архаического культового действа.
Итак, в свете вышеизложенного, культ есть показ, драматическое представление, образное воплощение, замещающее действительное осуществление. В ходе священных празднеств, возвращающихся с очередным временем года, люди сообща отмечают великие события в жизни природы, устраивая посвященные им представления. Они воспроизводят смену времен года, изображая восход и заход созвездий, рост и созревание плодов, рождение, жизнь и смерть людей и животных. По выражению Лео Фробениуса, человечество разыгрывает порядок вещей в природе[26] в той мере, в какой оно его постигает. Согласно Фробениусу, в далекие, доисторические времена люди охватывали своим сознанием прежде всего явления растительного и животного мира, а затем уже дошли до понимания значения порядка во времени и пространстве, чередования месяцев и времен года, небесного движения солнца. И вот они разыгрывают весь порядок бытия в священной игре. И в этой игре, и через игру они вновь воплощают представленные события и помогают тем самым поддержанию мирового порядка. Да и другие вещи должны были вытекать из игры. Ибо в формах культовых игр человечество нащупывало порядок в самом человеческом обществе, закладывало зачатки своих простейших государственных форм. Король – это солнце, королевская власть – образное воплощение его небесного хода; всю свою жизнь король играет солнце, чтобы в конце концов разделить судьбу солнца: его собственный народ в ритуальной форме кладет предел его жизни[27].
Вопрос, насколько это объяснение ритуального цареубийства и всей лежащей за ним концепции можно считать доказанным, пусть решают другие. Нас же интересует, как следует понимать такое становление образа из первоначально примитивного чувства природы. Как протекает процесс, который начинается с невыраженного опытного знания космических явлений и заканчивается игровым изображением этих явлений?
Фробениус по праву отбрасывает чересчур легковесное объяснение, полагающее, что было бы вполне достаточно добавить сюда некое понятие «Spieltrieb» [ «тяга к игре»] как врожденный инстинкт[28]. «Die Instinkte, – говорит он, – sind eine Erfindung der Hilflosigkeit gegenüber dem Sinn der Wirklichkeit» [ «Инстинкты <…> суть изобретение беспомощности в ее столкновениях со смыслом действительности»]. Столь же настойчиво, и с еще большим основанием, противится он склонности минувшей эпохи искать объяснение каждому приобретению культуры во всяческих «с какой целью?», «зачем?», «по какой причине?», приписываемых обществу, которое создает культуру. «Schlimmste Kausaliätstyrannei» [ «Наихудшей тиранией причинности»] называет он подобную точку зрения, это устаревшее представление о полезности[29].
Собственное представление Фробениуса о духовном процессе, который при этом должен происходить, сводится к следующему. Еще никак не выраженный природный и жизненный опыт проявляет себя в человеке архаического периода в виде «Ergriffenheit» [ «захваченности»]. «Das Gestalten steigt im Volke wie im Kinde, wie in jedem schöpferischen Menschen aus der Ergriffenheit auf»[30] [ «Образное представление восходит в народе, как и в ребенке, как и в любом человеке творческого склада, из их захваченности»]. Человеческое в них бывает «ergriffen von der Offenbarung des Schicksals…». «Die Wirklichkeit des natürlichen Rhythmus in Werden und Vergehen [hat] ihren inneren Sinn gepackt und dies [hat] zur zwangsläufigen und reflexmäßigen Handlung geführt»[31] [ «захвачено откровением судьбы…». «Реальность природного ритма в становящемся и преходящем овладела их внутренним чувством, и это привело к вынужденному рефлективному действию»]. Итак, здесь, по мнению Фробениуса, речь идет о необходимом духовном процессе преобразования. Благодаря «Ergriffenheit», что фактически говорит больше, чем близлежащие нидерландские bewogenheid, getroffenheid, ontroering [встревоженность, растроганность, взволнованность], – чувство природы сгущается, рефлекторно, в поэтическую концепцию, в художественную форму. Быть может, это наилучшее словесное приближение к описанию процесса творческого воображения, однако едва ли это можно назвать его объяснением. Путь, ведущий от эстетического или мистического, в любом случае – алогического постижения космического порядка, к обрядовой священной игре, остается столь же неясным, как и до этого.
В анализе этого большого ученого, о кончине которого все мы скорбим, недостает более точного определения того, чтó он понимает под словом игра по отношению к такого рода священным вещам. Неоднократно употребляет Фробениус слово играть применительно к деятельности, связанной с культовыми представлениями, но в суть вопроса, чтó же означает здесь это играть, не углубляется. Возникает сомнение, не закралась ли в его представления та же мысль о целенаправленности, которой он так противился и которая вовсе не согласуется с присущими игре качествами. Ведь, как это изображает Фробениус, игра служит тому, чтобы являть, показывать, сопровождать, воплощать все, что свершается в космосе. Квазирациональный момент неудержимо пытается сюда вторгнуться. Игра, как образное воплощение, продолжает для него сохранять основу своего существования, будучи выражением чего-то иного, а именно некоей взволнованности соприкосновения с космосом. Тот факт, что это воплощение в образах разыгрывается, остается для него, по всей видимости, второстепенным. Теоретически оно могло бы поведать о себе и другим способом. Согласно же нашим рассуждениям, определяющим здесь является именно факт игры. Эта игра, по сути, есть не что иное, как более высокая форма – в основе своей вполне равноценная – детской игры или даже игры животных. Для этих двух форм игры едва ли может быть истоком взволнованность соприкосновения с космосом, ощущение мирового порядка, которое ищет для себя выражения. Во всяком случае, такое объяснение не было бы достаточно убедительным. Детской игре присуще специфическое качество игры qua talis [как таковой], и при этом в ее наиболее чистом виде.
Процесс, ведущий от «захваченности природой и жизнью» – к представлению этого чувства в священной игре, нам кажется возможным описать в несколько иных терминах, чем это сделал Фробениус, – вовсе не для того, чтобы предложить объяснение чему-то поистине неуловимому, но с единственной целью: учесть фактические обстоятельства. Архаическое общество играет так, как играет ребенок, как играют животные. Эта игра с самого начала полна элементов, свойственных игре вообще: порядка, напряжения, движения, торжественности и экстаза. Лишь в более поздней фазе общественного развития с игрой начинают связывать представление, что в ней что-то выражено: именно представление о жизни. Бывшее некогда бессловесной игрой принимает поэтическую форму. В форме и в функции игры, являющейся самостоятельным качеством, чувство человеческой включенности в космос находит свое самое первое, самое высшее, самое священное выражение. В игру мало-помалу добавляется значение священного акта. Культ – не более чем прививка к игре. Однако изначальным фактом была именно игра как она есть.
Мы попадаем здесь в сферы, куда, будь то с помощью познавательных средств психологии, будь то с помощью теории познания, вряд ли можно проникнуть. Вопросы, которые здесь возникают, касаются глубинных основ нашего сознания. Культ – дело самой высокой и самой священной серьезности. Может ли он при этом быть также игрою? С самого начала нами было отмечено: любая игра, ребенка ли, взрослого ли, может проходить с полнейшей серьезностью. Может ли она, однако, заходить столь далеко, чтобы и священное волнение таинства все еще связывали с качествами игры? Продумать все это будет нам в той или иной мере непросто из-за строгости сформулированных нами понятий. Противопоставление игра – серьезность мы привыкли рассматривать как нечто вполне окончательное. Но, по всей видимости, до самых глубин оно все-таки не доходит.
Поразмыслим немного над следующей восходящей последовательностью. Ребенок играет в полном самозабвении, – можно с полным правом сказать: в священной серьезности. Но он играет, и он знает, что он играет. Спортсмен играет с безмерной серьезностью и с отчаянною отвагой. Он играет, и он знает, что он играет. Актер целиком уходит в игру. Тем не менее он играет и сознает, что играет. Скрипач переживает священный восторг, он переносится в мир вне и выше обычного мира, но то, что он делает, остается игрою. Игровой характер может быть присущ самым возвышенным действиям. Можно ли провести эту линию вплоть до культовых действий и утверждать, что священнослужитель, совершая ритуал жертвоприношения, все-таки остается в рамках игры? Кто допускает это в богослужении, допускает это и относительно всего прочего. Понятия обряда, магии, литургии, таинства и мистерии – все они оказались бы тогда в сфере значения понятия игры. Но здесь следует остерегаться того, чтобы внутреннее единство понятия игры не подвергнуть чрезмерному перенапряжению. Мы стали бы всего лишь играть словами, попытайся мы термин игра толковать слишком уж расширительно. Думается, однако, что, квалифицируя священнодействие как игру, мы вовсе не впадаем в ошибку. Оно во всех отношениях есть игра по своей форме, но и по своей сущности оно является ею, коль скоро оно всех, кто в нем участвует, переносит в иной мир, отличный от обыкновенного. Платон это тождество игры и священнодействия принимал как безусловную данность. Он, не колеблясь, включал в категорию игры предметы священные. Серьезные дела подобает свершать с полной серьезностью, гласит его утверждение[32], и только Бог достоин всей этой блаженной серьезности, тогда как человек сотворен игрушкою Бога, и это для него самое лучшее. Посему каждому мужчине и каждой женщине надлежит в соответствии с этим проводить свою жизнь, играя в прекрасные игры, вопреки всему тому, к чему они расположены ныне. Они же, следует далее, серьезною вещью почитают войну, «но в войне нет ни игры, ни становления формы[33], каковые мы почитаем за вещи серьезные. Мирную жизнь дóлжно прожить каждому сколь можно лучше. Каков же этот правильный способ? Жить дóлжно, играя в добрые игры, принося жертвы, в пении и танцах, дабы возможно было снискать расположение богов и врагам дать отпор, и победить их в бою»[34].
В этом Платоновом отождествлении игрового – и священного последнее не принижается тем, что его называют игрою, но сама игра возвышается тем, что понятие это возводят вплоть до высочайших областей духа. Мы уже говорили в начале нашего рассуждения, что игра существует до всякой культуры. В определенном смысле она витает поверх каждой культуры или, во всяком случае, от нее не зависит. Взрослый человек играет, как и ребенок, ради удовольствия и отдохновения, так сказать, ниже уровня того, что есть серьезная жизнь. Но он может играть и выше этого уровня, вовлекая в игру прекрасное и священное.
С этой точки зрения попытаемся теперь несколько более точно определить внутреннюю связь культа с игрою. При этом перед нами ярко вырисовывается далеко идущая однородность ритуальных и игровых форм, и вопрос, до какой степени то или иное сакральное действие оказывается в сфере игры, возникает в первую очередь.
Среди формальных признаков игры первое место занимает пространственная выхваченность этой деятельности из обыденной жизни. Некое замкнутое пространство, материальное или идеальное, обособляется, отгораживается от повседневного окружения. Там, внутри, вступает в дело игра, там, внутри, царят ее правила. Но отгороженность освященного места есть также первейший признак сакрального действа. Это требование обособления в культе, включая сюда также магию и отправление правосудия, содержит в себе более глубокий, нежели только пространственный и временной смысл. Почти ни один обряд посвящения и освящения не обходится без создания искусственных положений обособленности и исключительности для исполнителей или инициантов. Повсюду, где речь идет об обете, принятии в орден или некое братство, о клятве, тайном союзе, подобное ограничение так или иначе всегда вступает в игру, в рамках которой протекает это событие. Жертвоприношение, прорицание, колдовство начинаются с того, что очерчивается священное для этих действий пространство. Таинство и мистерия предполагают наличие особого, священного места.
Формально функция такой отгороженности и ради священной цели, и ради чистой игры совершенно одна и та же. Ипподром, теннисный корт, площадка для игры в «классики», шахматная доска функционально не отличаются от таких вещей, как храм или магический круг. Поразительная однородность обрядов освящения по всему миру указывает на то, что такие обычаи коренятся в некоем изначальном и фундаментальном свойстве человеческого духа. Это всеобщее сходство культурных форм чаще всего сводят к причине логической, объясняя потребность в отгораживании и обособленности заботой о том, чтобы отвести от святилища пагубные воздействия, которые могут ему угрожать извне, ибо в силу своей святости оно особенно подвергается опасности и само представляет опасность. Тем самым в начало упомянутого культурного процесса ставят некие разумные соображения и полезные цели – утилитарное толкование, против которого предостерегал и Фробениус. Хорошо еще, что при этом не возвращаются к представлениям о хитрых священниках, которые выдумали религию; однако оттенок рационалистической манеры приписывать явлению те или иные мотивы в подобном подходе все же присутствует. Принимая же, в противоположность этому, изначальное, сущностное тождество игры и обряда, мы тем самым признаём особое священное место в основе своей за игровое пространство, и тогда сбивающие с толку вопросы «почему?» и «зачем?» вообще не могут быть заданы.
Но если священнодействие формально нелегко отделить от игры, то возникает вопрос, остается ли сходство культа с игрою чисто формальным и не простирается ли оно несколько далее? Вызывает удивление, что история религии и этнология не делают большего ударения на вопросе, в какой степени сакральные действия, свершающиеся в игровых формах, при этом сказываются на ходе и настроении игры. Да и Фробениус, насколько я вижу, также не задавался этим вопросом. Все, что я мог бы сказать по этому поводу, ограничивается замечаниями, обобщающими некоторые разрозненные сообщения.
Само собой разумеется, что состояние духа, в котором общество переживает и воспринимает свои святыни, отличается в первую очередь высокой и священной серьезностью. И еще раз: истинное, всеохватывающее состояние погруженности в игру также может отличаться глубочайшей серьезностью. Играющий всем своим существом может отдаваться игре. Сознание того, что он «ну просто играет», может быть полностью вытеснено на задний план. Радость, неразрывно связанная с игрой, сопровождается не только напряжением, но и подъемом. В настроении игры есть два полюса: безудержность и экзальтация. Не случайно оба эти слова передают некие крайние состояния. Пожалуй, можно было бы сказать, что игровое настроение всегда мажорно. Однако это подводит нас к вопросам чисто психологическим, от чего хотелось бы все-таки уклониться.
Игровое настроение по своему типу изменчиво. В любую минуту может вступить в свои права «обычная жизнь», то ли от какого-либо толчка извне, который нарушит игру, то ли от какого-нибудь поступка вопреки правилам, а то и из-за идущего изнутри ослабления накала игры, усталости, разочарования.
Как же обстоит дело с ходом и настроением священных празднеств? Слово праздновать почти все уже говорит само за себя: священный акт празднуется, то есть осуществляется в рамках праздника. Народ, направляющийся к своим святыням, готовится к совместному изъявлению радости. Освящение, жертвоприношение, священные танцы, сакральные состязания, представления и мистерии – все они обрамляются праздником. И пусть даже обряды кровавы, испытания при инициации жестоки, маски вселяют ужас, – все это разыгрывается как праздник. Обычная жизнь прекращается. Трапезы, пиршества и всяческая безудержность продолжаются в течение всего времени праздника. Взять примеры греческих или африканских праздников – и там, и там едва ли можно будет провести отчетливую границу между общим настроением праздника и священным волнением вокруг разворачивающейся в центре всего мистерии. О сущности праздника венгерский ученый Карл Кереньи, почти одновременно с появлением этой книги, опубликовал статью, которая самым непосредственным образом касается интересующего нас предмета[35]. Подобный же характер изначальной самостоятельности, который мы предположительно отнесли к понятию игры, Кереньи признаёт и за понятием праздника. «Unter den seelischen Realitäten, – говорит он, – ist die Festlichkeit ein Ding für sich, das mit nichts anderem in der Welt zu verwechseln ist»[36] [ «Из душевных реальностей <…> праздничность – это вещь в себе, которую ни с чем больше в мире не спутаешь»]. Подобно нашему суждению об игре, Кереньи полагает, что история культуры не проявила должного внимания к феномену праздника. «Das Phänomenon des Festlichen scheint den Ethnologen völlig entgangen zu sein»[37] [ «Феномен ‘праздничного’, кажется, совершенно ускользнул от этнологов»]. По реальности праздничности «gleitet man… in der Wissenschaft so hinweg, als ob sie gar nicht existierte»[38] [ «скользят мимо… в науке, так, словно ее и вовсе не существовало»]. Так же как и по реальности игры, хотелось бы нам добавить. Итак, между праздником и игрой, по самой их природе, существуют самые тесные отношения. Выключение из обыденной жизни, преимущественно, хотя и не обязательно, радостный тон поведения (праздник может быть и серьезным), временны́е и пространственные границы, существование заодно строгой определенности и настоящей свободы – таковы самые основные социальные особенности, характерные и для игры, и для праздника. В танце, пожалуй, оба эти понятия образуют наиболее полное внутреннее единство. Индейцы племени кора[39] на южном побережье Мексики называют священные праздники молодых маисовых початков и обжаривания маиса «игрою» верховного божества[40].
Идеи Кереньи о празднике как понятии культуры дают возможность укрепить и расширить основы построения этой книги. И все же утверждением о том, что настроение священного празднества и настроение игры тесно соприкасаются, еще не все сказано. С подлинной игрой, наряду с ее формальными признаками и радостным настроением, неразрывно связана еще одна существенная черта: сознание, пусть даже оно и отступает на задний план, что все это «ну просто так делается». Остается вопрос, не может ли что-то вроде подобного чувства сопутствовать и совершаемому в самозабвении священнодействию.
Обратившись к сакралиям архаических культур, мы смогли бы указать на несколько пунктов относительно серьезности, с которой все это делается. Этнологи, как я полагаю, согласны с тем, что состояние духа, в котором пребывают участники и зрители больших религиозных праздников у дикарей, не есть состояние приподнятости и иллюзии. Задняя мысль, что все это «не взаправду», здесь отнюдь не отсутствует. Живой пример такого состояния духа приводит А. Э. Йенсен в своей книге Beschneidung und Reifezeremonien bei Naturvölkern[41] [Церемонии обрезания и инициации у первобытных народов]. Мужчины, судя по всему, не испытывают никакого страха перед духами, которые бродят повсюду во время праздника, а затем являются всем в ключевые моменты. И тут нечему удивляться: ведь это те же мужчины, что осуществляют режиссуру всей церемонии; они сами изготовили маски, они сами их носят, и они же спрячут их от женщин, когда все это кончится. Они поднимают шум, возвещающий появление духа, и прочерчивают его след на песке, они дудят в дудки, представляющие собой голоса предков, и размахивают трещотками. Короче говоря, завершает Йенсен, их поведение ничем не отличается от поведения родителей, разыгрывающих Синтерклааса[42]. Мужчины потчуют женщин всевозможными враками о том, что происходит в отгороженном от других священном лесу[43]. Поведение самих посвящаемых колеблется между экстатическим возбуждением, напускным безрассудством, дрожью от страха и ребяческой заносчивостью и притворством[44]. В конечном счете женщины менее прочих поддаются обману. Они в точности знают, кто прячется за той или другой маской. Однако впадают в страшное волнение, если маска приближается к ним с угрожающим видом, и с воплями разбегаются в стороны. Это выражение страха, говорит Йенсен, отчасти совершенно стихийно и неподдельно, отчасти всего лишь традиционная обязанность. Так полагается делать. Женщины как бы выступают фигурантками в пьесе, и они знают, что им нельзя быть «шпильбрехерами»[45].
Нижнюю границу, где священная серьезность ослаблена вплоть до fun [забавного], нельзя во всем этом провести окончательно. Какой-нибудь наш по-детски простодушный папаша может всерьез разозлиться, если собственные дети ненароком застанут его за переодеванием в Деда Мороза. Индеец племени квакиутль[46] в Британской Колумбии убил свою дочь, будучи застигнут ею за вырезанием маски в ходе приготовления к культовой церемонии[47]. Шаткость религиозного чувства негров лоанго[48] в сходных с Йенсеном выражениях описывает Пехуэль-Лёше. Вера этих людей в священные представления и обычаи – это некая полувера, сочетающаяся с насмешничаньем и проявлением равнодушия. Главное – настроение, заключает он[49]. В главе Primitive Credulity [Первобытные верования] книги Р. Р. Мэретта The Threshold of Religion [Ha пороге религии] рассказывается, каким образом в примитивных верованиях в игру неизменно вступает определенный элемент «makebelieve» [ «деланой веры», «притворства»]. И колдун, и околдовываемый – оба в одно и то же время и знают, и обманываются. Но они хотят быть обманутыми[50]. «Точно так же, как дикарь – хороший актер, полностью, как ребенок, исчезающий в изображаемом персонаже, он и хороший зритель, и также и в этом подобен ребенку, способному до смерти пугаться от рева – как он знает – “ненастоящего” льва»[51]. Туземец, говорит Малиновский, ощущает свою веру и боится ее больше, чем он это сам для себя с четкостью формулирует[52]. Поведение тех, кому первобытное общество приписывает сверхъестественные свойства, часто может быть лучше всего определено как «playing up to the rôle»[53] [ «игра в соответствии с ролью»).
Несмотря на осознание доли ненастоящего в магических и сверхъестественных действиях, те же исследователи подчеркивают, что это не дает оснований для вывода, будто вся система веры и ритуальных обрядов – не более чем обман, выдуманный частью неверующих, с тем чтобы других, верующих, держать в подчинении. Впрочем, подобное представление разделяется не только многими путешественниками, но то тут, то там передается в изустной традиции и самими туземцами. Но оно не может быть справедливым. «Истоки сакрального действа могут лежать только в набожности всех и каждого, и обманное поддержание ее с целью укрепления власти какой-нибудь одной группы может быть всего лишь конечным продуктом исторического развития»[54].
Из всего предыдущего, по моему мнению, со всей ясностью следует, что, говоря о священнодействиях первобытных народов, собственно понятие игры нельзя упускать из виду ни на минуту. Не только потому, что при описании этих явлений нужно постоянно обращаться к слову играть; само понятие игры как нельзя лучше охватывает это единство и неразрывность веры и неверия, это соединение священной серьезности с дурачествами и притворством. Йенсен, правда, хотя и допускает сходство мира дикаря и мира ребенка, настаивает на принципиальном различии между поведением ребенка и поведением дикаря. Ребенок имеет дело в лице Деда Мороза с «fertig vorgeführte Erscheinung» [ «показанным в готовом виде явлением»], в котором он непосредственно «sich zurechtfindet» [ «разбирается»], опираясь на свои собственные способности. «Ganz anders liegen die Dinge bei dem produktiven Verhalten jener Menschen, die für die Entstehung der hier zu behandelnden Zeremonien in Frage kommen: nicht zu fertigen Erscheinungen, sondern zu der sie umgebenden Natur haben sie sich verhalten und sich mit ihr auseinandergesetzt; sie haben ihre unheimliche Dämonie erfaßt und darzustellen versucht»[55] [ «Совершенно по-иному обстоит дело с направленным поведением тех, кого мы принимаем в расчет в связи с возникновением обсуждаемых здесь церемоний: они вели себя так или иначе по отношению не к готовым явлениям, но к окружающей их природе и ей же противостояли; они постигли ее зловещий демонизм и попытались запечатлеть его»]. В этих словах можно узнать взгляды Фробениуса, учителя Йенсена, – мы уже касались их выше. Здесь, однако, возникают два возражения. Прежде всего Йенсен «ganz anders» [ «совершенно по-иному»] делает различие лишь между духовным процессом в душе ребенка – и в душах первоначальных создателей ритуала. Но о них нам ничего не известно. Мы имеем дело с культовым обществом, которое так же, как наши дети, получает свои культовые представления «fertig vorgeführt» [ «показанными в готовом виде»], в виде традиционного материала, и, как наши дети, на него реагирует. Оставляя этот вопрос нерешенным, мы отмечаем, что процесс «Auseinandersetzung» [ «противостояния»] опыту познания природы, ведущий к «Erfassung» [ «постижению»] и «Darstellung» [ «запечатлению»] в образах культа, полностью ускользает от нашего наблюдения. Фробениус и Йенсен приближаются к этому лишь с помощью образного языка фантазии. О функции, воздействующей на этот процесс возникновения образной речи, вряд ли можно сказать более того, что это функция поэтическая, и мы обозначим ее лучше всего, если назовем ее игровой функцией.
Подобные рассуждения уводят нас в самую глубину проблемы сущности первоначальных религиозных представлений. Как известно, одно из важнейших понятий, которое должен усвоить всякий занимающийся наукой о религии, есть следующее. Когда некое религиозное построение, занимающее промежуточное место между вещами разного порядка, например человеком и животным, принимает форму священного тождества самой их сущности, то возникающие здесь отношения не находят четкого и действенного выражения через наше представление о некоей символической связи. Единство обоих существ много глубже по самой своей сути, нежели связь между субстанцией и ее символическим образом. Это – мистическое тождество. Одно стало другим. Дикарь, исполняющий свой магический танец в образе кенгуру, и есть кенгуру. Необходимо, однако, всегда быть начеку, помня о недостаточности и различиях наших выразительных средств. Чтобы представить себе духовное состояние дикаря, мы вынуждены передавать его посредством нашей собственной терминологии. Хотим мы этого или нет, мы превращаем его религиозные представления в строго логическую определенность наших понятий. Так, мы выражаем отношение между ним и связанным с ним животным как нечто, обозначаемое для него посредством глагола быть, в то время как для нас по-прежнему вполне достаточно глагола играть. Он принял сущность кенгуру. Он играет кенгуру, говорим мы. Но ведь сам дикарь не ведает о различии понятий быть и играть, не знает о тождестве, образе или символе. И, таким образом, остается вопрос, не приблизимся ли мы лучше всего к духовному состоянию дикаря во время сакрального действа, если будем придерживаться такого первичного термина, как игра? Наше понятие игры устраняет различие между верою и притворством. Это понятие игры без всякой натяжки соотносится с понятием освящения и священного. Любая прелюдия Баха, любая строка трагедии служит тому доказательством. Рассматривая всю сферу так называемой примитивной культуры как игровую, мы открываем для себя возможность более непосредственного и более общего понимания ее характера, нежели с помощью остро отточенных методов психологического или социологического анализа.
5
Обзор этих теорий см.: Zondervan H. Het Spel bij Dieren, Kinderen en Volwassen Menschen. Amsterdam, 1928; Buytendijk F. J. J. Het Spel van Mensch en Dier als openbaring van levensdriften. Amsterdam, 1932.
6
Sub specie ludi – букв. под видом (формой) игры (лат.), т. е. под углом зрения игры, с точки зрения игры. Эти слова представляют собой парафраз известного выражения Спинозы: «Sub specie aeternitatis» – «под видом (формой) вечности», т. е. «с точки зрения вечности».
7
Платон сравнивает людей с куклами-марионетками, которыми играют боги (Законы, I, 644d—645a; VIII, 803c—804b – ср.: см. выше, с. 35–37), он же говорит об общественном устройстве идеального государства как о трагедии: «…мы и сами – творцы трагедии, наипрекраснейшей, сколь возможно, и наилучшей. Ведь весь наш государственный строй представляет собой подражание самой прекрасной и наилучшей жизни. Мы утверждаем, что это и есть наиболее истинная трагедия» (там же, VII, 817b).
8
Vanitas – суетность, тщетность (лат.) – аллюзия на библейское «Vanitas vanitatum et omnia vanitas» – «Суета сует и всё – суета» (Еккл. 1, 2).
9
Ratio – здесь: разумное начало, принцип, смысл (лат.).
10
Petitio principi – предвосхищение основания (лат.) – распространенная логическая ошибка, когда доказательство строится на предпосылке, которая сама нуждается в доказательстве.
11
Слово spelbreker, ломающий игру, – неологизм Хёйзинги, по аналогии со штрейкбрехером (нем. Streikbrecher, ломающий забастовку), – «по-русски» вполне логично передать как шпильбрехер. – Коммент. пер.
12
Fair – чрезвычайно многозначное английское слово, здесь означающее честный, справедливый, беспристрастный, законный. Подразумевает весьма важное для дальнейших рассуждений одно из ключевых понятий английской культуры – a fair play, игра по правилам, то есть честная игра, без мошенничества, запрещенных приемов, с уважением к противнику.
13
Латинское слово illusio (архаический вариант inlusio) – насмешка, ирония, а также обман, заблуждение – образовано от глагола illudo (в архаической форме inludo: из in, в и ludo), весьма многозначного слова, включающего значения играть, шутить, веселиться, насмехаться, обманывать, дурачить.
14
Outlaw – человек вне закона (англ.) – букв. изгой, изгнанник, беглец.
15
Фратрия – группировка нескольких родов одного племени. Фратрии имели свои наименования, между входившими в них родами предполагалось тесное сотрудничество, общий культ. Возрастные классы – группы, на которые делилось первобытное племя; обычно таких классов было четыре: дети, молодежь, взрослые, старики; у некоторых народов каждый из классов подразделялся на два по половому признаку. Мужские союзы – объединения взрослых мужчин у многих народов, живших (и даже ныне живущих) родовым строем. Союзы эти имели магические и военно-магические задачи, деятельность их тщательно скрывалась от женщин, а иногда и прямо была направлена против последних. В иных случаях в союз входили все мужчины племени, в других – в племени было несколько таких союзов: молодые холостяки, старики, вожди, особо отличившиеся воины и т. д.
16
Инициация (от лат. initiatio – посвящение) – распространенная в архаических обществах система ритуалов, связанная с переходом из одного возрастного класса в другой, как правило из разряда молодежи в полноправные взрослые члены племени, иногда – и из класса детей в класс молодежи. У некоторых народов инициацию проходили только юноши, у иных – и девушки. Обряды инициации включали в себя временное отделение от племени, посвящение в ритуалы, ознакомление с мифами, истязания, часто мучительные, иногда – определенные операции (татуировка, выбивание зубов, обрезание, кое-где – ритуальная дефлорация). Инициация символизировала смерть члена одного возрастного класса и его возрождение в качестве члена другого возрастного класса.
17
Ряд исследователей (и Хёйзинга солидаризируется с ними) полагает, что карнавалы и римские сатурналии связаны с праздниками обновления мира. Прежде чем воспроизвести в обряде сотворение мира, нужно воспроизвести состояние хаоса, из которого возник мир. Потому в карнавале отменялся земной порядок, граница между людьми и животными (маски), поощрялась половая травестия, в сатурналиях в Древнем Риме упразднялся социальный порядок, рабы ели, пили и веселились, а господа прислуживали им. Все это происходило в атмосфере безудержного веселья.
18
Granet M. Fêtes et chansons anciennes de la Chine. Paris, 1914, p. 150, 292; Idem. Danses et légendes de la Chine ancienne. Paris, 1926, p. 351 sq.; Idem. La civilisation Chinoise. Paris, 1929, p. 231.
19
Древнегреческие слова δρώμενον и δράμα, восходящие к глаголу δράω – делать, действовать, первоначально означали одно и то же – действие, дело.
20
«As the Greeks would say, rather methectic than mimetic» [ «Как сказали бы греки, скорее метектическая, нежели миметическая»]1*. – Harrison J. Е. Themis, A study of the social ori gins of Greek religion. Cambridge, 1912, p. 125.
21
Marett R. R. The Threshold of Religion. London, 1912, p. 48.
22
Buytendijk. Loc. cit., p. 70–71.
23
Древнейший период индийской религии (середина II–I тыс. до н. э.) историки именуют ведийским, по Ведам (санскр. веда – знание, слово произведено от того же общеиндоевропейского корня, что и русское ведать), священным книгам, представляющим собой сборники гимнов, молитв, заклинаний, жертвенных формул и т. п. Всего существуют четыре Веды: Ригведа (Веда гимнов), Самаведа (Веда мелодии), Яджурведа (Веда жертвоприношений) и Атхарваведа (Веда заклинаний). Архаическая индийская религия по сути своей магична: если в монотеистических религиях основное место занимает молитва, то есть обращение к божеству, просьба, которую это божество может принять или отвергнуть, то в магических верованиях заклинание обладает принудительной силой. Согласно древнеиндийским представлениям, боги не могут не выполнить обращенного к ним требования, подкрепленного жертвоприношением, если ритуал этого жертвоприношения проведен правильно и жертвенная формула произнесена безошибочно. В Ведах упоминается Брихаспати, или Брахмаспати (Господин молитвы), – божество заклинаний и жертвоприношений, согласно Атхарваведе – это отец богов и создатель мира.
24
Cambridge, 1912.
25
Куреты – в греческой мифологии демонические существа, составляющие окружение матери богов Реи. Верховный бог Кронос пожирал своих детей, рожденных от Реи, ибо ему было предсказано, что сам он погибнет от руки сына. Последнего из детей, Зевса, Рея спасла, спрятав в пещере на Крите. Когда младенец плакал, куреты, дабы не дать его обнаружить, заглушали плач ударами копий о щиты, экстатическими криками и плясками. В поздней Античности куреты считались наставниками людей в полезных занятиях – пчеловодстве, скотоводстве, домостроительстве – и составляли свиту Афины.
26
Frobenius L. Kulturgeschichte Afrikas, Prolegomena zu einer historischen Gestaltlehre. Phaidon Verlag, 1933; Idem. Schiksalskunde im Sinne des Kulturwerdens. Leipzig, 1932.
27
В XIX – начале XX вв. в науке господствовала солярно-метеорологическая теория, согласно которой все мифологические сюжеты объяснялись тем, что первобытное сознание очеловечивало естественные феномены, в первую очередь движение солнца (солярная теория) или звезд (астральная теория). Мотив освобождения девы интерпретировался, например, как метафора солнца (дева), поглощаемого ночью (дракон) и освобождаемого утренней зарей (рыцарь). Помимо того, большой популярностью пользовалась гипотеза английского этнолога Джеймса Джорджа Фрейзера (1854–1941), выдвинутая в его капитальном труде The Golden Bough: A Study in Magic and Religion (Золотая ветвь. Исследование магии и религии; существует множество вариантов; основной, объемом 12 т., вышел в свет в 1911–1915 гг.). Фрейзер группирует все первобытные верования вокруг центрального ритуала – умерщвления священного царя-жреца его преемником (из этого Фрейзер выводит и идею умирающего и воскресающего божества).
28
Loc. cit., S. 23, 122.
29
Kulturgeschichte… S. 21.
30
Ibid., S. 122. «Ergriffenheit» как момент детской игры, S. 147; ср. заимствованный Бёйтендейком у Эрвина Штрауса термин «анормальная (pathisch) установка», «захваченность» как основа детской игры. Loc. cit., S. 20.
31
Schicksalskunde… S. 142.
32
Leges [Законы], VII, 803 с.
33
«οὔτ ούν παιδιά… οὔτ αύ παιδεία» (ут ун пайдиá… ут áу пайдéйа) [ «итак, это и не игра… и вовсе не воспитание»].
34
Ср.: Leges [Законы], VII, 796, где Платон говорит о священных танцах куретов как о «Κουρήτων ἐνόπλια παίγνια» (курéтон энóплиа пáйгниа) [ «вооруженных играх куретов»]. Внутренние взаимосвязи между священной мистерией и игрой тонко отмечены Романо Гуардини в главе Die Liturgie als Spiel [Литургия как игра] его книги Vom Geist der Liturgie [О духе литургии], S. 56–70 (Ecclesia orans. Hrsg. von Dr. Ildefons Herwegen. I. Freiburg i. В., 1922). He упоминая Платона, Гуардини почти вплотную приближается здесь к вышеприведенному высказыванию. Он приписывает литургии ряд признаков, которые мы выделяем как характерные признаки игры. В конечном итоге литургия также «zwecklos, aber doch sinnvoll» [ «не имеет цели, но полна смысла»].
35
Vom Wesen des Festes. Paideuma, Mitteilungen zur Kulturkunde. I. Heft 2 (Dec. 1938), SS. 59–74. Ср. его же: La Religione antica nelle sue linee fondamentale. Bologna, 1940, cap. II: Il senso di festivita [Чувство праздника].
36
Loc. cit., S. 63.
37
Loc. cit., S. 65.
38
Loc. cit., S. 63.
39
Кора – индейский народ на западе Мексики. Ныне насчитывает около 8 тыс. человек и обитает в долинах и на склонах горной цепи Западная Сьерра-Мадре. До испанского завоевания численность кора достигала 150 тыс. человек, они населяли обширные территории от Западной Сьерра-Мадре до тихоокеанского побережья. Сохраняли независимость до 1720 г., после покорения численность их резко сократилась. В XVIII в. были обращены в католичество, но до сего дня сохранили пережитки дохристианских верований. Ныне, впрочем, многие древние ритуалы (праздник жареной кукурузы, танцы вызывания дождя) воспринимаются как народные празднества.
18* Синтерклаас – он же Санта-Клаус (св. Николай), Рождественский дед, Дед Мороз.
40
Loc. cit., S. 60, по: Preuss K. Th. Die Nayarit-Expedition, I, 1912, S. 106 ff.
41
Stuttgart, 1933.
42
Loc. cit., S. 151. У Йенсена здесь, естественно, Weihnachtsmann [Рождественский дед].
43
Loc. cit., S. 156.
44
Loc. cit., S. 158.
45
Loc. cit., S. 150.
46
Квакиутль (квакиютл) – индейский народ, живущий на крайнем юго-западе Канады (о. Ванкувер и близлежащее побережье материка); численность – около 1 тыс. человек. Была весьма развита резьба по дереву, в частности изготовление тотемных столбов и ритуальных масок. Это искусство практически исчезло в начале XX в., но с 70-х гг. снова возрождается в резервациях в качестве сувенирной промышленности.
47
Boas. The social Organisation and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians. Washington, 1897, p. 435.
48
Лоанго – прибрежная область в Экваториальной Африке между устьями рек Огове и Конго (иное название реки – Заир). Во время написания Homo ludens входила в состав французских, бельгийских и португальских владений, ныне – в Габоне, Конго и Анголе. Название область получила по туземному королевству Лоанго, существовавшему там с XIV в. до европейских завоеваний в XIX в. Этнографы XIX – начала XX вв. именовали термином лоанго население одноименной области, в большинстве своем принадлежавшее к вили – племенной группе народа (фактически – совокупности племен) конго.
49
Volkskunde von Loango. Stuttgart, 1887, S. 345.
50
Loc. cit., SS. 41–44.
51
Loc. cit., S. 45.
52
Argonauts of the Western Pacific. London, 1922.
53
Ibid., p. 240.
54
Jensen, l. c., S. 152. К этому способу истолкования церемоний инициации и обрезания как намеренного обмана вновь прибегает, как мне кажется, отвергаемая Йенсеном психоаналитическая теория.
55
Loc. cit., SS. 149–150.
Глава вторая