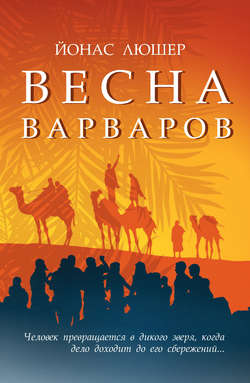Читать книгу Весна варваров - Йонас Люшер - Страница 3
I
Оглавление– Нет, – сказал Прейзинг, – не о том ты спрашиваешь.
Он встал посреди дорожки, чтобы подчеркнуть серьезность своего упрека.
Невыносимая его привычка… Из-за нее мы гуляем по этой посыпанной гравием дорожке, как две старые, страдающие одышкой и избыточным весом таксы. И все же каждый день я именно с Прейзингом выхожу на прогулку, ведь он, несмотря на все досадные черты характера, для меня здесь лучший товарищ.
– Нет, – повторил Прейзинг, наконец тронувшись с места, – ты спрашиваешь не о том.
Прейзинг говорил уж очень много, к тому же высказываниям своим он придавал чрезвычайное значение, да еще и знал наперед, как следовало бы поставить вопрос, дабы поток его словес устремлялся в нужное русло. Мне – в известной степени узнику здешних мест – ничего почти не оставалось, как только следовать намеченному им курсу.
– Погоди-ка, – продолжал он, – я сумею подыскать тому доказательства и ради исполнения такового намерения поведаю тебе некую историю.
Вот опять одна из привычек: использовать такие обороты речи, которые сохранились, как он доподлинно знал, единственно в его репертуаре. Подозреваю, впрочем, что эту дурь за последние недели волей-неволей позаимствовал у него и я сам. Порой возникали веские причины усомниться в том, что общение шло и ему, и мне на пользу.
– История весьма поучительная, – пообещал он. – История, сплошь состоящая из невероятных поворотов, опасных приключений и экзотических соблазнов.
Тот, кто ожидает теперь скабрезного рассказа, глубочайшим образом ошибается. Прейзинг никогда не упоминал о своей интимной жизни. Тут мне и опасаться не стоило – я слишком хорошо его знал. Да была ли та жизнь? Остается лишь строить предположения, с трудом воображая эдакое. Хотя и обмануться легко. Ведь я сам иногда удивляюсь, глядя в зеркало, что человек, в котором так мало жизни, способен был отдать кому-то ее частичку. Прейзинг, готовясь приступить к рассказу, задержал шаг, как будто бросая взгляд в прошлое, вроде бы представшее ему на горизонте, а горизонт у нас тут совсем неподалеку, ибо он образован верхним краем желтой стены. Еще Прейзинг прищуривал глаза, задирал повыше нос и складывал трубочкой свои тонкие губы.
– Возможно, – завел он наконец рассказ, – вовсе ничего бы и не случилось, когда бы Проданович не отправил меня в отпуск.
Проданович – это не домашний врач, хотя именно он поместил сюда Прейзинга. Проданович – это некогда молодой и все еще блестящий сотрудник Прейзинга, тот самый, кто изобрел вольфрамовую схему-CBC – электронный элемент, без которого во всем мире ни одна антенна радиосвязи не могла бы осуществлять свою работу и который спас унаследованное Прейзингом коммандитное товарищество по приему телевизионного сигнала и наружным антеннам от грозящего банкротства, а далее вывел его на немыслимые высоты лидерства в производстве схем-CBC на мировом рынке.
Отец Прейзинга, повременив с уходом в иной мир ровно столько времени, сколько понадобилось самому Прейзингу, чтобы завершить экономическое образование, прерванное полуторагодовой учебой в частной школе вокального искусства в Париже, завещал сыну производство телевизионных антенн с тридцатью пятью работниками в то время, когда кабельное телевидение давно уже вступило в свои права. Фирма, выросшая из дедовской мануфактуры «Дроссель & Потенциометр», где предки Прейзинга ранили пальцы в кровь, перематывая тонкую медную проволоку, обеспечивала тогда едва ли не весь свой оборот производством многометровых, но почти безусых, а оттого действительно недорогих антенн, которые радиолюбители – увы, тоже вымирающая порода – имели обыкновение ставить на крышах.
Прейзинг, лично ни в чем не повинный, возглавил гиблую ту фирму, когда требовалось принять ряд действенных решений, то есть и сомневаться не стоит, что предприятие не дожило бы доныне, если бы тот самый Проданович, молодой специалист-метролог, не разработал вольфрамовую схему-CBC и не взял бразды правления в свои руки. Значит, Проданович был в ответе и за то, что Прейзинг со временем стал не просто состоятельным собственником, но еще и генеральным директором общества с полутора тысячами сотрудников и филиалами на пяти континентах. Для видимости хотя бы, ведь операционную деятельность динамичного предприятия, ныне носившего динамичное название Prixxing, давно вел Проданович вместе с командой успешных людей, готовых к принятию решений и созданию ценностей.
Однако и Прейзинг как лицо фирмы был пока востребован, ибо Проданович знал, что одного у Прейзинга не отнять: он умеет внушить ощущение надежности, прочности семейной фирмы в четвертом поколении. Лишь в этом одном отказывал себе Проданович, сын боснийского буфетчика, ибо сам придерживался мнения, что балканщина символизирует нестабильность, а уж такого впечатления следует избегать любой ценой. Проданович, когда только позволял плотный график, с удовольствием проводил по городским школам непродолжительные встречи с трудновоспитуемыми, являя собой пример успешной интеграции в общество. Итак, этот самый Проданович, обладатель всех полномочий, отправил Прейзинга в отпуск. Именно так он поступал, когда назревала необходимость важных решений.
Прейзингу удалось, как я сразу догадался, с самых первых слов своего рассказа увильнуть от ответственности: мол, виновник последующих событий вовсе не он сам.
Не пришлось ему и решать, куда ехать. Проданович, сама эффективность, всегда старался совместить приятное с полезным. В данном случае это означало, что Прейзингу надо слетать в Тунис, где в низеньком строеньице из гофрированной стали в промышленной зоне, каких немало вокруг Сфакса, прямо на дороге в столицу размещается одно из их предприятий-поставщиков. Хозяин сборочного завода Слим Малук – оборотистый делец, развернувший деятельность в таких несходных областях, как изготовление электронных приборов, торговля фосфатами и эксклюзивный туризм. Ему принадлежит целый ряд элитных отелей, Прейзинг станет его гостем.
Малук искал сближения со всеми, кто имел какое-то отношение к телекоммуникациям, но не просто оттого, что за телекоммуникациями он видел будущее, теперь это каждый видит, а ради спасения фамильного предприятия. Четырем своим умным и, как заверял Прейзинг, внешне весьма приглядным дочерям он не мог передать – к великому сожалению, но таковы тунисские порядки – управление семейным холдингом, так что ответственность ложилась полностью на плечи его сына. На плечи Фуада Малука, преждевременно согбенные под моральной тяжестью изучения геоэкологии в Париже, что не позволяло ему возглавить фирму, где основной оборот делают фосфаты, которые впоследствии в виде искусственных удобрений лежат на салатных полях Европы. Фуад даже грозил отцу попытать счастья в каком-то экологически чистом крестьянском хозяйстве департамента Ло. Слим Малук, человек не просто порядочный (Прейзинг полагал, что составил о нем верное представление), но еще и разумный, намеревался отойти от фосфатов и сделать упор на телекоммуникации, отчего и возлагал надежды на знакомство с Прейзингом.
Итак, Прейзингу предстояло бегство из туманного Зееланда прямиком в тунисскую весну. Твидовый пиджак и вельветовые брюки цвета бургундского вина он сменил на пиджак в мелкую клетку цвета яичного ликера и свободные хлопковые штаны с заутюженной складкой – костюм, с его точки зрения, недопустимый, однако подготовленный для него экономкой, которую он побоялся обидеть, а потому лишь мягко улыбнулся и уселся в ее машину (ведь собственной машины Прейзинг не имел), чтобы та отвезла его в аэропорт.
– Полет прошел на редкость приятно, – уверял меня Прейзинг. – Против обыкновения, я употреблял спиртное. Стюардесса меня не расслышала и вместо заказанного сока подала виски, но я не стал отказываться, я расчувствовался из-за того, что ее нескладная фигура столь резко не соответствовала бесчисленным стилизованным газелям, украшавшим ее униформу. Стюардесса была действительно нехороша собой, а пассажиры, считая себя лишенными одного из удовольствий, которое якобы оплатили вместе с приобретенным авиабилетом, пытались на ней отыграться. Справедливости ради следовало использовать любую возможность быть с нею полюбезнее, поэтому за первой порцией виски последовала вторая, а за второй порцией последовала третья.
Слим Малук в сопровождении старшей из дочерей встречал Прейзинга в прохладном зале аэропорта Тунис-Карфаген, и, когда Прейзинг увидел, каким на зависть величавым взмахом руки Малук отогнал по жаре водителя такси от здания аэропорта и пригнал на его место своего шофера, он на миг едва не поверил сплетне, будто Малук является внебрачным сыном Роже Тринкье, автора пособия «La Guerre Moderne»,[1] и его алжирской любовницы, которая в ту ночь, когда французы оставили Магриб, с малюткой Слимом на руках бежала в Тунис через пустыню. Благодаря своим прелестям и освоенной машинописи, она вскоре устроилась здесь на место секретарши, а далее жены некоего второразрядного депутата из партии Нео-дестур, замышлявшего покушение на президента Бургибу, осуществить которое не позволил лишь инфаркт, разбивший парламентария посреди заседания и заодно принесший ему, погибшему при несении службы отечеству, посмертный орден, а его вдове, бывшей любовнице французского палача алжирцев, изрядную пенсию.
Но источник, как помнилось Прейзингу, недостоверен. Этот сюжет поведал ему некий человек по имени Монсеф Дагфус, который не просто был злейшим конкурентом Малука, но еще и предлагал Прейзингу сборку схем-CBC на своем заводе в пригороде Туниса по значительно более выгодной цене, причем откровенно признавался, что эта исключительно выгодная цена объясняется в первую очередь использованием труда беженцев из Дарфура, малолетних динка. Да еще и называл их ловкими ребятами. Прейзинг рад бы сразу отказаться, но ведь с детским трудом все не так-то просто. Вспомнилось ему, как однажды они с Продановичем ужинали в клубе либералов-предпринимателей, а сосед по столу объяснял, насколько сложна вся история с этим детским трудом. Намного сложнее, чем того желал бы любой доброхот, да ведь дело-то совсем не простое, а при определенных обстоятельствах оно, может, и не худшее из зол. Сейчас Прейзинг не был уверен, что столкнулся с теми самыми определенными обстоятельствами, ведь тогда он с большим усилием вникал в пояснения молодого человека. Но на всякий случай он отложил решение, ведь хорошо бы сначала посоветоваться с Продановичем, так что Монсеф Дагфус, услышав весьма смутные отговорки, остался не при делах.
Но в оценке он ошибся. Он принял Прейзинга за крупного игрока. Скомпрометировав Слима Малука, своего конкурента, сомнительным его происхождением, завлекая Прейзинга невероятно низкими ценами, но все равно не став ему деловым партнером, он пустил в ход тяжелую артиллерию и вызвал шестерых своих дочерей. Мол, предоставляется возможность выбора, бери любую, а по возрасту все они на выданье, правда, вторая слева уже помолвлена, но в случае необходимости отчего же не устроить жениху дорожную аварию, хотя дело это деликатное, да вдобавок и пять остальных ничем не уступают шестой, нареченной. «Voilà!» – сказал он, указав на своих дочерей и разведя руками. «Voilà!» – отозвался Прейзинг, ибо не знал, что сказать.
Разумеется, Прейзинг был шокирован, но ведь он – убежденный сторонник культурного релятивизма, причем весьма далекого от шовинизма толка. Его либеральные взгляды – тепленький, как вода в детской ванночке, релятивизм. Тем не менее он всегда готов вынести перед собой на прогулку, подобно хоругви, этику добродетелей. Прейзинга, большого поклонника Аристотелева учения о «мезотес», всегда утешало, что эту самую «середину» не вычислить арифметическим способом, она определяется – да, вот именно – в каждом случае отдельно. А тут сталкивались миры. Тут следовало быть поосторожней. Труднейший для него случай, когда надо всерьез пораскинуть умом.
Я уж было испугался, что его рассказ клонится к магрибской Шехерезаде. Вот он, экзотический соблазн: Прейзинг перед лицом шести тунисских малолеток, предложенных ему отцом как choix de fromage, как сыр на выбор в ресторане «Кроненхалле». История все-таки грозила стать скабрезной.
– Но именно тогда, когда стало совсем невмоготу, – продолжал Прейзинг, – когда этот человек принялся мне пенять, что если дочери недостаточно хороши, то нет ли смысла выпроводить их отсюда, а взамен пригласить троих его сыновей, когда я приложил все усилия, заверяя его, что выбор мучителен, ибо каждая из шести неповторима в своей привлекательности, а сам внутренне пытался найти выход, чтобы вовсе отказаться от предложения, но не обидеть его смертельно, именно тут явился за ним прислужник, на лице – лихорадочные красные пятна. Пожар на одном из фосфатных заводов! Монсеф Дагфус, оставляя меня на попечение дочерей, которые трогательнейшим образом за мною ухаживали, пообещал вскоре вернуться, чтобы узнать о моем решении.
Однако этого не случилось. Покуда дочери под надзором старухи подносили мне чай и сладости, Монсеф Дагфус размахивал руками и дико орал, пытаясь загнать рабочих обратно в очаг пожара, чтобы те вступили в битву с огнем. Но ни взмахи, ни стращание не возымели действия, и тогда он схватил ведро песка с лопатой и шагнул, подавая пример личного мужества, прямиком к горящему складу, навстречу порожденной мощным взрывом ударной волне, оторвавшей Дагфусу голову, а его фосфатный завод, гофрированную сталь, допотопные конвейеры, французские экскаваторы и американские погрузчики разметавшей широким радиусом по каменистому ландшафту.
– Тот же слуга принес печальную весть, и я настроился на фольклорный траурный обряд. Громкие стенания, вырывание волос пучками, картинное расцарапывание искаженных горем лиц, обмороки и все такое прочее. Вместо этого шесть дочерей молча переглянулись, унесли стаканы и серебряный чайник, а меня выставили за дверь с недоеденной пахлавой в руке.
Правду ли рассказывал Прейзинг, нет ли – нипочем не разберешь, но суть не в том. Для Прейзинга суть в морали. По его мнению, в любой истории, достойной пересказа, содержится мораль. Обычно эти истории свидетельствуют о собственной его благоразумности, которую он столь высоко превозносит.
Благоразумности, которую доктор Бечарт считает подлежащей лечению, но для которой даже через три недели после поступления Прейзинга все еще не подыскала точного определения в психопатологии. Диагностика затрудненная, симптоматика неявная, к тому же нежелание пациента признать свою болезнь, проявлявшееся то вдруг в любезности и доброжелательности, то опять в твердолобом упрямстве, нисколько не упрощало дела.
Моя заурядная депрессия несравненно проще поддавалась диагностике и тем самым не представляла особого интереса. Хотя оба мы – что Прейзинг, что я – не могли признать себя способными к самостоятельным действиям. Ему удалось приписать этот явный порок к своим добродетелям. Я же, напротив, очень от него страдаю. Но попытка что-либо изменить означала бы действие.
– Так или иначе, – продолжал Прейзинг, – сведения поступили из недостоверного источника, да и без того поведение Слима Малука не давало ни малейшего повода усомниться в безупречном его происхождении. По всей форме усадил он меня рядом с дочерью Саидой на заднее сиденье французского лимузина, чьи мореходные качества на разбитых мостовых Туниса вызвали у меня в памяти скачку на верблюде – впрочем, о верблюдах несколько позже, – перебил Прейзинг сам себя. – Слим Малук захлопнул за мною дверцу, а сам сел за руль стоявшего совсем рядом, но не замеченного мною внедорожника. Прижав трубку к уху и обворожительно сделав нам ручкой, он умчался прочь. Мы увидимся снова лишь вечером. К глубочайшему сожалению, как он меня уверял, ссылаясь на исключительную занятость, но зато Саида позаботится обо мне и проводит в один из находящихся в ее ведении отелей, предоставив мне там кров на первую ночь.
Жестом, исполненным достоинства и развеявшим мои последние сомнения относительно семейства Малук, указывала мне Саида на достопримечательности, которые проплывали за тонированными автомобильными стеклами. Краешек Тунисского озера, несколько метров авеню Хабиба Бургибы, супермаркет Magasin Général, какие-то диковинные двери. Я с интересом крутил головой. Так, будто вижу все это впервые. Малуку необязательно знать, что около года назад я уже провел несколько дней в Тунисе по приглашению Монсефа Дагфуса, его конкурента.
Машина остановилась на одной из улочек близ Place de la Victoire перед выбеленным известью четырехэтажным зданием с синими оконными ставнями, со множеством стройных колонн и узорной кладкой в мавританском стиле. Дверца автомобиля открылась, и Саида объявила: L`Hôtel d`Elisha. Ах, Элисса, известная также под римским именем Дидона, основательница и правительница Карфагена…
– Ах, Дидона… – Прейзинг с видом знатока сложил губы трубочкой и вновь замедлил шаг. – Из всех богов, из всех богоподобных, – затянул он, – Дидона для меня всегда была милейшей, а то и самой близкой. Дидона, ради блага отечества, хотя ты со мной согласишься, что Карфагену как империи более подходит определение «родина», а не «отечество», – тут Прейзинг обернулся ко мне, – ради блага отечества настойчиво призывавшая принять смерть добровольно или же заплатить жизнью за неповиновение. А когда пришел ее черед, когда брак с царем Ярбом – и деспотом, и малодушным, отпрыском нимфы ливийской, уроженки страны гарамантов, и Юпитера-бога – мог бы предотвратить штурм Карфагена, царица недолго медлила, она велела сложить и разжечь погребальный костер, как это запечатлено на одной из душераздирающих иллюстраций в Vergilius Vaticanus, в Ватиканском Вергилии, и на полыхающем костре вонзила меч себе в грудь. Из этого, – продолжал Прейзинг, растопыренной ладонью мягко подталкивая меня в спину, как будто это я встал посреди дорожки, – следуют кое-какие выводы и для деловой жизни. Если руководитель обращается с призывом, то в первую очередь сам обязан ему следовать. Если расходы на копирование слишком велики и приходится призывать к бережливому использованию копировальной техники, то и самому надо копировать меньше, а уж коль не получится, так не копировать вовсе.
Итак, он насвистывал первые такты посвященной Дидоне оперы Перселла, когда администратор Саида Малук вела его в L’Hôtel d’Elisha, упорно называемый им отелем «Дидона» – L’Hôtel Dido, – ведь именно под таким именем любезная царица известна была своему народу. Все мавританское осталось за пределами этого космополитического бутик-отеля, запечатленного в разных глянцевых журналах под рубрикой «Заповедные уголки». В интерьере довлели рустованный цемент, шероховатые стены и полы сизого оттенка попеременно с темным дощатым настилом, на котором размещались, предлагая присесть, какие-то интересные предметы мебели. Украшением стен служили немногочисленные изображения Дидоны из разных эпох.
Дань местным традициям – или тому, что во всем мире любитель прятаться в заповедных уголках принимает за таковые, – здесь отдавали лишь краткие иронические цитаты. Феска, служившая абажуром на ночном столике, два-три узорных изразца, будто случайно брошенные и застывшие в цементном полу, тут кисточка, там чуточку резьбы по дереву. А в качестве лейтмотива – воловьи шкуры, их Прейзинг приметил с особой радостью посвященного.
– Воловьи шкуры! – Он и теперь не мог сдержать восторга. – Воловья шкура, Дидона, шкура! Дидона и воловья шкура?
Я только пожимал плечами. А Прейзинг вошел в раж:
– Изопериметрическая проблема, она же «задача Дидоны»!
Один знакомый время от времени дарил ему книжки про математические чудеса и загадки: «Последняя теорема Ферма», «Гипотеза Гольдбаха», «Задача коммивояжера». Прейзинг читал эти книжки (ему вообще нравилось читать, хотя и не нравилось стоять в книжном магазине перед забитыми стеллажами и перед выбором), и как уж тут не сразить кого-нибудь вроде меня удивительной историей из мира чисел.
На деле же трудно ввергнуть в изумление такого, как я. Ему давно пора это понять. Изумление есть попытка преодолеть сопротивление мира, но у такого, как я, слишком уж мала для этого площадь воздействия, что в равной степени относится и к самому Прейзингу. Он не упустил возможности мимоходом сбагрить мне историю про Дидону и воловью шкуру.
– Дидона и ее спутники, – наставительно начал он, – опасаясь гнева Пигмалиона, покинули Тир и прибыли на Кипр, где похитили пятьдесят девушек, а согласно некоторым источникам и все восемьдесят, и в конце концов высадились на североафриканском побережье. Дидона выпрашивала у местных жителей клочок земли для себя и для спутников – такой, какой охватит одна лишь шкура вола. Желанию прекрасной беглянки пошли навстречу. Дидона же разрезала воловью шкуру на узкие ремешки и выложила их полукругом, отхватив значительную часть берега.
Богатая изобретательность прекрасной героини мифа – я полагаю, Прейзинг предпочитал мифологических женщин реальным – заставила его прибавить шагу, так что и наша прогулка, и его история продвинулись вперед.
– Я пропускаю, – вновь заговорил Прейзинг, – ужин в доме Малука, все лакомства, всю элегантность и экзотику. Жена его – très charmante[2] и удивительно современна. Не дом – дворец, очень традиционный, но повсюду телевизоры. Мило, очень мило. И все же – деловой ужин. Хотя о делах мы почти не заговаривали. Пропускаю, к сути это нисколько не имеет отношения. Как и поход на базар следующим утром, предпринятый мною в сопровождении Саиды. Захватывающе, грандиозно. Ароматы. Но это другая история. Кстати, и краски – грандиозно.
Так вот, около полудня я отбыл из столицы на внедорожнике. Один из подчиненных Слима Малука находился за рулем, Саида разместилась подле меня на заднем сиденье, ее ассистент уселся рядом с водителем. Скоро миновали мы пригороды Туниса, и в поездке я наслаждался пейзажем – чем далее, тем более суровым. Мы держали путь к оазису Чуб, где Саида управляла еще одним эксклюзивным отелем во владениях отца. С ассистентом она обсуждала критическое состояние британской финансовой системы. В последние дни фунт резко упал. Велика опасность, что в дальнейшем принимать гостей из Англии не придется. Положение, и в самом деле тревожное, в те дни представлялось уж и вовсе непонятным. Чуть ли не ежедневно поступали известия о новых скандалах. Бесчисленные операции английских банков между собой, а также и с другими институтами, едва державшимися на грани падения, становились все менее и менее прозрачны. Саида и ее помощник – оба они рассуждали весьма компетентно и, похоже, знали в деле толк – опасались худшего. Что до меня, то несколькими днями ранее я твердо постановил не придавать значения происходящему. Однажды взяв за правило исключать из числа своих забот те непрозрачные дела, что и в целом едва ли доступны пониманию и находятся вне пределов моего собственного разумения, я не сожалею об этом и поныне.
Сам по себе ландшафт пустыни мне как-то особенно мил. Простор и даль, прямая как стрела дорога, и мы мчимся по этой дороге вперед. Только остались позади холмистые предместья и показались вдалеке величественные пески, как и для меня самого остались позади и городской шум, и льстивые речи Слима Малука, и вечная забота на лице Продановича.
Как вдруг – мертвые верблюды. Внезапно мне пришлось оторваться от вдумчивого созерцания проплывающих мимо дюн. Картина, открывшаяся взгляду всего-то метрах в тридцати перед нами, на мгновение лишила всех нас дара речи, а водитель резко нажал на педаль тормоза, чтобы остановить машину. Серебряный монстр – туристический автобус с боковыми зеркалами наподобие слоновьих ушей, которые почему-то торчат по обе стороны дороги, – стоял как вкопанный на темной ленте асфальта, отражая солнце пустыни. Десяток, а то и полтора десятка верблюдов вповалку валялись на земле вокруг вставшего автобуса – и поодиночке, и грудой костлявых тел и обвисших горбов. Вывернутые, обессиленные верблюжьи шеи выглядели поистине безобразно. Одного верблюда буквально намотало на двойную переднюю ось автобуса. Неестественно вытянутая шея вяло повисла на разогретой резине громадного колеса, язык вывалился из открытой пасти с обнаженными желтыми зубами, нога застряла между колесом и кузовом, указывая прямо в небо мозолистой ступней, согнутой под острым углом. Туловище, стиснутое двумя колесами, не выдержало давления, и внутренности изверглись на дорогу.
Вокруг бездыханных животных собралась небольшая толпа. Мало сказать, что в воздухе висело напряжение. Двое-трое солдат в камуфляжной форме и зеленых беретах пытались успокоить пятерых или шестерых разъяренных бедуинов, но и у тех имелось оружие. Сзади, за солдатами, стоял в голубой рубашке с коротким рукавом, обливаясь потом, шофер автобуса с зияющей раной на лбу и в ответ последними словами ругал погонщиков. За зеркальными окнами автобуса смутно виднелись лица многочисленных туристов: одни глазели на эту сцену, побледнев и разинув рты, другие прилипли к окнам, стараясь загрузить на карты памяти как можно больше подробностей злосчастного происшествия, чтобы вернуться домой с иллюстрациями к своему рассказу.
Тем временем мы, прогуливаясь, дошли до желтой стены и свернули влево, на широкую дорожку, которая следовала изгибам нашей ограды. Здесь Прейзинг несколько оживился. Он взмахивал руками и пританцовывал на ходу, прытко исполняя шажок за шажком.
– Саида дважды крепко выругалась, – продолжал он рассказ, – такого я никак не ожидал. Раз по-английски, другой раз по-французски, однако в буквальном переводе оба выражения содержали сходный смысл. Да, и она вышла из машины. Мы с ассистентом последовали за ней.
Прейзинг и его спутники встали у открытых дверей автомобиля. Сразу же ударила в голову палящая жара. Над горячим асфальтом, над убитыми верблюдами воздух трепетал, как будто в нем проявилась присущая звуковым волнам вязкость. Мерцающая визуализация возбужденных голосов, предсмертного верблюжьего стона. Наказав Прейзингу не отходить от машины, Саида плечо к плечу с ассистентом решительно направилась к месту сумбурного происшествия. И тут грохот одиночного выстрела перекрыл шумную разноголосицу. Увидев, как ассистент рывком повалил Саиду наземь, Прейзинг и сам проворно, как мог, запрыгнул на прохладную кожу заднего сиденья и захлопнул за собой дверь. Слышались приглушенные возмущенные возгласы из автобуса, громкие выкрики солдат. Затихли только стоны издохшего верблюда. Все ружья обратились в сторону того, кто за спинами других всадил пулю между вытаращенными верблюжьими глазами, выстрелом из карабина прекратив страдания животного.
Поспешно поднявшись на ноги и отряхнув элегантный брючный костюм от пыли, Саида включилась в дискуссию. Прейзинг, оставшись в машине, следил за развитием событий с безопасного расстояния. Саида быстро взяла дело в свои руки. Прейзинг констатировал, что и в пустыне, точно как на улицах столицы, она умела выказать и прирожденное достоинство, и благоприобретенную властность.
– Шум, гам и суета, да еще и не без агрессии, – с очевидным неодобрением продолжал повествование Прейзинг. – И конца не предвиделось, как не чувствовалось и малейшей попытки прийти к соглашению. Что ж, спор в этой части света обладает иной значимостью. Диспут развертывается по совершенно иным правилам. Только не пытайся вмешаться! Безнадежно, уверяю тебя, ты непременно выскажешься невпопад. Есть в этом нечто, осмелюсь сказать, соревновательное. Дебаты ради дебатов. И не пробуй предложить им: послушайте, не горячитесь, решим дело миром! Они ведь только и хотят разгорячиться, распалиться.
Обеспокоенно взглянув на меня, он продолжил:
– Лично я лишь впадаю в уныние от этих жарких споров. Ни к чему они не приводят. Вот я и попросил водителя передать мне номер Financial Times, который лежал на приборной панели.
Газета освещала одну лишь тему, то есть неожиданную новую вспышку финансового кризиса (разумеется, в свете более чем затруднительного положения Англии), каковой разразился по причине краха Королевского банка Шотландии, где правительство с самого начала банковского кризиса удерживало более восьмидесяти процентов доли, и каковой в течение суток привел к внутреннему – ах, да что я говорю! – к международному хаосу, поскольку вследствие данного кризиса резко пошатнулась Lloyds Banking Group, а в этой банковской группе правительству принадлежат более семидесяти процентов акций, к тому же названные институты были – очевидно, без ведения правительства – повязаны между собой общими вложениями в нежизнеспособные ипотечные кредиты Бангалора и Малайи, так что аналитики ведущих газет сообща выразили уверенность в том, что английское правительство никак не в состоянии обеспечить страхование вкладов своих граждан. Логическим следствием данного анализа явился беспрецедентный штурм всех до единого банковских отделений в Соединенном Королевстве. Газета, которую я держал в руках, поместила фотоиллюстрацию, запечатлевшую один из филиалов банка в Ильфракомбе – городке, памятном мне по тем каникулам в далекой юности, когда я объехал на велосипеде графство Девон, исключительной своей безмятежностью, – так вот, в сравнении с иллюстрацией та сцена с мертвыми верблюдами и вздорщиками, что я наблюдал за широким лобовым стеклом внедорожника, представлялась идеалом мира и гармонии. Человек превращается в зверя, когда дело доходит до его сбережений.
А там стрелок давал прочувствованное показательное выступление. Пав ничком на замолкшее – ибо наконец испустившее дух – животное, он издал вопль не менее громкий и душераздирающий, чем сам верблюд. Ладонью он разгладил верблюжьи веки с женственными ресницами, закрыл широко расставленные и уже окончательно потухшие глаза. С достоинством он поднялся, шагнул к следующему трупу, повергся ниц, испустил жалобный вопль, а вслед за тем прикрыл верблюду глаза. Этот ритуал он повторил с каждым животным, до самого последнего, и не пожалел на это времени. У Прейзинга перехватило дыхание, его объяла глубокая печаль.
Покуда Прейзинг читал газету, водитель присоединился к остальным, оставив его в одиночестве.
– Обстоятельство, в ту минуту для меня весьма благоприятное, – пояснил Прейзинг, – ибо смятение, подобное тому, что овладело мною, заставляет стыдиться посторонних.
Водитель Саиды вместе с шофером автобуса обошел жестяного слона кругом, с видом профессионала осмотрел помятую решетку радиатора, вяло попытался передвинуть ближе к месту повисший бампер, а вдвоем они даже попробовали высвободить окоченевшую, торчащую прямо в небо верблюжью ногу. Обменявшись затем несколькими словами с Саидой, водитель вернулся к машине. Тяжело дыша, он занял свое место за рулем.
– Мне вовсе не свойственно, – говорил Прейзинг, – вмешиваться в чужие дела, однако горе и боль погонщика верблюдов тронули меня настолько, что я оказался не в состоянии соблюдать подобающую дистанцию и хладнокровие перед лицом этих смутных, мне все еще непонятных и совершенно чуждых событий, потому я и попросил водителя, кстати превосходно владевшего французским, разъяснить мне происходящее на дороге. Тот сообщил, что вся эта история до крайности неприятна, хотя погонщик сам виноват в своем несчастье, не зря же строжайше запрещается перегонять верблюдов по шоссе, а шофер автобуса, минуя вон ту вершину, увидел караван слишком поздно. Саида разгневана до предела. С одной стороны, автобус принадлежит Ибрагиму Малуку, кузену Слима Малука, а хозяин верблюдов вряд ли имеет страховку, с другой стороны, пассажиры автобуса – это гости из отеля месье Малука, и теперь они опоздают на авиарейсы домой, что впоследствии омрачит для них пережитую радость от пребывания в оазисе Чуб. Однако еще хуже то, что другие гости в оазисе сейчас понапрасну ждут оплаченной ими прогулки по пустыне, ибо караван как раз и находился на пути к отелю, а теперь нет никакой ясности в вопросе о том, кто в ближайшие дни возьмет на себя катание туристов на верблюдах.
Оба они глядели на дорогу, где верблюдов уже начали оттаскивать за ноги с проезжей части, а их владелец, усевшись в самой пыли и раскачиваясь всем телом, закутанным в белую ткань, безучастно наблюдал за происходящим.
Le pauvre, il est ruiné. Complètement[3]. Никогда ему не встать на ноги – таково было мнение водителя. Разом потерять всех верблюдов. Все средства к существованию. Источник дохода всего семейства. Complètement ruiné.
Прейзинг поинтересовался, какова же стоимость одного верблюда.
– Одиннадцать или, может, двенадцать сотен франков. Умножить на тринадцать.
Прейзинг произвел подсчет. Четырнадцать-пятнадцать тысяч. Получается, от этой суммы зависит жизнь погонщика, существование всей его семьи. Прейзинг полностью утратил самообладание.
– И вот в пыли передо мной сидит этот человек и оплакивает своих верблюдов, всю свою жизнь и пятнадцать тысяч франков. Пятнадцать тысяч – та самая сумма, которую Проданович однажды с гордостью назвал мне в связи с отчетной пресс-конференцией. Мой доход в компании. Пятнадцать тысяч франков ежедневно. Только за счет собственной доли. Не учитывая жалованья генерального директора, не учитывая других видов долевого участия, а также принадлежащей мне недвижимости и всего того прочего, что приносит прибыль. Пятнадцать тысяч франков в день, а этот человек из-за них разорен. Что же остановило меня, отчего я не открыл дверь машины, не подошел к нему и не дал ему денег на покупку новых верблюдов? Что же остановило меня?
Понятия не имея, что же его остановило, отчего он не вышел из машины и не дал тому человеку денег, в одном я не сомневался: причины он назовет мне тотчас. Прейзинг всегда находил обоснование для бездействия.
– Два обстоятельства, – заявил Прейзинг. – Проданович и Саида. Разве не сочла бы Саида подобный жест со стороны гостя личной обидой? Неподобающим вмешательством? Не тот ли человек, по отношению к которому я решил было проявить великодушие, своим безрассудством доставил ей столь многие неприятности? Что за впечатление сложится, если именно за это он будет мною вознагражден? Деликатная ситуация требовала более глубокого осмысления. И тут я вспомнил ежегодные заседания нашего благотворительного комитета под председательством Продановича: один процент прибыли мы жертвуем на проекты помощи нуждающимся и поддержку культуры. Но Проданович из года в год отказывается перевести в Африку хотя бы один-единственный франк. Этот континент, дескать, утопает в нашем попечительстве. Африка из-за наших субсидий лишилась дееспособности. Пусть африканский континент сам вытащит себя из болота за ушко сапога! Впрочем, как мне помнилось, Проданович имел в виду Африку к югу от Сахары. Но разве это не относится и к Тунису? Разве своими деньгами я не лишил бы дееспособности того человека? Не отнял бы у него возможность самостоятельно выбраться из нужды и, расправив грудь, собственными силами строить будущее? Правда, одного вида его трясущихся плеч мне хватило, чтобы понять: в этом случае помощь поистине необходима. И что там Проданович. И что уж за опасность подвести Саиду. Ничего мне это не стоит, я в состоянии почувствовать разницу. Итак, я принимаю решение. Разумеется, в кошельке у меня нет пятнадцати тысяч франков, а уж тем более – двадцати шести тысяч тунисских динаров. Пусть он просто запишет мне на листке номер счета для перевода этой суммы, не так ли? Но есть ли у этого человека банковский счет? Может, мне отправиться вместе с ним на ближайший верблюжий рынок и попросту купить ему тринадцать верблюдов? Вот только принимают ли к оплате на тунисском верблюжьем рынке кредитные карточки?
Внутреннюю борьбу прервала Саида, которая села в машину рядом с Прейзингом, кратко принесла извинения за задержку и отдала приказ двигаться дальше. В сумрачном настроении увозили Прейзинга прочь от потерпевшего крушение автобуса, от убитых верблюдов и от их несчастного владельца, чья судьба все еще очень его беспокоила. Вскоре, однако, показались вдали пространные финиковые плантации в оазисе Чуб. На ветру пустыни трепетали темно-зеленые кроны, а издалека казалось, будто волны кудрявятся на поверхности прохладного озера.
1
«Современная война» (франц.).
2
Очаровательная (франц.).
3
Бедняга, он разорен. Полностью (франц.).