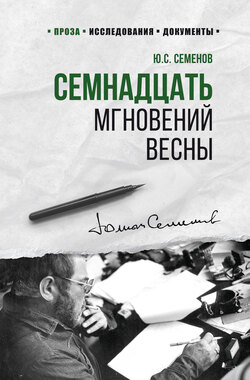Читать книгу Семнадцать мгновений весны - Юлиан Семенов - Страница 11
Семнадцать мгновений весны
Информация к размышлению
(Черчилль)
ОглавлениеКогда Гитлер в последние месяцы войны повторял как заклинание, что вопрос крушения англо-советско-американского союза есть вопрос недель, когда он уверял всех, что Запад еще обратится за помощью к немцам после решающего поражения, многим казалось это проявлением характера фюрера – до конца верить в то, что создало его воображение. Однако в данном случае Гитлер опирался на факты: разведка Бормана еще в середине 1944 года добыла в Лондоне документ особой секретности. В этом документе, в частности, были следующие строки, принадлежавшие Уинстону Черчиллю: «Произошла бы страшная катастрофа, если бы русское варварство уничтожило культуру и независимость древнейших европейских государств». Он писал это в своем секретном меморандуме в октябре 1942 года, когда русские были не в Польше, а под Сталинградом, не в Румынии, а возле Смоленска, не в Югославии, а под Харьковом.
Вероятно, Гитлер не издавал бы приказов, карающих всякие попытки переговоров немедленной смертью, узнай он о том яростном борении мнений, которое существовало в 1943–1944 годах между англичанами и американцами по поводу направления главного удара союзных армий. Черчилль настаивал на высадке войск на Балканах. Он мотивировал эту необходимость следующим: «Вопрос стоит так: готовы ли мы примириться с коммунизацией Балкан и, возможно, Италии? Надо точно отдавать себе отчет о тех преимуществах, которые получат западные демократии, если их армии оккупируют Будапешт и Вену и освободят Прагу и Варшаву…»
Трезводумающие американцы понимали, что попытки Черчилля навязать основной удар по Гитлеру не во Франции, а на Балканах сугубо эгоистичны. Они отдавали себе отчет в том, что победа точки зрения Черчилля сделает Великобританию гегемоном на Средиземном море. Следовательно, именно Великобритания оказалась бы хозяином Африки, арабского Востока, Италии, Югославии и Греции. Баланс сил, таким образом, сложился бы явно не в пользу Соединенных Штатов – и высадка была намечена во Франции.
Политик осторожный и смелый, Черчилль мог бы, при определенных критических обстоятельствах, вступить в контакты с теми, кто стоял в оппозиции к фюреру, для создания единого фронта, способного противостоять рывку русских к берегам Атлантики, чего Черчилль более всего опасался. Однако таких сил после уничтожения заговорщиков летом 1944 года в Германии не оставалось. Но, считал Черчилль, всякий осторожный «роман» с теми из руководства рейха, кто пытался бы осуществить капитуляцию армий вермахта на западе, был хотя и мало реален – в силу твердой позиции Рузвельта и прорусских настроений во всем мире, – однако этот «роман» позволял бы ему проводить более жесткую политику по отношению к Сталину, особенно в польском и греческом вопросах.
И когда военная разведка доложила Черчиллю о том, что немцы ищут контактов с союзниками, он ответил:
– Британию могут обвинить в медлительности, дерзости, в юмористической аналитичности… Однако Британию никто не может обвинить в коварстве, и я молю Бога, чтобы нас никогда не смогли обвинить в этом. Однако, – добавил он, и глаза его сделались стальными, и только где-то в самой их глубине метались искорки смеха, – я всегда просил проводить точную грань между дипломатической игрой, обращенной на укрепление содружества наций, и – прямым, неразумным коварством. Только азиаты могут считать тонкую и сложную дипломатическую игру – коварством…
– Но в случае целесообразности игра может оказаться не игрой, а более серьезной акцией? – спросил помощник шефа разведки.
– По-вашему, игра – это несерьезно? Игра – это самое серьезное, что есть в мире. Игра и живопись. Все остальное суетно и мелко, – ответил Черчилль. Он лежал в постели, он еще не поднялся после своего традиционного дневного сна, и поэтому настроение у него было благодушное и веселое. – Политика в таком виде, в каком мы привыкли воспринимать ее, умерла. На смену локальной политике элегантных операций в том или ином районе мира пришла глобальная политика. Это уже не своеволие личности, это уже не эгоистическая устремленность той или иной группы людей, это наука точная, как математика, и опасная, как экспериментальная радиация в медицине. Глобальная политика принесет неисчислимые трагедии малым странам; это политика поломанных интеллектов и погибших талантов. Глобальной политике будут подчинены живописцы и астрономы, лифтеры и математики, короли и гении. – Черчилль поправил плед и добавил: – Соединение в одном периоде короля и гения отнюдь не обращено против короля; противопоставление, заключенное в этом периоде, случайно, а не целенаправленно. Глобальная политика будет предполагать такие неожиданные альянсы, такие парадоксальные повороты в стратегии, что мое обращение к Сталину 22 июня 1941 года будет казаться верхом логики и последовательности. Впрочем, мое обращение было логичным, вопрос последовательности вторичен. Главное – интересы Британской империи, все остальное будет прощено историей…
18.2.1945 (12 часов 09 минут)
– Здравствуйте, фрау Кин, – сказал человек, склонившись к изголовью кровати.
– Здравствуйте, – ответила Кэт чуть слышно. Ей еще было трудно говорить, в голове все время шумело, каждое движение вызывало тошноту. Она успокаивалась только после кормления. Мальчик засыпал, и она забывалась вместе с ним. А когда она открывала глаза, перед тем как все снова начинало вертеться в голове и менять цвета, душная тошнота подступала к горлу. Каждый раз, увидев своего мальчика, она испытывала незнакомое ей доныне чувство. Это чувство было странным, и она не могла объяснить себе, что это такое. Все в ней смешалось – и страх, и ощущение полета, и какая-то неосознанная хвастливая гордость, и высокое, недоступное ей раньше спокойствие.
– Я хотел бы задать вам несколько вопросов, фрау Кин, – продолжал человек, – вы меня слышите?
– Да.
– Я не стану вас долго тревожить… Откуда вы?
– Я из страховой компании… Моего мужа… больше нет?
– Я попросил бы вас вспомнить: когда упала бомба, где он находился?
– Он был в ванной комнате.
– У вас еще оставались брикеты? Это ведь такой дефицит? Мы у себя в компании так мерзнем…
– Он купил… несколько штук… по случаю…
– Вы не устали?
– Его… нет?
– Я принес вам печальную новость, фрау Кин. Его больше нет… Мы помогаем всем, кто пострадал во время этих варварских налетов. Какую помощь вы хотели бы получить, пока находитесь в больнице? Питанием, вероятно, вас обеспечивают, одежду мы приготовим ко времени вашего выхода: и вам и младенцу… Какой очаровательный карапуз… Девочка?
– Мальчик.
– Крикун?
– Нет… Я даже не слышала его голоса.
Она вдруг забеспокоилась из-за того, что ни разу не слышала голоса сына.
– Они должны часто кричать? – спросила она. – Вы не знаете?
– Мои орали ужасно, – ответил мужчина, – у меня лопались перепонки от их воплей. Но мои рождались худенькими, а ваш – богатырь. А богатыри все молчуны… фрау Кин, простите, если вы еще не очень устали, я бы хотел спросить вас: на какую сумму было застраховано ваше имущество?
– Я не знаю… Этим занимался муж…
– И в каком отделении вы застрахованы – тоже, видимо, не помните?
– Кажется, на Кудам.
– Ага, это двадцать седьмое отделение. Уже значительно проще навести справки…
Человек записал все это в свою потрепанную книжечку; снова откашлявшись, склонился к лицу Кэт и совсем тихо сказал:
– А вот плакать и волноваться молодой маме нельзя никак. Поверьте отцу троих детей. Это все немедленно скажется на животике маленького, и вы услышите его бас. Вы не имеете права думать только о себе, это время теперь для вас кончилось раз и навсегда. Сейчас вы должны прежде всего думать о вашем карапузике…
– Я не буду, – шепнула Кэт и притронулась ледяными пальцами к его теплой, влажной руке, – спасибо вам…
– Где ваши родные? Наша компания поможет им приехать к вам. Мы оплачиваем проезд и предоставляем жилье. Конечно, вы понимаете, что гостиницы частью разбиты, а частью отданы военным. Но у нас есть частные комнаты. Ваши родные не будут на нас в обиде. Куда следует написать?
– Мои родные остались в Кенигсберге, – ответила Кэт, – я не знаю, что с ними.
– А родственники мужа? Кому сообщить о несчастье?
– Его родственники живут в Швеции. Но им писать неудобно: дядя мужа – большой друг Германии, и нас просили не писать ему… Мы посылали письма с оказией или через посольство.
– Вы не помните адрес?
В это время заплакал мальчик.
– Простите, – сказала Кэт, – я покормлю его, а после скажу вам адрес.
– Не смею мешать, – сказал человек и вышел из палаты.
Кэт посмотрела ему вслед и медленно сглотнула тяжелый комок в горле. Голова по-прежнему болела, но тошноты она не чувствовала. Она не успела по-настоящему продумать вопросы, которые ей только что задавали, потому что малыш начал сосать, и все тревожное, но чаще всего далекое-далекое, чужое – ушло. Остался только мальчик, который жадно сосал грудь и быстро шевелил ручками: она распеленала его и смотрела, какой он большой, красный, весь словно перевязанный ниточками.
Потом она вдруг вспомнила, что еще вчера лежала в большой палате, где было много женщин, и им всем приносили детей в одно и то же время, и в палате стоял писк, который она воспринимала откуда-то издалека.
«Почему я одна здесь? – вдруг подумала Кэт. – Где я?»
Человек пришел через полчаса. Он долго любовался спящим мальчиком, а потом достал из папки фотографии, разложил их на коленях и спросил:
– Пока я буду записывать адрес вашего дяди, пожалуйста, взгляните, нет ли здесь ваших вещей. После бомбежки часть вещей из вашего дома удалось найти: знаете, в вашем горе даже один чемодан уже подспорье. Что-то можно будет продать, купите для малыша самое необходимое. Мы, конечно, постараемся все приготовить к вашему выходу, но все-таки…
– Франц Паакенен, Густав Георгплац, 25. Стокгольм.
– Спасибо. Вы не утомились?
– Немного утомилась, – ответила Кэт, потому что среди аккуратно расставленных чемоданов и ящиков на улице, возле развалин их дома, стоял большой чемодан – его нельзя было спутать с другими. В этом чемодане у Эрвина хранилась радиостанция…
– Посмотрите внимательно, и я откланяюсь, – сказал человек, протягивая ей фотографию.
– По-моему, нет, – ответила Кэт, – здесь наших чемоданов нет.
– Ну, спасибо, тогда этот вопрос будем считать решенным, – сказал человек, осторожно спрятал фотографию в портфель и, поклонившись, поднялся. – Через день-другой я загляну к вам и сообщу результаты моих хлопот. Комиссионные, которые я беру – что поделаешь, такое время! – крайне незначительны…
– Я буду вам очень признательна, – ответила Кэт.
Следователь районного отделения гестапо сразу же отправил на экспертизу отпечатки пальцев Кэт: фотографию, на которой были чемоданы, заранее покрыли в лаборатории специальным составом. Отпечатки пальцев на радиопередатчике, вмонтированном в чемодан, были уже готовы. Выяснилось, что на чемодане с радиостанцией были отпечатки пальцев, принадлежавшие трем разным людям. Вторую справку следователь направил в VI управление имперской безопасности: он запрашивал все относящееся к жизни и деятельности шведского подданного Франца Паакенена.
18.2.1945 (12 часов 17 минут)
Айсман долго расхаживал по своему кабинету. Он ходил быстро, заложив руки за спину, все время чувствуя, что ему недостает чего-то очень привычного и существенного. Это мешало ему сосредоточиться; он отвлекался от главного, он не мог до конца проанализировать то, что его мучило, – почему Штирлиц попал под «колпак»?
Наконец, когда натужно, выматывающе завыли сирены воздушной тревоги, Айсман понял: ему недоставало бомбежки. Война стала бытом, тишина казалась опасной и несла в себе больше затаенного страха, чем бомбежка.
«Слава богу, – подумал Айсман, когда сирена, проплакав, смолкла и наступила тишина. – Теперь можно сесть и работать. Сейчас все уйдут, и я смогу сидеть и думать, и никто не будет входить ко мне с дурацкими вопросами и дикими предположениями…»
Айсман сел к столу и начал листать дело протестантского священника Фрица Шлага, арестованного летом 1944 года по подозрению в антигосударственной деятельности. Постановлению на арест предшествовали два доноса: Барбары Крайн и Роберта Ниче. Оба они были прихожанами его кирхи, и в их доносах говорилось о том, что в проповедях пастор Шлаг призывает к миру и к братству со всеми народами, осуждает варварство войны и неразумность кровопролития. Объективная проверка установила, что пастор несколько раз встречался с бывшим канцлером Брюнингом, который сейчас жил в эмиграции, с министром Виртом. У них еще в двадцатых годах наладились добрые отношения, однако никаких данных, указывающих на связь пастора с эмигрировавшим канцлером, в деле не имелось, несмотря на самую тщательную проверку – как здесь, в Германии, так и в Швейцарии.
Айсман недоумевал – отчего пастор Шлаг попал в разведку? Почему он не был отправлен в гестапо? Отчего им заинтересовались люди Шелленберга? Он нашел для себя ответ в короткой справке, приобщенной к делу: пастор дважды в 1933 году выезжал в Великобританию и Швейцарию для участия в конгрессах пацифистов.
«Они заинтересовались его связями, – понял Айсман, – им было интересно, с кем он там контактовался. Поэтому его взяли к себе люди из разведки, поэтому его и передали Штирлицу. При чем здесь Штирлиц? Ему поручили – он выполнил…»
Айсман пролистал дело: допросы были коротки и лаконичны. Он хотел объективности ради сделать какие-то выписки, с тем чтобы его заключение было мотивированным и документальном, но выписывать было практически нечего. Допрос был проведен в манере, не похожей на обычную манеру Штирлица: никакого блеска, сплошная казенщина и прямолинейность.
Айсман позвонил в специальную картотеку и попросил техническую запись допроса пастора Шлага штандартенфюрером Штирлицем 29 сентября 1944 года.
«– Хочу вас предупредить: вы арестованы, а для того, кто попал в руки правосудия национал-социализма, призванного карать виновных и защищать народ от скверны, выход отсюда к нормальной жизни и деятельности практически невозможен. Невозможна также нормальная жизнь ваших родных. Оговариваюсь: все это возможно при том условии, если, во-первых, вы, признав свою вину, выступите с разоблачением остальных деятелей церкви, которые не лояльны по отношению к нашему государству, и, во-вторых, в дальнейшем будете помогать нашей работе. Вы принимаете эти предложения?
– Я должен подумать.
– Сколько времени вам нужно на раздумье?
– Сколько времени нужно человеку, чтобы приготовиться к смерти? Ваше предложение неприемлемо.
– Я предлагаю вам еще раз вернуться к моему предложению. Вы говорите, что вы в том и другом случае конченый человек, но разве вы не являетесь патриотом Германии?
– Являюсь. Но что понимать под “патриотом Германии”?
– Верность нашей идеологии.
– Идеология – это еще не страна.
– Во всяком случае, наша страна живет идеологией фюрера. Разве не есть ваш долг, долг духовного пастыря, быть с народом, который исповедует нашу идеологию?
– Если бы я вел с вами равный спор, я бы знал, что ответить на это.
– А я приглашаю вас к равному спору.
– Быть с народом – это одно, а чувствовать себя в том положении, когда ты поступаешь по справедливости и по вере, – другое. Эти вещи могут совпадать и могут не совпадать. В данном случае вы мне предлагаете выход не тот, который соответствует моему убеждению. Вы собираетесь меня использовать как момент приложения каких-то сил, с тем чтобы я вам подписал какое-то заявление. Облекаете же вы это предложение в такую форму, как будто видите во мне личность. Зачем же вы говорите со мной как с личностью, когда вы предлагаете мне быть рычагом? Так и скажите: или мы тебя убьем, или подпиши эту бумагу. А куда идет немецкий народ, на каком языке он говорит, мне не важно, ибо, по существу, я уже мертвец.
– Это неправильно. Неправильно по следующим причинам. Я не прошу вас подписывать никакой бумаги. Допустим, я снимаю свой первый вопрос, свое первое предложение о вашем открытом выступлении в прессе и по радио, в котором вы выскажетесь против своих собратьев по религии, оппозиционных нашему режиму. Я просил бы вас сначала прийти к моей правде национал-социализма, а потом, если вы найдете для себя возможность согласиться с этой правдой, помогать нам в той мере, в какой вы поверите в нашу истину.
– Если вопрос стоит так – попробуйте меня убедить в том, что национал-социализм дает человеку больше, чем что бы то ни было другое.
– Я готов. Но ведь национал-социализм – это наше государство, государство, ведомое великими идеями фюрера, в то время как альтернативой этому государству вы, люди веры, ничего не предлагаете. Вы предлагаете только моральное совершенство.
– Совершенно точно.
– Но ведь не только моральным совершенством жив человек, хотя он жив и не только хлебом единым. Значит, мы хотим блага нашему народу. Давайте будем считать это первым шагом на том пути, который потом приведет к дальнейшему моральному совершенствованию нашей нации.
– Хорошо, в таком случае я спрошу вас об одном: концлагеря или допросы, подобные тому, какой вы ведете в отношении меня, духовного лица, есть неизбежное следствие вашей государственности?
– Бесспорно, ибо мы оберегаем вас от гнева нашей нации, которая, узнав, что вы являетесь противником фюрера, противником нашей идеологии, подвергнет вас физическому уничтожению.
– Но где же начало, а где следствие? Откуда появляется гнев нации, и является ли гнев нации необходимой чертой того режима, который вы проповедуете? Если – да, то с каких пор гнев стал самостоятельным положительным фактором? Это не гнев, это реакция на зло. Если гнев у вас лежит в основании, если гнев у вас есть причина, а все остальное следствие, одним словом, если вы зло вводите в причину, то почему вы хотите меня убедить, что зло – это благо?
– Нет, “зло” – это сказали вы, а я сказал – “ненависть народа”. Ненависть народа, который впервые за много лет унизительного Версальского договора, после засилия еврейских банкиров и лавочников получил возможность спокойной жизни. Народ гневается, когда кто-то, пускай даже духовное лицо, пытается подвергнуть сомнению те великие завоевания, которые принесла наша партия, ведомая великим фюрером.
– Очень хорошо… Спокойно жить и воевать – это одно и то же?
– Мы воюем только для того, чтобы обеспечить себе жизненное пространство.
– А держать четверть населения в концлагерях – это благо или это та самая гармоническая жизнь, за которую я должен положить живот свой?
– Вы ошибаетесь. В наших концлагерях, которые, кстати говоря, не являются орудием уничтожения, – это вы пользуетесь, очевидно, сведениями, почерпнутыми из вражеских источников, – содержится отнюдь не четверть страны. И потом, на воротах каждого нашего концлагеря написано: “Работа делает свободным”. Мы в концлагерях перевоспитываем заблудших, но, естественно, те, которые не заблуждались, но были нашими врагами, те подлежат уничтожению.
– Значит, вы решаете, кто перед вами виноват, кто – нет?
– Бесспорно.
– Значит, вы заранее знаете, чего хочет данный человек, где он ошибается, а где нет?
– Мы знаем, чего хочет народ.
– Народ. Из кого состоит народ?
– Из людей.
– Как же вы знаете, чего хочет народ, не зная, чего хочет каждый человек? Вернее, зная заранее, чего он хочет, диктуя ему, предписывая? Это уже химера.
– Вы не правы. Народ хочет хорошей пищи…
– И войны за нее?
– Подождите. Хорошей пищи, хорошего дома, автомобиля, радости в семье и – войны за это свое счастье! Да, войны!
– И еще он хочет, чтобы инакомыслящие сидели в лагерях? Если одно вытекает из другого с неизбежностью, значит, что-то неправильно в нашем счастье, ибо счастье, которое добывается таким способом, уже не может быть, с моей точки зрения, чистым. Я, может быть, смотрю на вещи иначе, чем вы. Наверное, с вашей точки зрения, цель оправдывает средство?
– Вы, как пастырь, видимо, не подвергаете ревизии все развитие христианства? Или вы все же позволяете себе подвергать остракизму отдельные периоды в развитии христианского учения? В частности, инквизицию?
– Я знаю, что вам ответить. Разумеется, инквизиция была в истории христианства. Между прочим, с моей точки зрения, падение испанцев как нации было связано с тем, что они подменили цель средством. Инквизиция, которая первоначально была утверждена как средство очищения веры, постепенно превратилась в самоцель. То есть само очищение, само аутодафе, сама эта жестокость, само это преследование инакомыслящих, которое первоначально задумывалось как очищение верой, постепенно стало ставить зло перед собой как самоцель.
– Понятно. Скажите, а как часто в истории христианства инакомыслящие уничтожались церковью во имя того, естественно, чтобы остальной пастве лучше жилось?
– Я вас понял. Уничтожались, как правило, еретики. А все ереси в истории христианства – суть бунты, которые основывались на материальном интересе. Все ереси в христианстве проповедуют идею неравенства, в то время как Христос проповедовал идею равенства. Подавляющее большинство ересей в истории христианства строилось на том основании, что богатый не равен бедному, что бедный должен уничтожить богатого либо стать богатым и сесть на его место, между тем как идея Христа состояла в том, что нет разницы в принципе между человеком и человеком и что богатство так же преходяще, как бедность. В то время как Христос пытался умиротворить людей, все ереси взывали к крови. Между прочим, идея зла – это, как правило, принадлежность еретических учений, и церковь выступала против ересей во имя того, чтобы насилие не вводилось в нравственный кодекс христианства.
– Правильно. Но, выступая против ереси, которая предполагала насилие, церковь допускала насилие?
– Допускала, но не делала его целью и не оправдывала его в принципе.
– Насилие против ереси допускалось в течение, по-моему, восьми-девяти веков, не так ли? Значит, восемьсот – девятьсот лет насиловали ради того, чтобы искоренить насилие. Мы пришли к власти в 1933 году. Чего же вы хотите от нас? За одиннадцать лет мы ликвидировали безработицу, за одиннадцать лет мы накормили всех немцев, да – насилуя инакомыслящих! А вы мешаете нам – словесно! Но если вы такой убежденный противник нашего режима, не было бы для вас более целесообразным опираться на материальное, а не духовное? В частности, попробовать организовать какую-то антигосударственную группу среди своих прихожан и работать против нас? Листовками, саботажем, диверсиями, вооруженными выступлениями против определенных представителей власти?
– Нет, я никогда не пошел бы на этот путь по той простой причине… не потому, что я боюсь чего бы то ни было… Просто этот путь кажется мне в принципе неприемлемым, потому что, если я начну против вас применять ваши методы, я невольно стану похожим на вас.
– Значит, если к вам придет молодой человек из вашей паствы и скажет: “Святой отец, я не согласен с режимом и хочу бороться против него…”
– Я не буду ему мешать.
– Он скажет: “Я хочу убить гауляйтера”. А у гауляйтера трое детей, девочки: два года, пять лет и девять лет. И жена, у которой парализованы ноги. Как вы поступите?
– Я не знаю.
– И если я спрошу вас об этом человеке, вы не скажете мне ничего? Вы не спасете жизнь трех маленьких девочек и больной женщины? Или вы поможете мне?
– Нет, я ничего вам не буду говорить, ибо, спасая жизнь одним, можно неизбежно погубить жизнь других. Когда идет такая бесчеловечная борьба, всякий активный шаг может привести лишь к новой крови. Единственный путь поведения духовного лица в данном случае – устраниться от жестокости, не становиться на сторону палача. К сожалению, это путь пассивный, но всякий активный путь в данном случае ведет к нарастанию крови.
– Я убежден, если в гестапо к вам применят третью степень допроса – это будет мучительно и больно, – вы все-таки назовете фамилию того человека.
– Вы хотите сказать, что, если превратите меня в животное, обезумевшее от боли, я сделаю то, что вам нужно? Возможно, что я это и сделаю. Но это буду уже не я. В таком случае, зачем вам понадобилось вести этот разговор? Применяйте ко мне то, что вам нужно, используйте меня как животное или как машину…
– Скажите, а если бы к вам обратились люди – злые враги, безумцы – с просьбой поехать за рубеж, в Великобританию, Швецию или Швейцарию, и стать посредником, передать какое-либо письмо, эта просьба оказалась бы для вас осуществимой?
– Быть посредником – естественное для меня состояние.
– Почему так?
– Потому что посредничество между людьми в их отношениях к Богу – мой долг. А отношение человека к Богу нужно только для того, чтобы он чувствовал себя человеком в полном смысле слова. Поэтому я не отделяю отношение человека к Богу от отношения человека к другому человеку. В принципе это одно и то же отношение – отношение единства. Поэтому всякое посредничество между людьми в принципе является для меня естественным. Единственное условие, которое я для себя при этом ставлю, чтобы это посредничество вело к добру и осуществлялось добрыми средствами.
– Даже если посредничество было бы злом для нашего государства?
– Вы вынуждаете меня давать общие оценки. Вы прекрасно понимаете, что, если государство строится на насилии, я, как духовное лицо, не могу одобрять его в принципе. Конечно, я хотел бы, чтобы люди жили иначе, чем они живут. Но если бы я знал, как этого добиться! В принципе я хотел бы, чтобы те люди, которые сейчас составляют национал-социалистское государство, остались живы и все составляли бы какое-то иное единство. Мне не хотелось бы никого убивать.
– По-моему, предательство страшно, но еще страшнее равнодушное и пассивное наблюдение за тем, как происходит и предательство и убийство.
– В таком случае, может быть только одно участие в этом: прекращение убийства.
– Сие от вас не зависит.
– Не зависит. А что вы называете предательством?
– Предательство – это пассивность.
– Нет, пассивность – это еще не предательство.
– Это страшнее предательства…»
Шелленберг сказал:
– Это были тонные бомбы, не меньше.
– Видимо, – согласился Штирлиц. Он сейчас испытывал острое желание выйти из кабинета и немедленно сжечь ту бумагу, которая лежала у него в папке – рапорт Гиммлеру о переговорах «изменников СД» с Западом. «Эта хитрость Шелленберга, – думал Штирлиц, – не так проста, как кажется. Пастор, видимо, интересовал его с самого начала. Как фигура прикрытия в будущем. То, что пастор понадобился именно сейчас, – симптоматично. И без ведома Гиммлера он бы на это не пошел!» Но Штирлиц понимал, что он должен не спеша, пошучивая, обговаривать с Шелленбергом все детали предстоящей операции.
– По-моему, улетают, – сказал Шелленберг, прислушиваясь. – Или нет?
– Улетают, чтобы взять новый запас бомб…
– Нет, эти сейчас будут развлекаться на базах. У них хватает самолетов, чтобы бомбить нас беспрерывно… Так, значит, вы считаете, что пастор, если мы возьмем его сестру с детьми как заложников, обязательно вернется?
– Обязательно…
– И будет по возвращении молчать на допросе у Мюллера о том, что именно вы просили его поехать туда в поиске контактов?
– Не убежден. Смотря кто его будет допрашивать.
– Лучше, чтобы у вас остались магнитофонные ленты с его беседами, а он… так сказать, сыграл в ящик при бомбежке?
– Подумаю.
– Долго хотите думать?
– Я бы просил разрешить повертеть эту идею как следует.
– Сколько времени вы собираетесь «вертеть идею»?
– Постараюсь к вечеру кое-что предложить.
– Хорошо, – сказал Шелленберг. – Улетели все-таки… Хотите кофе?
– Очень хочу, но только когда кончу дело.
– Хорошо. Я рад, что вы так точно все поняли, Штирлиц. Это будет хороший урок Мюллеру. Он стал хамить. Даже рейхсфюреру. Мы сделаем его работу и утрем ему нос. Мы очень поможем рейхсфюреру.
– А рейхсфюрер не знает об этом?
– Нет… Скажем так – нет. Ясно? А вообще мне очень приятно работать с вами.
– Мне тоже.
Шелленберг проводил штандартенфюрера до двери и, пожав ему руку, сказал:
– Если все будет хорошо, сможете поехать дней на пять в горы: там сейчас прекрасный отдых – снег голубой, загар коричневый… Боже, прелесть какая, а? Как же много мы забыли с вами во время войны!
– Прежде всего, мы забыли самих себя, – ответил Штирлиц, – как пальто в гардеробе после крепкой попойки на Пасху.
– Да, да, – вздохнул Шелленберг, – как пальто в гардеробе… Стихи давно перестали писать?
– И не начинал вовсе.
Шелленберг погрозил ему пальцем:
– Маленькая ложь рождает большое недоверие, Штирлиц.
– Могу поклясться, – улыбнулся Штирлиц, – все писал, кроме стихов: у меня идиосинкразия к рифме.
18.2.1945 (13 часов 53 минуты)
Уничтожив свое письмо к Гиммлеру и доложив адъютанту рейхсфюрера, что все вопросы решены у Шелленберга, Штирлиц вышел из дома на Принц-Альбрехтштрассе и медленно пошел к Шпрее. Тротуар был подметен, хотя еще ночью здесь был завал битого кирпича: бомбили теперь каждой ночью по два, а то и по три раза.
«Я был на грани провала, – думал Штирлиц. – Когда Шелленберг поручил мне заняться пастором Шлагом, его интересовал бывший канцлер Брюнинг, который сейчас живет в эмиграции в Швейцарии. Его волновали связи, которые могли быть у пастора. Поэтому Шелленберг так легко пошел на освобождение старика, когда я сказал, что он станет сотрудничать с нами. Он смотрел дальше, чем я. Он рассчитывал, что пастор станет подставной фигурой в их серьезной игре. Как пастор может войти в операцию Вольфа? Что это за операция? Почему Шелленберг сказал о поездке Вольфа в Швейцарию, включив радио? Если он боится произнести это громко, то, значит, обергруппенфюрер Карл Вольф наделен всеми полномочиями: у него ранг в СС, как у Риббентропа или Фегеляйна. Шелленберг не мог не сказать про Вольфа – иначе я бы задал ему вопрос: “Как можно готовить операцию, играя втемную?” Неужели Запад хочет сесть за стол с Гиммлером? В общем-то, за Гиммлером – сила, это они понимают. Это немыслимо, если они сядут за один стол! Ладно… Пастор будет приманкой, прикрытием, так они все задумали. Но они, верно, не учли, что Шлаг имеет там сильные связи. Значит, я должен так сориентировать старика, чтобы он использовал свое влияние против тех, кто – моими руками – отправит его туда. Я-то думал использовать его в качестве запасного канала связи, но ему, вероятно, предстоит сыграть более ответственную роль. Если я снабжу его своей легендой, а не текстом Шелленберга, к нему придут и из Ватикана, и от англо-американцев. Ясно. Я должен подготовить ему такую легенду, которая вызовет к нему серьезный интерес, контринтерес по отношению ко всем другим немцам, прибывшим или собирающимся прибыть туда. Значит, сейчас мне важна легенда для него – во-первых, и имена тех, кого он представляет здесь – как оппозицию Гитлеру и Гиммлеру, – во-вторых».
Штирлиц долго сидел за рюмкой коньяку, спустившись в «Вайнштюбе». Здесь было тихо, и никто не отвлекал его от раздумий.
«Один Шлаг – это и много и мало. Мне нужна страховка. Кто? – думал Штирлиц. – Кто же?»
Он закурил, положил сигарету в пепельницу и сжал пальцами стакан с горячим грогом. «Откуда у них столько вина? Единственное, что продается без карточек, – вино и коньяк. Впрочем, от немцев можно ожидать чего угодно, только одно им не грозит – спиваться они не умеют. Да, мне нужен человек, который ненавидит эту банду. И который может быть не просто связным. Мне нужна личность…»
Такой человек у Штирлица был. Главный врач госпиталя имени Коха Плейшнер помогал Штирлицу с сорок первого года. Антифашист, ненавидевший гитлеровцев, он был поразительно смел и хладнокровен. Штирлиц порой не мог понять, откуда у этого блистательного врача, ученого, интеллектуала столько яростной, молчаливой ненависти к нацистскому режиму. Когда он говорил о фюрере, лицо его делалось похожим на маску. Гуго Плейшнер несколько раз проводил вместе со Штирлицем великолепные операции: они спасли от провала группу советской разведки в сорок втором году, они достали особо секретные материалы о готовящемся наступлении вермахта в Крыму, и Плейшнер переправил их в Москву, получив разрешение гестапо на выезд в Швецию с лекциями в университете.
Он умер внезапно полгода назад от паралича сердца. Его старший брат, профессор Плейшнер, в прошлом проректор Кильского университета, после превентивного заключения в концлагере Дахау вернулся домой тихим, молчаливым, с замершей на губах послушной улыбкой. Жена ушла от него вскоре после ареста – родственники настояли на этом: младший ее брат получил назначение советником по экономическим вопросам в посольство рейха в Испании. Молодого человека считали перспективным, к нему благоволили и в МИДе, и в аппарате НСДАП, поэтому семейный совет поставил перед фрау Плейшнер дилемму: либо отмежеваться от врага государства, ее мужа, либо, если ей дороже ее эгоистические интересы, она будет подвергнута семейному суду, и все родственники через прессу объявят о полном с ней разрыве, как с женой «врага нации».
Фрау Плейшнер была моложе профессора на десять лет: ей было сорок два. Она любила мужа – они вместе путешествовали по Африке и Азии, там профессор занимался раскопками, уезжая на лето в экспедиции с археологами из берлинского музея «Пергамон». Она поначалу отказалась отмежеваться от мужа, и многие в ее семейном клане – это были люди, связанные на протяжении последних ста лет с текстильной торговлей, – потребовали открытого с ней разрыва. Однако Франц фон Энс, младший брат фрау Плейшнер, отговорил родственников от этого публичного скандала. «Все равно, – объяснил он, – этим воспользуются наши враги. Зависть безмерна, и мне еще этот скандал аукнется. Нет, лучше все сделать тихо и аккуратно».
Он привел к фрау Плейшнер своего приятеля из клуба яхтсменов. Тридцатилетнего красавца звали Гетц. Над ним подшучивали: «Гетц на Берлихинген». Он был красив в такой же мере, как и глуп. Франц знал: он живет на содержании у стареющих женщин. Втроем они посидели в маленьком ресторане, и, наблюдая за тем, как вел себя Гетц, Франц фон Энс успокоился. Дурак-то он дурак, но партию свою отрабатывал точно, по установившимся штампам, а коль скоро штампы создались, надо было доводить их до совершенства. Гетц был молчалив, хмур и могуч. Раза два он рассказал смешные анекдоты. Потом сдержанно пригласил фрау Плейшнер потанцевать. Наблюдая за ними, Франц презрительно и самодовольно щурился: сестра тихо смеялась, а Гетц, прижимая ее к себе все теснее и теснее, что-то шептал ей на ухо.
Через два дня Гетц переехал в квартиру профессора. Он пожил там неделю – до первой полицейской проверки. Фрау Плейшнер пришла к брату со слезами: «Верни мне его, это ужасно, что мы не вместе». Назавтра она подала прошение о разводе с мужем. Это сломило профессора: он полагал, что жена – его первый единомышленник. Мучаясь в лагере, он считал, что спасает этим ее честность и ее свободу мыслить так, как ей хочется.
Как-то ночью Гетц спросил ее: «Тебе было с ним лучше?» Она в ответ тихо засмеялась и, обняв его, сказала: «Что ты, любимый… Он умел только хорошо говорить…»
После освобождения Плейшнер, не заезжая в Киль, отправился в Берлин. Брат, связанный со Штирлицем, помог ему устроиться в музей «Пергамон». Здесь он работал в отделе Древней Греции. Именно здесь Штирлиц, как правило, назначал встречи своим агентам, поэтому довольно часто, освободившись, он заходил к Плейшнеру и они бродили по громадным пустым залам величественных «Пергамона» и «Бодо». Плейшнер уже знал, что Штирлиц обязательно будет долго любоваться скульптурой «Мальчик, вынимающий занозу»; он знал, что Штирлиц несколько раз обойдет скульптурный портрет Цезаря – из черного камня, с белыми остановившимися неистовыми глазами, сделанными из странного прозрачного минерала. Профессор таким образом организовывал маршрут их прогулок по залам, чтобы Штирлиц имел возможность задержаться возле античных масок: трагизма, смеха, разума. Профессор не мог, правда, знать, что Штирлиц, возвращаясь домой, подолгу простаивал возле зеркала в ванной, тренируя лицо, словно актер. Разведчику, считал Штирлиц, надо учиться управлять лицом. Древние владели этим искусством в совершенстве…
Однажды Штирлиц попросил у профессора ключ от стеклянного ящика, в котором хранились бронзовые статуэтки с острова Самое.
– Мне кажется, – сказал он тогда, – что, прикоснись я к этой святыне, сразу же совершится какое-то чудо, и я стану другим, в меня войдет часть спокойной мудрости древних.
Профессор принес Штирлицу ключ, и Штирлиц сделал для себя слепок. Здесь, под статуэткой женщины, он организовал тайник.
Он любил беседовать с профессором. Штирлиц говорил:
– Искусство греков при всей своей талантливости чересчур пластично и в какой-то мере женственно. Римляне значительно жестче. Вероятно, поэтому они ближе к немцам. Греков волнует общий абрис, а римляне – дети логической завершенности, отсюда страсть к отработке деталей. Посмотрите, например, портрет Марка Аврелия. Он герой, он объект для подражания, в него должны играть дети.
– Детали одежды, точность решения торса действительно прекрасны, – осторожно возражал Плейшнер. После лагеря он разучился спорить, в нем жило постоянное, осторожное несогласие – всего лишь. Раньше он ярился и уничтожал оппонента. Теперь он только выдвигал осторожные контрдоводы. – Однако посмотрите внимательно на его лицо. Какую мысль несет в себе Аврелий? Он вне мысли, он памятник собственному величию. Если вы внимательно посмотрите искусство Франции конца восемнадцатого века, вы сможете убедиться в том, что Греция перекочевала в Париж, великая Эллада пришла к вольнодумцам…
Как-то Плейшнер задержал Штирлица возле фресок «человекозверей»: голова человека, а торс яростного вепря.
– Как вам это? – спросил Плейшнер.
Штирлиц подумал: «Похоже на сегодняшних немцев, превращенных в тупое, послушное, дикое стадо». Он ничего не ответил Плейшнеру и отделался некими «социальными» звуками – так он называл «м-да», «действительно», «ай-яй-яй», когда молчание нежелательно, но и всякий прямой ответ невозможен.
Проходя через пустые залы «Пергамона», Штирлиц часто задавал себе вопрос: «Отчего же люди, творцы этого великого искусства, так варварски относились к своим гениям? Почему они разрушали, и жгли, и бросали на землю скульптуры? Отчего они были так бездушны к талантам своих ваятелей и художников? Почему нам приходится собирать оставшиеся крохи и по этим крохам учить наше потомство прекрасному? Почему и древние так неразумно отдавали своих живых богов на заклание варварам?»
Штирлиц допил свой грог и раскурил потухшую сигарету. «Почему я так долго вспоминал Плейшнера? Только потому, что мне недостает его брата? Или я выдвигаю новую версию связи? – Он усмехнулся: – По-моему, я начал хитрить даже с самим собой. “С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой…” Так, кажется, у Пастернака?»
– Герр обер! – окликнул он кельнера. – Я ухожу, счет, пожалуйста…