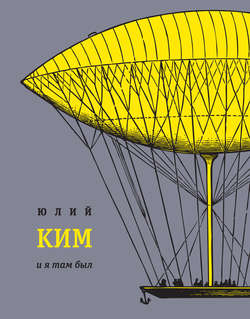Читать книгу И я там был - Юлий Ким - Страница 3
Камчатка
Впервые в тундре
ОглавлениеСвобода и необходимость, как известно, нерасторжимо связаны между собой. Например: чем определеннее необходимость, тем свободнее тебе жить. Или еще: никогда так не желаешь какой-нибудь необходимости, как в условиях полной свободы.
Пока Шурик Акимов работал зиму и весну в школе, то есть действовал по обязанности, он в сущности жил свободно и непринужденно. Время было вечно занято, и какие-нибудь вынужденные пустые час-два объявлялись так внезапно, что все эти час-два он изнывал. В столовой он нельзя сказать ел, обедал, поглощал, уписывал – он истреблял еду в секунду; а между тем считал себя любителем, что называется, хорошо поесть.
Но чем ближе отпускное лето, тем настырнее кажется работа, и даже то, что делалось охотно и бескорыстно, как будто бы начинает отдавать металлическим привкусом долга и обязанности. Тем нетерпеливее хочется отделаться от «всего-всего».
И вот, уже в мае чувствуя магнит июля, Шурик принялся освобождаться от необходимостей, служебных должков, спешно завершать программу, от которой вечно отставал, – завершил; доделывать общешкольный вечер – доделал, провел; в июне – еще быстрее, торопливее – заполнил журналы, принял экзамены – что еще? Дописал методический доклад, доложил; дотянул до выпускного вечера, прошел и вечер, с песнями и разрешенным вином, прошел, и – и…
И Шурик неожиданно очутился перед безмятежностью абсолютной свободы; перед долгожданным и достигнутым независимым одиночеством.
Ничего не надо было делать.
Стал писать письма – в полдня разделался с ними. Пробовал читать, пробовал сочинять что-нибудь – все валилось из рук. Он понимал, что все это не то, что всем этим можно было заниматься и раньше, что у летнего времени должен быть свой собственный аромат, и это время течет сквозь пальцы.
Приходил в столовую, набирал кучу еды, сидел перед ней тупо и уходил, половину оставив на тарелках.
Приходил полежать к морю. Берингово море переливалось, просвечивало, млело и сверкало под солнцем и само по себе источало жару и пресыщенность жизнью. Беленькие краешки волн, журча, пробегали около ботинок. Посмотрев, уходил.
Навещал знакомых; или не навещал знакомых. Листал журналы; или не листал. Включал или выключал радио – черт-те что, невесомость, прострация.
Шурик томился. Поселок жил без него: люди ходили на работу, с ним здоровались, останавливались, разговаривали, а все равно он был ни при чем. Его комната, неубранная и грязная, весь его разваливающийся барак, широкая пыльная улица, раздавленная колесами, школа, клуб, даже море, даже небо и по горизонту привычный рисунок сопок – все это были использованные вещи, которые некуда деть. Как на вокзале: уже попрощался с провожающими, со всеми обнялся, уже сказал все сердечные прощальные слова – а поезд, оказывается, отменили.
Линия сопок по горизонту была все та же, с теми же неровностями и так же скучна и определенна.
Поэтому мысль взойти на эти сопки с рюкзаком и ружьем и пожить там была до того оглушительно проста, что Шурику стало стыдно.
«У меня аж ноги гудят от счастья, – писал он домой. – Уже завербовано восемь гавриков из девятого класса, хоть неизвестно, зачем я это делаю, надоели же. Смех! Они еще ни разу там не были. Прожили здесь тысячу лет, излазили всю тундру, доходили до подножий – и ни разу не подняться. Можно это понять? Мне – непонятно».
Он разговаривал с местным охотником.
– Вы на сопках бывали?
– Чего я там не видел?
– Вот, думаю ребятишек туда сводить.
– Валяй-валяй, сейчас в тундре комары голодные.
– Все-таки, думаю, не мешает хоть раз взобраться, посмотреть, что там за ними.
– А что там смотреть? Тундра и тундра, все.
Он снаряжался. Брошенные, запыленные вещи исполнились смысла. Фотоаппарат был куплен прошлым летом, вышло несколько пленок, после чего, по истечении фотоазарта, предмет повис на гвоздике пылиться. Ружье было куплено еще раньше. Шурик его любил, время от времени вытирал тряпкой, щелкал курками и, зверски скосившись, целился по стенкам, а на охоту так и не сходил.
Теперь он чистил, и драил, и смазывал, и пачкался в масле, и втискивал шомпол в округлые холодные стволы, поворачивал его, вытягивал и любовался на свет зеркальными сдвоенными канальцами.
Теперь он рубил пыжи, насыпал мерками порох, дробь, картечь, пыжевал, протягивал раздутые гильзы, набивал капсюля… Шестнадцатый калибр… Нулевка… тулка… – ф-ф, приятно!
Все же это была игра, предвкушение. Он мило важничал, но иногда подумывал: будет ли хорошо? И потом – пацаны, ответственность, запахло м-е-р-о-п-р-и-я-т-и-е-м. Но когда они маленьким отрядом с торчащими ружьями вышли за поселок, в тундру, Шурик счастливо задышал и расправился весь, словно раньше дома и улицы стесняли в плечах. И он, оживленно озираясь, радостно видел себя: невысок, суховат, вовсе не мямля, напротив, ладненький паренек, в кепке набекрень, в штормовке, тельник полосками отчеркивает шею, пригнанные резиновые сапоги так и подхватывают тело снизу, на спине плотный, компактный рюкзак, на нем четыре кармашка, прочные ремешки и металлические пряжки и застежки.
А через два часа сопки казались по-прежнему недосягаемо близкими, поселок же давно скрылся за склоном берега, кругом – тундра, болотца, полуболотца, высохшие болотца, и самое надежное место, где не вязнешь, мягко, как диван, – попробуй пройди полдня по одним диванам. Было жарко, и комары, комары. Прозрачное зудящее облачко все время висит перед глазами, мазь, смешанная с потом, течет по лицу, и комарье вцепляется в виски, в переносицу, в шею под шарф. Шурик шел теперь в зимней надвинутой на нос ушанке, наглухо завязанной под подбородком, шея закутана в шарф, рукава тельняшки распущены и навернуты пальцами на кулаки. Он шагал, бессознательно обходя топкие и выбирая надежные места. Сопки уже не были голубой мечтой, они стали безразличной, но навязчивой, неоспоримой целью, куда непременно надо дошагать этим мертвым, тяжелым шагом. Вокруг была летняя бархатная тундра с сияющими синими полосами озер, но она была и не проникала в сознание. Временами Шурик оглядывал ее, но не испытывал ничего, кроме непрекращающихся мерзких укусов в висок и шею.
– Александр Петрович, стойте, я вас сниму.
– Успеется.
– Вид у вас геройский.
– У тебя не геройский.
– Ох и комаров на вашем рюкзаке!
– На твоем мало.
Зеленая поляна, видимо, твердо, вперед! – и тут же нелепыми, судорожными прыжками возвращаешься: болото. Другую такую поляну обходишь далеко сбоку, а соседний пацан идет по ней, как Иисус по воде: болото высохло.
Вот место как будто ровное – и попадаешь в царство больших травянистых кочек, напоминающих высокие парики, идешь и балансируешь по их податливым затылкам.
Шурик все же чувствовал, что его автоматическое шаганье неуклонно отодвигает за спину, туда, к поселку, километр, и еще километр, и еще. Потому что от ранее непрерывной линии сопок стали отделяться ближние и дальние вершины, общий голубоватый тон расползся в зеленые пятна кустарников, в серые потоки каменных осыпей, обозначились ущелья…
Можно завести разговор, но через две-три фразы он опротивеет, как жвачка.
Легче идти, намечая маленькие цели: вот дойду до той кочки; дошел. Теперь до того кустика. Теперь до той кочки.
Временами имеет смысл оглядываться на пройденный путь: я был возле того куста, а его уж и не видно.
Или считать шаги, но так и вовсе отупеешь.
– Александр Петрович, полпути ведь мы прошли, да?
– Как же, как же. Осталось еще полпути, потом еще полпути, а там совсем немножко.
– А сколько мы уже идем?
– У меня часы встали.
Приближается поперек пути широкая зеленая река кустарников. Кусты сцепились кривыми пальцами, скрюченными локтями в одну непроходимую массу и по уши заросли высокой летней травой. Сняв, чтоб не цеплялось, ружье, сгорбившись, вкатываешься ежом в колючую душную непролазность, медленно-медленно продергиваешься сквозь нее – и комары, комары…
У подножья хватило сил поджечь на поляне пышный остров кедрача и рухнуть в хвойную удушливую струю потянувшегося дыма. Комары отстали. Рядом падали подходившие спутники.
Шурик лежал и вяло думал, что вот он – учитель, что следовало бы не показывать усталости и готовить ночлег, что вон Колька или там Юрка уже возятся с костром, а он лежит. Ну ничего, еще минутку-другую, ничего, ничего…
Отлежавшись, он встал, сбросил рюкзак и с тем же молчаливым отупением полез через кусты подножья вверх. Кедрач на склонах стелется книзу, по его гладким иглам легче спускаться, чем подниматься навстречу им. Крючковатые стволы перепутались, сучья с мгновенным треском обрывались под ногами. Шурик двигался рывками через кусты и все вверх; кусты кончились, стало круче; сильно задул ветер. Начались камни, теперь они одни до самой вершины. Близкая, острая, она начиналась перед самым носом, впиваясь в вечернее небо и закрывая от глаз неизвестную страну – осталось несколько минут ходу до верха.
Шурик упорно смотрел только под ноги и вверх, стараясь задержать в себе то чувство механического передвижения, какое было внизу, в тундре. Но, как трудно задерживать вдох, так и ему все больше хотелось обернуться: он всей спиной ощущал страшные просторы позади себя, и они, с каждым рывком наверх становясь огромнее, словно докидывали его на вершину. Одно только сердце гремело по всему телу, он часто приостанавливался, но подниматься все же было легко из-за этой мощной поддержки открывающихся позади пространств. Камни иногда выскальзывали из-под рук или ног и долго кувыркались вниз, но Шура смотрел только перед собой и вверх.
Вдруг ветер ударил по щекам, и глаза словно заполнили все лицо.
Он обернулся и все увидел.
Вон – поселок, цепочка домиков у моря, и вот весь их путь по тундре – ничтожно короткий! Поселок так близок, что можно различить и узнать некоторые домики. На рейде пароход – беленький, отчетливый в закатном свете, – и к нему так же незаметно, как идет часовая стрелка, движется катер и тянет за собой щепочку – баржу.
Недалеко от берега – остров (из поселка видны лишь его вершины). А за островом – настоящий распахнувшийся в полземли океан, и из него в двух местах высовываются еще острова, один маленький, а другой, оказывается, огромный, теряющийся вдалеке.
И еще глаза находят два поселка и много мысов и заливов, о которых дома говорят: иду в такой-то залив, на такую-то базу – вот они, и залив, и база, вот они, черт побери!
В другой стороне мира, по ту сторону вершины лежала тундра, только тундра, текли неизвестные речки, расходились неровные цепи совсем незнакомых сопок с извилистыми ущельями и долинами.
Медленные цветные облака ровной крышей висели над Шуриком, и он смотрел из-под них, как из-под козырька, а облака, и землю, и океан освещало закатное солнце, опускающееся к горизонту, и это было захватывающе красиво. Океан ближе к солнцу был розовый, к востоку становился нежно-сиреневый и, наконец, густо-фиолетовый. Одновременно видны были и накатывающаяся на землю ночь, и нежгучее, мягкое солнце, едва просвечивающее сквозь голубые тающие скалы.
Ветер дул ровно и сильно, но Шурик не мерз и не думал о нем. Он знал, что продрогнет и спустится к ребятам, к костру, где будет какое-либо варево, но в общем-то и об этом он не думал.
Приятно было видеть поселок, такой крохотный в бесчисленных километрах вселенной, и при этом испытывать этакое добродушное превосходство.
Приятно было смотреть на пройденную дорогу и думать, что придется опять возвращаться по ней.
Приятно было видеть далекий неподвижный катер и знать, что он все-таки движется.
Сознавать, что когда они вернутся в поселок, то, потолкавшись день-другой, можно опять куда-нибудь уйти.
Сознавать, что у него есть свое прошлое и свое будущее, и что он никому не завидует, и что ему не должен завидовать никто.
Что он имеет право одобрительно думать обо всех людях и необязательно требовать от них себе того же.
Что если кто-нибудь смотрит сейчас из поселка сюда, то эта неуклюжая огромная сопка кажется изящно отточенной и туманно-синей, а Шурика и не видно совсем.
Приятно было понимать, что люди, живущие в поселке, не то еще видели и переживали, о чем ему и не снилось, что он просто москвич, впервые вышедший в тундру и сопки, – ну что ж, и это приятно.
И даже знать, что вот это достигнутое видение и понимание всего, так наполняющее сердце, потом исчезнет – но не забудется и, так или иначе, повторится.