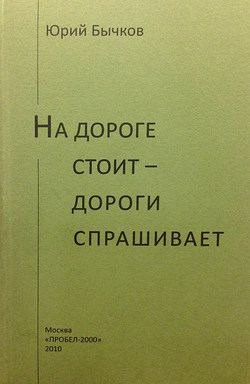Читать книгу На дороге стоит – дороги спрашивает - Юрий Бычков - Страница 3
На дороге стоит – дороги спрашивает
ОглавлениеЭто тебе не буйного сумасшедшего под микитки брать и о четырёх шпалах полковника Очерета в Лопасненском районном доме культуры представлять. Так-то вот, Юрик, выпутывайся сам, как знаешь. Не дрейфь! Барахтайся и всё вперёд, вперёд, по-собачьи, разбивая кулаками лёд в крошево, а руки в кровь, как тогда у мельничной запруды под Солнышковым. Дружка-приятеля Петьку Солёного ты в мыслях, рассуждениях своих упрекать перестань, ни в чём его не вини. Он жё в соответствии с российской пословицей действовал: хотел поступить, как лучше, как он понимал распространённое обывательское стремление получше устроиться в жизни. Только это его и влекло. Куда, спрашиваешь? Да вспомни тот, первый, с ним разговор о поступлении в МАИ, в авиационный институт.
– Ты, старик, знаешь, что в МАПе сетка ставок наивысшая?
– А что такое МАП?
– Не знаешь, что такое МАП? Лапоть ты лопасненский, сапог валяный!
– Представь себе, не знаю! Не тяни кота за хвост…
– Министерство авиационной промышленности. У этого министерства свой институт – Московский авиационный. Туда и подадим заявления о приёме.
– А ты, Петя, откуда всё это знаешь?
– Откуда, откуда? Оттуда! Мой родной дядя, Василий Иванович, в этом министерстве работает.
– Кем?
– Сказать не могу. Режимная должность у него.
Так и совратил речистый москвич Солёный меня и моего школьного товарища Лёльку Макарова. Решили вместе, втроём, идти в Московский авиационный институт на моторный факультет. Почему именно на моторный? Солёный нам, олухам царя небесного, разъяснил: «Так дядя Вася советует». На мякине, что называется, провёл нас. А тебе-то чего хотелось, о чём мечталось, бычок, оказавшийся у Солёного на верёвочке? Ага, поступить на филфак, истфак, а может, на медицинский, чтобы по стопам Антона Павловича Чехова в писатели, властители дум, податься. А что? Мечты прекрасные. Стоящие мечты. Правда, один бог знает, что за цыплёнок из этих мечтаний вывелся бы, не сыграй ты, Юра Незрелый (как прикажешь ещё тебя называть в этом случае?), в труса. Чем самому ломить, пробивать путь в университет, ты, гуманитарий от природы, обрадовался тому, что тебе дружок заезжий, Петька Солёный, предложил услуги штурмана, прокладывающего недотёпам-лопасненцам жизненный маршрут. В общем, твоё дело телячье: обделался и стой, поскольку в стойло это добровольно вошёл. Отмоешься со временем, или тебя доброхоты отмоют. В МАИ тебя всему научат, только вот самостоятельности он, Солёный, ни в чём не виноватый, тебя лишил, как девиц лишают невинности в большинстве случаев не по их, девиц, воле и желанию, а по воле случая. Сладкий плен тебе уготован – жить под диктовку учебной программы одного из лучших вузов страны, попутно открывать способы преодоления душевного дискомфорта. А что? Не слабо!
Когда отучился в МАИ, работал уже на авиамоторном заводе и, мечтая о писательском будущем, посещал заводское литобъединение, написал стихотворение, опубликованное в сборнике заводских поэтов «Первые шаги». Оно называлось пафосно – «Иди вперёд». Что ж, таков был назидательный вывод из первого отрезка самостоятельной жизни. В соответствии с этим выводом и шёл всё вперёд и вперёд, назад не оглядываясь.
ЮРИЙ БЫЧКОВ, инженер.
ИДИ ВПЕРЁД!
Бой длился долго. Многие убиты.
Отбито шесть атак подряд.
И ждут седьмой…
Что? В отступлении искать защиты?
Смотри вперёд! Не оглянись назад!
В дерзаньях мысли время обгоняя,
До дна исчерпай творческий заряд.
Всё устаревшее с пути снимая,
Иди вперёд! Не оглянись назад!
Семья, заботы… Ты решил учиться,
А трудностей вокруг – несметный ряд,
И всё же цели должен ты добиться!
Смотри вперёд! Не оглянись назад!
Тот вывод, что диктует жизнь, железен,
И тысячи примеров нам твердят:
Своей Отчизне хочешь быть полезен —
Иди вперёд! Не оглянись назад!
Не соглашаться с перспективой стать инженером, не любя, не чувствуя призвания к инженерному делу на инженера учиться? Стоп! Не то! Заочный, какой-то мистический страх перед инженерной профессией стал овладевать мною. Как быть? Не окунувшись, не начав постигать инженерные науки, встать и уйти за проходную МАИ? Куда уйти? Для начала «во солдаты». «Важно ввязаться в сражение, а там посмотрим», – так, кажется, рассуждал и действовал Наполеон.
Возможно, так оно бы и вышло на этот манер, и можно с большой долей вероятности предполагать, что нашёл бы себя «во солдатах», военная служба не раз оказывалось кстати молодым людям, мечтавшим стать писателями. Чем круче, тем лучше! Всякий жизненный материал начинающему писателю – хлеб насущный.
Встать и шагнуть за порог проходной МАИ? Для меня, оказывается, это всё равно, что встать у открытой двери и выпрыгнуть из вагона скорого поезда. И даже того круче – без парашюта покинуть летящий самолёт. Что это страх банальный? Таким храбрым показал себя в отрочестве и юности и вдруг… Не мог я себя представить беглым студентом. Мучился сомнениями. «Чем, собственно, тебе не по нраву такой обожаемый молодёжью вуз? Или всё-таки уйти: просидеть зиму дома, бывая в библиотеках, музеях, театрах, готовясь исправить ошибку молодости, – поступить в будущем году на гуманитарный факультет университета или педагогического института? Не выйдет – ты призывник, и тебе надо готовиться к солдатчине, психологически готовиться. Увы, и с «солдатчиной» у тебя ничего не выйдет. Тебя, одного из весьма способных учеников Лопасненской средней школы, направят в какое-либо военное училище, а оказаться курсантом нисколько не лучше, чем быть студентом вуза, в который ты поступил по-честному. Сдал вступительные экзамены так, что и стипендию платят и ценят за сообразительность. Блеснул, отличился этой самой сообразительностью при поступлении. Петрусь Солёный дённо и нощно творил шпаргалки – ими на экзаменах он был нашпигован, как фаршированная щука. А тебе, Бычков, претила эта самодеятельность. Ты считал: «Сколько знаю, во столько и оценят». Право, смешно подумать, тебе задают дополнительный вопрос, а ты лезешь за подкладку, извините, мужских порток и шаришь по загашнику в поисках формулы бинома Ньютона.
Ведь как оказалось на деле, в реальности. Проходной экзамен в МАИ – математика. Взял я, про себя помолившись, билет, в котором пять пунктов. Первые три – задачи и вопросы, знакомые по тому, что проходили в средней школе, а два последних пункта требуют знаний бóльших, нежели школьные; необходим неведомый пока что мне математический аппарат. В короткое время подготовившись по первым трём пунктам и сознавая, что два последних мне не по зубам, прикидываю в уме логическую схему решения задачи четвёртого пункта и иду к столу экзаменатора. Он благосклонно ставит мне твёрдую четвёрку за сообразительность. Логика решения задачи, выходящей за рамки школьной программы, убедила его в том, что у меня с головой всё в порядке.
А между тем, насколько я себя понимаю, весь состою из парадоксов, то есть несообразностей, странностей, несоответствий житейской логике. Не странно ли, дифференциальное, интегральное исчисления мне дались с лёгкостью, я испытывал огромное удовольствие при постижении этих двух фундаментальных разделов высшей математики, а такую математическую дисциплину, как начертательная геометрия, душа моя по сей день не приемлет. На лекциях профессора Четверухина, автора учебников и методик (высокая фигура которого запечатлелась, как тангенс, – острый угол прямоугольного треугольника, тангенс), я не успевал осознать ровным счётом ничего из того, что он стремительно набрасывал бруском мела на аспидной доске. Замысловатые пространственные построения представлялись мне фантасмагорией линий, чем-то вроде паутины для попавшей в неё мухи. Предстоящий экзамен по начертательной геометрии внушал с трудом одолеваемый ужас. Спустя годы по окончании института мне нередко снился экзамен, который я никак не мог сдать Четверухину. В реальности студенческая зачётка объективно свидетельствовала: «Посредственно. Н.Четверухин». Сдал, но не верил в это.
Парадоксальность самого факта неприятия профессора Четверухина и курируемого им во всесоюзном масштабе предмета, как уродливая гримаса легла на лик моей биографии. Ну разве не парадокс то, что, отдавшись изобразительному искусству, став в1974 году членом Союза художников СССР, написав десяток монографий, сотни статей о творчестве мастеров изобразительного искусства, возглавляя в качестве главного редактора профессиональную газету «Московский художник», естественно, разумея в силу, так сказать, производственной необходимости принципы и тонкости объёмного и линейного изображения, так и не полюбил начертательной геометрии, душа почему-то не приняла. Ведь почему-то она, привередливая моя душа, принимала такие разделы высшей математики, как дифференциальное и интегральное исчисления – хлеб инженерии? Однако не хлебом единым жив человек. Возможно, я «незаконная планета, среди расчисленных светил», которой назначено двигаться по иной, нежели инженерная, орбите, как подобное случилось с десятками выпускников МАИ, ставших известными артистами, писателям, певцами, режиссёрами.
Подытожу рассуждения на тему: правильно или неправильно я поступил, сделав шаг в сторону инженерного вуза. Несколько раньше аз грешный признался, что не дозрел, хотя и получил школьный «Аттестат зрелости». Самостоятельности нехватка была налицо! Понадобился буксир; подоспел московский приятель Петька Солёный с предложением идти в МАИ. Наш школьный поэтический кумир Маяковский с рекомендацией делать жизнь с «товарища Дзержинского», как сегодня бы сказали, не годится, слишком круто и вообще – бог знает что! Трудная позиция – юноша на распутье.
А грубость стихов Маяковского о нежности затягивала в свой омут. Вспоминаю, как Лёлька Макаров в летние дни сорок девятого, в канун «штурма» МАИ, когда мы дни напролёт занимались у Петьки Солёного, расхаживая по просторной единственной комнате московской коммунальной квартиры в доме на улице Москвина, за спиной массивного краснокирпчного здания филиала МХАТ, бывшего Театра Корша, плотным, мужающим от строки к строке баритоном читал с юношеским пафосом:
Вашу мысль,
мечтающую на размягчённом мозгу,
как выжиревший лакей на засаленной кушетке,
буду дразнить об окрававленный сердца лоскут;
досыта изыздеваюсь, нахальный и едкий
Свобода словоизвержения полная, безграничная – поэт властелин мира.
У меня в душе ни одного седого волоса,
и старческой нежности нет в нём!
Мир огромив мощью голоса,
иду – красивый,
двадцатидвухлетний.
Нежные!
Вы любовь на скрипки ложите.
Любовь на литавры ложит грубый,
А себя, как я, вывернуть не можете,
Чтобы были одни сплошные губы!
Многими неологизмами, языковыми новшествами одарил Владимир Владимирович великий, могучий; ко многому неудобоваримому за век без малого мы попривыкли, притерпелись, многие, введенные Маяковским в речевой оборот слова, несомненно, обогащали современную речь, но нельзя принять за норму, за слово, узаконенное в великорусском языке такой вульгаризм, такое режущее слух словцо, занесённое с юга, как «ложит». Компьютер, на котором я работал, подчеркнул волнистой красной линией и «ложит» и «ложите». Макаров читал Маяковского яро, громко, и способные оскорбить слух каждого культурного человека «ложит» и «ложите» проникли сквозь стену смежной комнаты, в которой сосед Солёных по квартире, участник молодёжного струнного квартета, скрипач Валентин Берлинский (впоследствии художественный руководитель Государственного квартета имени А.П.Бородина, профессор Московской консерватории, народный артист России, музыкант с мировым именем) репетировал с коллегами программу предстоящего концерта. Нежнейший пассаж одного из Парижских квартетов Гайдна был прерван на самой высокой ноте так, словно у первой скрипки внезапно лопнула струна. Из-за стены до нас доносились отдельные фразы: музыканты, похоже, недоумевали. «Как “на скрипки ложите” у великого Маяковского? Быть не может! “На скрипки ложите”! Что “ложите”?
Ха-ха-ха! И на солнце бывают пятна…» Спецы говорят, что Маяковский в данном случае над кем-то иронизировал. Ну, что ж – бог с ним. С гениальным.
А Лёлька Макаров был хорош! Он читал Маяковского самозабвенно, вдохновенно, как некую нравственно-эстетическую проповедь. Поэзия трибуна революции, реформатора языка даже и самой формальной новизной структуры стиха взяла его в свой чарующий плен.
Буксир Петя Солёный (буксир – слово иностранное, и вот его толкование: «Самоходное судно, предназначенное для буксировки несамоходных судов) очень скоро растерял подопечных в сложной для целеустремлённого плавания акватории – водном пространстве, подверженном штормам и бурям, изобилующем рифами и мелями. Солёный, взявшийся было помогать нам, тянуть на канате двух слегка растерянных провинциалов, очень скоро потерял ход и управление буксируемыми. Дабы не затонуть, мы вынуждены были обзавестись тотчас двигательными силовыми установками, собственными рулём и компасом, и таким образом обрести возможность идти собственным курсом, а не плыть по течению, как айсберг в океане или кое-что ещё, не столь величественное. Наш буксир, Петька Солёный, перед тем, как обрубить буксирный канат, пропел нам, необразованным, глуповатую сентенцию.
Студент бывает весел
От сессии до сессии,
А сессии всего два раза в год.
С какой стати мне надо веселиться? И всё-таки до декабря, когда начались зачёты, бездумно «веселились», а на душе кошки скребли. Захаживали в закусочные и винные кабачки, горланили старинные студенческие песни. Откуда они взялись? Кто от кого перенял, сейчас и не вспомню. Гимны дореволюционных студентов запоминались на-раз! Пели их чаще всего в электричках, увозивших нас по субботам в Лопасню к родителям.
Крамбамбули, отцов наследство,
Вино, любимое у нас, —
Успокоительное средство
От всяческих иных проказ.
Запевал лёгкий, звонкий тенор – припев мощно подхватывал весь, сплошь набитый студентами-безбилетниками вагон, не исключая представительниц дамского сословия
Когда мне изменяет дева,
Не долго я о том грущу.
В порыве яростного гнева
Я пробку в потолок пущу
За то студенты в рай пошли,
Что пили все крамбамбули,
Крамбам-бим-бамбули,
Крамбамбули.
Недавно где-то вычитал, что крамбамбули – это пражская водка студенческого розлива. Стало быть, гимн винопитию ненашенский, а чешский, так сказать, переводной.
Орём во всю силу молодых лужёных глоток: «Крамбамбимбамбули, крамбамбули», приняв сто пятьдесят и кружку пива, закусив бутербродами с икрой, хочешь красной, хочешь чёрной, – дёшево и сердито. Всё это ничтожно мало стоит: в сталинское время прогулять стипендию – задача, увы, не простая. Вспоминаются крабы в собственном соку, что навязывали, давали в нагрузку во всех закусочных и буфетах.
Пьянство, надо заметить, дело дурацкое и не хитрое. Это тебе не блоху подковать. Как гуляли – веселились, оглянулись – прослезились. Оборвался пеньковый канат-буксир, на котором пытался удерживать при себе меня и Лёльку Макарова Солёный. Во время зимней экзаменационной сессии, после того, как со скрипом, кое-как, сдали зачёты, он, канат, и оборвался. Первый экзамен – математика, дифференциальное исчисление. Я нырнул в аудиторию, где проходил экзамен, одним из первых, рассудив: «Пока голова свежая». В зачётке моей по выходе из чистилища стояла удивившая меня самого оценка «отл», что благодушно расшифровывалось нашими доморощенными остряками как «Обманул товарища лектора». «Хор» в этой шутейной аббревиатуре означало – «Хотел обмануть разоблачили. «Поср» – не упомнил, ведь столько лет прошло.
Петя Солёный, услышав из моих уст ровным, тихим, но внутренне ликующим голосом произнесённое «Обманул товарища лектора», побледнел, следом, через две-три секунды, позеленел. Ступая по паркету одеревеневшими ногами, словно идя на казнь, он вошёл в дверь математической аудитории. В состоянии обречённости вести беседу с товарищем лектором о принципах дифференциального исчисления – дело безнадёжное. Для того, чтобы студенческую зачетку украсила начертанная твердой рукой преподавателя высшая оценка «отлично» или сокращённое «отл», кураж нужен и знания в достаточном объёме, разумеется. Солёного снедало честолюбивое желание стать маёвцем— отличником. Дескать, знай наших! Де факто данных на то у Петра Солёного не было. Про это самое поётся в знаменитой украинской песне: «Чому я нэ сокил? Чому нэ литаю?» Снизойдя к слабости, немочи, временной, конечно, лектор, он же экзаменатор, начертал, сочувствуя Солёному, «поср» и принялся выявлять уровень знаний студента Льва Сердцева.
Солёный вышел в коридор в сомнамбулическом состоянии, в расстройстве сознания, характеризующемся автоматизмом действий. Он, никого и ничего не видя, направился в туалетную комнату, где методично, полоска за полоской распустил на ленточки обе брючины и таким образом поставил нас, его товарищей, перед необходимостью выдумывать способ воссоздания брючного благополучия, хотя бы относительного.
Дальнейшее банально и, в сущности, гнусно. Наш буксир решительно сбился с курса – загулял. Когда решили втроём готовиться к поступлению в МАИ, Солёный приказал всем постричься наголо, дабы ни одна соблазнительница и не пыталась совратить нас с намеченного кормчим курса. А тут – «гуляй, рванина, от рубля и выше». Если бы он изволил гулять в одиночку, то куда ни шло. Но кто ж гуляет в одиночку в таких прискорбных обстоятельствах?! В качестве сочувствующих, утешающих выступали мы, единоверцы. Пили, ныли, буянили, пьяные гимны распевали.
За то студенты в рай вошли,
Что пили всё крамбамбули.
Крам-бам-бим-бам-були,
Крамбамбули.
Физика и химия были провалены с треском. Макарова за двойки по этим предметам отчислили из института, и он загремел как военнообязанный, по призыву… в Вольское авиационно-техническое училище. Мы с Солёным прокатились каким-то чудом на тройках. К экзаменам не готовились совершенно. Стипендия накрылась ввиду двух троек – по физике и химии. Кислая жизнь впереди, как ни кидай. Я послал в Ленинград, в Военно-медицинскую академию прошение о переводе туда из московского технического вуза и скоренько получил отказ. Закручинился. Утешение находил в поэзии, консерваторской музыке (какая роскошь, духовное наслаждение высшего порядка – шопеновский концерт незабвенного Владимира Софроницкого!), художественных выставках и Третьяковке. На кого обижаться? Сам себя загнал в угол. А может быть, и не в угол вовсе? И ещё, знай на будущее, Юрий, что права восточная пословица: «Выбирая спутников, людям ловким умных предпочти».
НОСТАЛЬГИЯ, ТОЖ ТОСКА
С тоской-злодейкою не сладить.
Надежда выжжена дотла.
Читаю меджлисы Саади —
Куда кручина завела!
Спешу к друзьям
Искать утехи,
В вине забыть свою беду.
Иль к тишине библиотеки
Неведомо зачем бреду.
А чувство разуму не внемлет —
Конспекты валятся из рук.
Душа – пустыня!
Разум дремлет,
Календари безбожно врут,
Их наставления не дельны.
И разве гороскоп – гуру?
Защитнице, Небесной Деве,
Не веришь, стоя на юру.
А если походя влюбиться?
Ненадолго – на час? на день?
Ах, время, жидкая водица,
Закапало, глядь – проливень!
Напрасны поиски соломки,
Что стеляют, где тебе упасть.
О, боже, косточки так ломки…
Хандрю – такая вот напасть!
Ноябрь по стрежню гонит сало
К излучине Москвы-реки.
В тревоге сердце и не малой,
Ведь не замолены грехи.
В раздумье бросил взгляд печальный
На реку – водную стихию:
Течёт по руслу, изначально,
Свободно,
Как пишу стихи я,
Оторванный от уз и крепей,
Во власти времени теченья.
И вдруг…
Что может быть нелепей!
Как гром январский —
Увлеченье.
К чему затеплилась улыбка?
К чему, как лёгкий взмах весла,
Возникла женщина и зыбко,
Маняще, бровью повела.
Погружённый в себя, в забвении, в поэтическом экстазе, пребывая в чертёжке Пятого корпуса, инкубаторе, – здесь первокурсников МАИ обращают в инженерную веру, я, отклонившись от распятого кнопками на мягкой липовой чертёжной доске листа ватмана с курсовой работой (именно эта дисциплина приучала к точности, чёткости, аккуратности) сидел в тишине чертёжного зала, где десятки студентов-первокурсников сосредоточенно постигали язык инженерной графики, и правил стихи. Те, что вспомнил и воспризвёл с помощью компьютера только что. Обстановка располагала к сосредоточенности.
Дора Израилевна Спектор – преподаватель черчения, статная брюнетка лет тридцати, продвигаясь по залу бесшумно, невидимо, как некий фантом, возникла неожиданно рядом со мной.
– Разрешите присесть, – она грациозно опустилась на непрезентабельный, изрезанный, разрисованный поколениями студентов, табурет и вальяжно заложила ногу на ногу, открыв, таким образом, восхищённым взорам шмыгающих взад-вперёд студиозов и мне, её собеседнику, прелесть, броскую красоту икр, колен, бёдер, обтянутых вязью модного, тонкого, как шёлк, капрона.
«С какой стати она оказывает мне такое внимание? Преподаватели МАИ – не то, что наши учителя в Лопасненской средней школе, особым вниманием, участием студентов не балуют: прочитал лекцию, поставил тебе на экзамене «хор» или «неуд» и пошёл себе – его не касается, слушал ты лекцию или играл с приятелем в «морской бой», огорчён тем, что тебе, такому умному и гордому, вместо причитающейся высшей оценки доцент Иванов поставил «хор». «Каста неприкасаемых!» – рассуждал я, не осознав ещё разницы между школами средней и высшей.
– Стихи пишете, а чертёж скучает, ждёт не дождётся вашего благосклонного внимания.
Она оглядывает острым взглядом листки с черновиками стихов: приподнявшись, пробегает глазами «Ностальгию», читает вслух, негромко, с чувством, заключительную строфу.
К чему затеплилась улыбка?
К чему, как лёгкий взмах весла,
Возникла женщина и зыбко,
Маняще бровью повела?
Дора Израилевна, непроизвольно, бровью повела и захохотала:
– Хорошие стихи… Вы, несомненно, талантливый, одарённый человек, – она шагнула к чертёжной доске: – Какой раз смотрю на эти неловкие, неуверенные линии и понимаю, какое для вас мучение это моё любимое черчение. Хлеб с маслом для будущего инженера, между прочим.
Она говорит доброжелательно, ласково, как старшая сестра.
– Как я вас понимаю… Шаг в неверном направлении… Вам придётся исправлять допущенную ошибку.
– Ошибку? Не роковую, надеюсь? – мне совсем не хотелось в разговоре с красивой молодой женщиной показаться слабаком. И я немного петушился.
– Уходить из института не собираюсь. Черчением, Дора Израилевна, в ближайшее время займусь всерьёз. И сопромат придётся одолеть, и теорию машин и механизмов, и газовую динамику. И дипломную работу сдюжить.
Отчего-то на душе полегчало – мне показалось, что Дора Спектор не только из сочувствия подсела ко мне, чем-то я её приманил. «В общем, если приглядеться, парень не из последних. Одеваться надо бы получше. Стихов писать побольше хороших. Себя уважать… А что? Не пригласить ли эту статную «чертёжницу» в Третьяковку, чтобы нос не задирала. Подумаю…»
С утра по расписанию лекция профессора начертательной геометрии Четверухина, а я к десяти утра спешу в Лаврушинский переулок. Там в залах Третьяковской галереи семинарские занятия со студентами искусствоведческого отделения истфака МГУ проводит профессор Алексей Александрович Федоров-Давыдов. Он выходец из Третьяковки – много лет работал здесь лаборантом, экскурсоводом, научным сотрудником. Защитил кандидатскую диссертацию. Перешёл на кафедру искусствоведения МГУ. Через Третьяковку в патентованные искусствоведы, чем не пример для подражания? Касаясь моей причастности к изобразительному искусству (с июня 1976 года я член Союза художников, секция искусствоведения), замечу, что курс истории отечественной живописи в практическом преломлении пройден мною в Третьяковской галерее.
В студенческие годы МХАТ, Малый и Большой театры с корифеями, имена которых называешь и дух захватывает, посещал без определённой системы, но с разбором, «штучно». Консерватория и Зал Чайковского также в перечне средств моего воспитания и образования в сфере искусств. Это были вечерние, так сказать, факультативные, занятия – наслаждение и накопление духовного потенциала. Хорошее физическое состояние, отменная спортивная форма обеспечивались регулярными тренировками в лыжной секции Спортклуба МАИ. То, что получил в средней школе под мудрым руководством Александра Григорьевича Дронова (чего стоит такое достижение восьмиклассника и его тренера: Юрий Бычков – чемпион Лопасненского района 1947 года в лыжных гонках на 10 километров!). В МАИ это стало пропуском в институтскую лыжную сборную команду. Тут тебе и отдых от изнурительных занятий (365 экзаменов, зачётов, курсовых работ за шесть лет учёбы. Каково!) и подпитка самолюбия – не пустой звук постоянное стремление к первенству среди самых сильных, волевых маёвцев.
Не в свои сани не садись! Конечно же, это дельная сентенция, но как хочется утихомирить излишнюю категоричность старинной пословицы другой пословицей: «Что сделано, то свято». Поступил в МАИ – бери всё ценное, что дают тебе в его стенах. Что мне, гуманитарию от природы, дорого всегда? Исторический аспект, эстетический компонент, философия всякого дела. К примеру, такой предмет, как «История авиации» для меня – хлеб с маслом. А философская составляющая «Марксизма-ленинизма» важна, обязательна, и не из-под палки, естественно, тому, кто близок к искусствоведению, практической эстетике, изящной словесности. Английский язык. В пятидесятых годах, живя за массивным «железным занавесом», многие из нас брезговали английским. Иного и ожидать было трудно. Отношение к английскому языку у нас, студентов-технарей, было непорядочным. С помощью всяческих ухищрений сдавали зачёты. Надо признаться, самим было противно от этой царившей в институте профанации.
Серьёзно, увлечённо относился я к металловедению. Не странно ли? Нет, совсем это не удивительно. Человеком, личностью я был увлечён. На лекции заведующего кафедрой металловедения, профессора, доктора технических наук Сергея Тимофеевича Кишкина, сбегались отовсюду. Это были по-настоящему главы научно-приключенческого романа. Кишкин выходил к профессорской кафедре, элегантный, с блеском регалий. На лацкане его модного двубортного пиджака красовались две золотые медали лауреата Сталинской премии. Томиться в неведении, сгорая от любопытства, студентам не приходилось. Сергей Тимофеевич с очаровательным простодушием «раскалывался» насчёт лауреатских медалей.
Но прежде, чем коснуться научно-приключенческой стороны дела, он азартно вычерчивал мелом на доске, схематично, на скору руку, шлифы, комментируя существо принципов повышения прочности и жаростойкости легированных сплавов, им созданных. Затем пускал по рядам лекционного зала подлинники – тонкие, отполированные, круглые по форме пластины – и продолжал пояснять, какие структурные метаморфозы происходили от точной, соответствующей теоретическим представлениям, добавки хрома, ванадия, никеля.
Важность проведённых им в годы войны исследований можно было ощутить, услышав, что задания и поручения он, лично, получал от Государственного комитета обороны. Самолёт-штурмовик Ил-2 не имел достаточной броневой защиты. Во время штурмовки гибли лётчики, падали наземь самолёты. От Кишкина ГКО потребовал в короткие сроки создать броню, способную защитить лётчика и машину, – одеть штурмовик в дополнительную броню, не увеличив существенно полётный вес.
Он создал такой бронесплав.
Улыбчивый, обаятельный, доброжелательный, открытый, готовый к общении, Кишкин не менял этой тональности нигде и никогда. Увлекшись металловедением, я, помимо лекций, при всякой возможности спешил на кафедру, в замечательную лабораторию Сергея Тимофеевича, где он с нескрываемым удовольствием консультировал заинтересовавшихся его наукой студентов. Помню вдохновенное лицо, светившиеся сквозь стёкла очков глаза, румянец пухлых щёк и летающие руки, берущие со стенда и ставящие под микроскоп один шлиф за другим, и тут же поясняя, что внесло в структуру сплава внедрение того или иного легирующего, повышающего вязкость или прочность, компонента. Осмелев от его благорасположенности, спросил:
– Как вы, Сергей Тимофеевич, определяете, что и в каких количествах следует вводить в состав шихты, чтобы получить желаемое качество? Планируемую, если можно так выразиться, броневую или жаропрочную сталь?
– На глазок. Как в искусстве, где всё на чуть-чуть, – он засмеялся звонко, молодо и пояснил: – Это, в сущности, искусство, искусство варить сталь, сталь с определёнными желаемыми качествами. А искусство? Искусство – знание, умение плюс интуиция. И догадливость – вещь не лишняя…
Как-то, по ходу лекции, Кишкин поведал имевшую место быть приключенческую историю. Броня штурмовиков Ил-2, Ил-8, Ил-10 вызывала огромный интерес, зависть, что ли, у наших союзников. Как заполучить в Англию сверхсекретного создателя суперброни? Черчилль, премьер Великобритании, обратился с просьбой к Сталину прислать профессора Кишкина в Лондон. Легко сказать: «Пришлите, пожалуйста, Кишкина», – а как подобный вояж осуществить? Сталин поинтересовался гарантиями безопасности. Черчилль заверил маршала Сталина:
– Доставим в сохранности.
На бомбардировщике «Ланкастер», приземлившемся на авиабазе под Мурманском, Сергею Тимофеевичу предоставили в качестве пассажирского места бомболюк. Эскадрилья истребителей королевских ВВС ответственно сопровождала перелёт.
– Как видите, довезли благополучно, – весело заключил сообщение о своём воздушном путешествии Кишкин.
Рассказал профессор в тот раз и о том, как он провёл обмен научной информацией с союзниками, которые не спешили предоставить состав шихты интересующего его броневой стали. «Что за добавки используют англичане?» – ломал голову Кишкин. Любопытство своё смог удовлетворить догадливый Сергей Тимофеевич лишь по возвращении в Москву. Решить задачу помог случай. Во время экскурсии на военный завод Кишкин, ведя беседу у токарного станка с сопровождающими его лицами, обронил «нечаянно» носовой платок – поднял платок с прилипшими кусочками стружки.
На экзамене по металловедению мне было, как никогда, легко. Бывало со мной в МАИ и такое. Кишкин запал в сердце на всю жизнь. Держу в памяти всё, что с ним связано.
Когда Сергей Тимофеевич легко, иронично, как о чём-то забавном, вспоминал, как он болтался несколько часов в жёстком, тёмном бомбовом люке, у меня из головы не шла песня английских лётчиков, в которой радиосообщение пилота невольно возбуждало тревогу за возможный иной исход перелёта Кишкина. На вечеринках пою эту песню, думается, с подобающей интонацией, вкладывая в неё своё, дополнительное, содержание – от вояжа С.Т. Кишкина.
Был озабочен очень воздушный наш народ,
К нам не вернулся ночью с бомбёжки самолёт.
Радисты сбились в эфире, волну едва ловя,
И вот без пяти четыре мы услышали слова:
«Мы летим, ковыляя, во мгле,
Мы летим на подбитом крыле.
Бак пробит, хвост горит,
Но машина летит на честном слове
И на одном крыле.
Боже, насколько это близко к тому, что пришлось пережить моему профессору в небе над Исландией.
Мессершмитты орёл на орле —
Мессершмитты на каждом крыле.
Мессершмитт нами сбит
И машина летит …
Сергей Тимофеевич рассказывал:
– Ночь. Черно – глаз коли в бомбовом люке. Посредине пути на «Ланкастер» вышли «Мессершмитты». По бронированному фюзеляжу бомбардировщика, будто мне по голове, прошлась пулеметная очередь. Заложило уши. Подумал: «Кушать меня будут норвежские лососи или треска с Джордж банки? Впрочем, откуда мне знать это – курс «Ланкастера» мне неизвестен». Когда приземлились в Лондоне, пилоты сообщили: «Один “Мессер” был сбит, второй ушёл восвояси». Кишкин летал в Англию исполнять союзнический долг – способствовать усилению бронезащиты самолётов и танков англичан и американцев. Надо полагать, преуспел в этом.