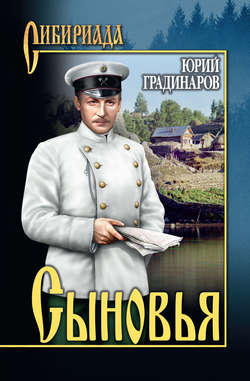Читать книгу Сыновья - Юрий Градинаров - Страница 3
Часть 1. Сыновья
Глава 2
ОглавлениеЕнисей сковало двадцать пятого октября. Сковало тихо без штормов и беснующихся волн. Северная осень резко перешла в зиму. Даже чайки не ожидали такого быстрого ледостава. Они сидели на берегу реки и удивлённо смотрели, как вчерашняя вода, в которой резвились, выхватывая из неё рыбу, застыла темноватой твердью, тускло блестевшей в лучах подслеповатого солнца. Река среди белесой тундры казалась мрачной безлюдной дорогой, идущей в неизвестность.
Пётр Михайлович Сотников и Иван Никитич Даурский, на средства которых на днях завершили постройку колокольни Дудинской Введенской церкви, по-хозяйски заложив руки за спину, вертелись у новой звонницы, крутили головами, задирали вверх, отходили от здания, любуясь работой енисейских консисторских плотников. Церковь стала величественнее, с двумя золочёными куполами и семью мал-мала меньше колоколами. Довольно потирали руки, что завершили ещё одно богоугодное дело. Решили проверить: как смотрится их детище с берега Енисея, со стороны Старой Дудинки. Ходили с места на место, любовались храмом и от восхищения причмокивали.
– Откуда ни глянь: везде величавой кажется! – горделиво сказал Пётр Михайлович. – Теперь никто не укорит меня, что мой дом закрыл с берега церковь. Всё по уму! Колокольня видна ото всюду.
– Не за зря мы деньгами помогли консистории! – сказал Иван Никитич. – Колокольня на славу! А колокола! Семь каких красавцев отлили алтайцы. Стратоник Игнатьевич сказал, что каждый колокол со своим тоном. Теперь колокольня, что фисгармония.
– Даже в Енисейске не каждый храм имеет семь колоколов. В лучшем случае – три. Мы кое-кому нос утёрли. Туруханск перещеголяли даже. Сейчас проверим глас Божий! – сказал купец. – А ну-ка, пальни из ружья, Иван Никитич! Пусть дёрнет за языки псаломщик. Псаломщик уже на звоннице. Руку поднял, сигнала ждёт.
Даурский выстрелил в воздух. И ещё не развеялся пороховой дым, как донесся колокольный перезвон. Ефремов по очереди ударял в каждый колокол, проверяя тон, а Пётр Михайлович с Иваном Никитичем – силу.
– Чуешь, какой звон чистый, а сила! Будто не за три версты от церкви стоим, а рядом. Думаю, в безветренную погоду и до Опечека долетит.
Они шли к Дудинскому. Скрипел снег. Мороз щекотал носы.
– Ветерок забирает дюжее мороза! Надо с отцом Александром назначить день богослужения, колокольню освятить, угостить прихожан чаем из самоваров, – сказал церковный староста Иван Даурский, младший брат Егора, ходившего с экспедицией Лопатина.
Прихожане избрали его церковным старостой сразу после убийства Митрофана Туркина. Он был уже неслуживым казаком, получал полный пенсион и не обременён семейными заботами. Охотился, рыбачил не корысти ради, а для себя и жены Матрёны. А до этого воевал в Крымской кампании, затем одиннадцать лет прослужил вахтёром затундринских магазинов в низовье Енисея. Рассудительный, готовый понять человека, отзывчивый на беду, авторитетный среди государственных крестьян и инородцев, Иван Никитич исходил на оленьих и собачьих упряжках Хатангскую, Авамскую и Хантайскую тундры, скопил деньжат, женил сына и выдал замуж дочь в Туруханске, а сам из Дудинского переселился в Мало-Дудинское с неразлучной Матрёной. Деньгами помог сыну и дочери, часть себе оставил, чтобы не бедствовать и жить независимым. Иногда «на погоду» ломило суставы, напоминало о былых аргишах по стылой тундре. Но Иван Никитич всегда был бравым казаком и нередко, превозмогая боль, садился на собачью упряжку и ездил в Дудинское по делам церкви. Он дорожил доверием прихожан и своим тщанием доказывал, что заслужил такую честь не зря.
За последние годы этот беспокойный человек побывал в Хатангской Богоявленской, в Толстоносовской Введенской церквах, в Гольчихинской и Норильскоозёрской часовнях, приписанных к Дудинской Введенской церкви. Даурский как староста головной церкви отвечал за дееспособность этих богоугодных заведений. Потом трижды ездил в Енисейскую консисторию, где добился казённого кошта на постройку колокольни и обновление церковной утвари для Хатангского прихода. Сам пожертвовал часть денег и сподвинул на благородное дело Петра Михайловича Сотникова.
Остановились на взгорье. Закурили. Стояли в раздумье. Сотников снова взглянул на колокольню.
– Вспомнил отца Иоанна! Много усилий потратил на эту звонницу. А услышать звон колоколов так и не пришлось. Сынок подрезал ему крылья! Самого упекли на каторгу, а отца на два года лишили священнослужения. Прислал письмо из Канска. Сильно жалеет о случившемся. А псаломщик отделался штрафом. Янкель Корж и Антон Середа в Туруханском остроге. Не будут зариться на чужое.
Иван Никитич, не вынимая трубки, согласно кивнул. Потом пустил дым носом, передвинул трубку в уголок рта и чуть гнусаво сказал:
– Я доволен отцом Александром! Мужик добропорядочный, каким и должно быть духовному лицу. В церкви уют и таинство. Прихожане почувствовали свежесть и доходчивость в проповедях. Да и Стратоник покаялся. Взял себя в руки. Не пьёт. Гонит прочь от своей горенки выпивал. Так что, наш приход и прямо, и косвенно в гору идёт. А вот Толстоносовская церковь убога. Пока был смотрителем хлебозапасного магазина Прутовых, то её хоть как-то поддерживал. Перевёлся он в Верхне-Имбатск – и церковь забыли. У младшего Кокшарова, Владимира, руки до неё не доходят. Как принял от Прутовых участок, всё в разъездах по низовью. А разъездной священник – не подспорье. Там хозяин нужен.
У церкви отец Александр с псаломщиком Стратоником ждали отзывов от хозяев колокольни.
– Ну и как впечатление? – спросил Александр Покровский. – Не разочаровались?
– Красавица! Речникам вместо маяка будет. Теперь церковь, как церковь. Туруханцы от зависти облезут. А колокола! Благовестят на всю округу! – захлёбывался от восхищения Пётр Михайлович.
Тщедушный Стратоник Игнатьевич выглядел мальцом среди троих крепких мужей:
– Это я ещё языки не отрегулировал по высоте да не делал перезвона. Не хотел прихожан до срока будоражить. В этой семёрке есть всё: и зазвонный, и перечастный, и праздничный. А вид со звонницы: тундра, как на ладони! До самого горизонта! – радовался псаломщик. – Бог не забудет ваши добрые дела, Пётр Михайлович и Иван Никитич!
– Бог-то? Да! – ответил Иван Никитич. – Главное, чтобы прихожане помнили! Для них стараемся. Бога пусть чтят, а не нас!
Отец Александр положил крестное знамение на купца и старосту и сказал:
– Будем готовить литургию[10] на первое воскресенье ноября. Пока прихожане не разъехались на охоту да рыбалку. Мы со Стратоником Игнатьевичем подготовимся к празднику.
– Ну что ж, на воскресенье, так на воскресенье! – согласился Пётр Михайлович. – Особенно Стратоник Игнатьевич. Чтобы запели колокола на всю тундру. Четверть века стояла церковь без звонницы. А те, семь, что были, больше под ямскую дугу годились. Хотя Иван Перменович Хворов искусен был в колокольных трелях. Ну, те были медные. Теперь медь с серебром и оловом. Потому и звук чистый.
Простились. Пётр шёл домой и думал, что Бог простит ему грехи. И старается он, не как Даурский для прихожан, а для себя. Обелить перед Богом хочет. И особо думает, что простится ему убийство брата и Екатерины. Так как и к церкви руки приложил, и к колокольне. Это его должен Бог благодарить, что среди холодной тундры стоит храм, созданный его заботой и деньгами, и приобщает людей к православию. Он даже испугался своего желания. Почувствовал: перегнул. Себя за Бога принял. В страхе перекрестился. Он знал, убийство никому не прощается. Не прощается Богом, имя которому – совесть. Остановился, ещё раз осмотрел купола, тускло поблёскивающие в вечерних сумерках.
«Не было бы сыновей Киприяна – и бояться нечего!» – не раз думал Пётр Михайлович, поглядывая на опустевшую половину дома. Выгнал он строптивого племянника Александра, а с ним ушёл и Иннокентий. Александр не стал доказывать, что половина дома завещана отцом. Забрал два сундука, иконы, диван, часы с боем, посуду и собрался на выселки в Мало-Дудинское, на постой, к Степану Петровичу Юрлову.
Уходя, Александр сказал:
– Ты ещё добавляешь грехов, выгоняя сирот из отчего дома. Даже если Бог тебе простит кое-что из грехов, то я не прощу никогда. Я найду и прямых, и косвенных убийц отца. Я знаю, куда ты отправил Акима. Я достану его, хоть на краю земли. Только встану на ноги. Это мой долг перед убиенными. Запомни это – и молись!
Мотюмяку Евфимович Хвостов погрузил сиротский скарб на нарты, увязал кладь и подошёл к Сотникову.
– Ох, Пётр, не то ты делаешь! На виду у селян выгоняешь сирот из собственной половины. Александр никогда не простит этого!
Пётр Михайлович победно улыбался:
– Ты за своими сыновьями смотри, чтобы не стали такими же зверюгами, как Сашка! А я сам разберусь, что-почём! Пусть поживут у чужих, может, научатся старших чтить.
Александр с Иннокентием уехали на выселки на юрловских собаках, обогнав олений аргиш. Остановились у нарты Хвостова, поднявшего хорей.
– Теперь, Сашок, вас будет наставлять мудрый человек Степан Петрович. А ты, Кеша, не бросай учёбу у Стратоника! Грамота нужна и в тундре! – сказал Мотюмяку Евфимович. – Торг вести станете, оленями всегда помогу! У Петра Михайловича своё стадо саночных оленей. Я ему без нужды. А Киприян Михайлович, видно, и не думал, и не гадал, что вы останетесь сиротами и без крова над головой. Не отчаивайтесь! Я сам сирота. Добрый человек приютил, грамоте обучил и на жизнь наставил.
– Спасибо, дядя Митя, за совет! Торг начнём, кортом у вас брать будем. А Иннокентия до совершеннолетия я не оставлю. Послужит у меня приказчиком, а потом своё дело откроет. Только я не намерен жить с ним под одной крышей, как отец с дядей Петей. Иннокентий на крыло станет, получит свою долю. А далее, как Бог на душу положит. Я – в Потаповское, а он, может, в Ананьево. Я буду торговать в Карасинской и в Хантайской управах, а он возьмёт Верхне-Имбатск и часть нашего низовья.
– Молодец, Саша, да ты всё продумал, как отец наставлял, – обрадовался Хвостов.
– Может, и не совсем, как отец, но учёл и его советы. Но это впереди. А сейчас надежда только на Степана Петровича Юрлова.
* * *
Мария Николаевна по-прежнему жила в Старой Дудинке. Десятки писем отправляла она Енисейскому губернатору, Иркутскому генерал-губернатору, министру внутренних дел России с просьбой о сокращении срока ссылки Збигневу и Сигизмунду. Иногда приходили удручающие ответы о «невозможности удовлетворения ваших ходатайств». Тянулись годы, двадцатипятилетний срок ссылки становился короче. Но никакая власть не шла на его уменьшение. И тогда она, посоветовавшись со Збигневом и Сигизмундом, поехала в Санкт-Петербург. По приезде в столицу пошла в Академию наук к Фёдору Богдановичу Шмидту. Он стал академиком, немного пополнел, но оставался по-прежнему подвижным и любопытным.
– Помню, помню низовье! Как там Дудинское, наверное, строится? А как мои друзья Сотниковы? Как Екатерина Даниловна, их сынок, кажется, Сашок? – задавал он Марии Николаевне массу вопросов. – Я сейчас чаю закажу.
Он нажал у стола кнопку звонка. Мигом явился лаборант.
– Чайку пару стаканчиков и два бутерброда! И чтобы меня не тревожили.
Молодой человек понятливо кивнул и молча вышел. Академик ходил вокруг стола:
– О! Сколько лет прошло? Пожалуй, пятнадцать! А кажется, всё было только вчера. Эх, время, время! Неудержимо летит.
Мария Николаевна рассказала, что произошло в низовье за эти годы: и о плавке меди, и о гибели Киприяна Михайловича с женой, и о своём замужестве.
У Фёдора Богдановича угас блеск радости в глазах:
– Рано ушли Сотниковы! Жаль, добрые были люди и надёжные в жизни. И всё-же я горд, что он своими руками добыл руду и выплавил медь. В своих академических записках я упомянул о медном и угольном месторождениях, о вашей первой черновой меди, об инициативном и энергичном Киприяне Михайловиче Сотникове. Царствие ему небесное! Хотя я и не верю в это. Я верю в разум человека. Разумный человек и есть мой Бог!
Они пили чай и вели разговоры о мамонтах, о выживании самоедов на Таймыре, о проходе парохода по Ледовому морю в устье Енисея.
– Вы, Фёдор Богданович, так хорошо информированы о наших делах, что, впору, мне вас слушать, а не вам меня! – поражалась Мария Николаевна.
– Читаем! Читаем газеты, специальные справки, отчёты. Но это бумага. Она не всегда честна. А послушать живого человека гораздо интереснее, чем читать мёртвые иероглифы, – оживился академик. – Завтра я вам покажу город. Но его лучше видеть летом, чем зимою. Зима у нас сырая. У вас она достойнее нашей. Я хоть и застал лишь апрель, но мне хватило, чтобы ощутить настоящую зиму. Но город я вам покажу. В нём есть своя зимняя прелесть. Вы где устроились?
– В гостинице, на Невском! Сняла удобный номер с окном прямо на проспект.
– Сейчас возьмём извозчика, заберём ваши вещи и поедем ко мне домой! Я живу недалеко от Исаакиевского собора. Здесь всё рядом: и Зимний, и памятник Петру, и Нева, и Петропавловка через реку. Вы так и не сказали, каким ветром вас сюда занесло.
– Я прибыла по очень важному делу. Я вышла замуж за политссыльного поляка. Он больше пятнадцати лет находится в Дудинском. Ему и его товарищу каторгу заменили двадцатипятилетней ссылкой за участие в Польском восстании. Столько направила прошений и ходатайств во все инстанции! Но ничего положительного не добилась. Вот решила приехать сама. По пути встретилась с Михаилом Фомичем Кривошапкиным и взяла у него поручительство за этих двух поляков. Он доктор наук. Вы академик. Пришла и у вас просить бумагу. Остальные справки у меня есть.
– Вы – мужественная женщина! Вы заслуживаете не только большого уважения, но и содействия в вашей благородной миссии. Я подготовлю моё поручительство и договорюсь о вашей аудиенции с министром внутренних дел, – заверил академик.
На завтра он взял извозчика. И они с Марией Николаевной посмотрели Исаакий, Зимний дворец, Мариинский театр, Аничков мост, памятник Петру, Гостиный двор, Таврический дворец и Адмиралтейство. Фёдор Богданович коротко рассказывал об истории каждого сооружения, об архитектурных стилях и их эпохах.
– Я сегодня столько узнала интересного о Санкт-Петербурге, сколько не смогла узнать за прошедшую жизнь! – восхищалась она. – Спасибо вам, Фёдор Богданович, за внимание ко мне. Я не знаю, сведёт ли судьба ещё раз с этим городом. Но я навсегда запомню эти памятники старины и вас, Фёдор Богданович!
– Да полно-те, полно-те, Мария Николаевна! Чтобы увидеть и немного понять нашу столицу, здесь надо побыть зимой и летом. Побродить не спеша по проспектам и паркам, посетить Петродворец, вдохнуть прохладу его фонтанов, полюбоваться разночинной одеждой петербуржцев и прокатиться на карете по мостовой, слушая мерный стук копыт, – мечтательно сказал академик. – Я сам, увы, не имею такой возможности везде побывать и всё увидеть. Служба требует полной отдачи, если не хочешь отстать от других. Да не могу я и время попусту тратить. Из всего стараюсь извлечь пользу. И с сегодняшней прогулки с вами. Завтра я обменяюсь записками с канцелярией министра внутренних дел и получу ответ о времени вашей встречи. – сказал Фёдор Богданович.
Вечером огорчённый Шмидт вернулся домой. Дёрнул колокольчик. Прислуга открыла дверь.
– Что случилось, Фёдор Богданович?
– Не любопытничай, Анисья! Всё в порядке!
– А почему вы так нервно дёргали в колокольчик? – допытывалась экономка.
– Это я с досады! Немного нарушились мои планы на завтра. Ты лучше скажи, чем занимается гостья? Не заскучала?
– Ждёт вас с нетерпением! Ждёт новостей по её делу! Мойте руки и садитесь с Марией Николаевной за стол! Ваша жена прислала письмо из Кисловодска, возьмите! – протянула она конверт.
– Спасибо, Анисья! А я уже соскучился по ней, хоть бери отпуск да поезжай на воды! Читать буду после ужина, а сейчас зови сюда северянку.
Сели ужинать. Марии Николаевне не терпелось знать, когда встреча с министром. А Фёдор Богданович решил дать ответ после ужина, чтобы не расстраивать ей аппетит. Но гостья – женщина, тонко чувствующая, спросила:
– Фёдор Богданович, у вас исчезла уверенность, которой вы вчера щеголяли передо мной?
Академик перестал жевать, задумался:
– Вы правы, Мария Николаевна! Я сегодня потерял уверенность. Завтра у вас встреча состоится. Но с товарищем министра[11]. Сам министр уезжает на две недели в Ревель. Этим я и огорчён, принёс вам неприятную весть.
– Да полно, Фёдор Богданович, я рада завтрашней встрече! Пусть даже товарищ министра. С глазу на глаз выясню ситуацию. Есть ли хоть маленькая возможность уменьшить срок ссылки на пять лет. Если он скажет, что есть, я пойду на аудиенцию к государю. Разобьюсь, но добьюсь приёма с царём Александром.
Ночью она плохо спала. Ей мерещилось, что ехала в министерство внутренних дел на извозчике и случилась уличная авария. У её тарантаса сломалась ось. Она металась от одного к другому извозчику. Но никто не брал. Все куда-то спешили, зло взмахивали кнутами и пускали лошадей вскачь. Одна-одиношенька осталась она среди пустынной улицы и поняла, что уже опоздала. Проснулась в холодном поту, выглянула в окошко. За окном ночь. «Значит, это не явь, а сон», – обрадовалась женщина и снова легла в постель. Ворочалась с боку на бок, ложилась на спину, вставала, зажигала керосиновую лампу и снова лежала, глядя в лепной потолок. «Неужели я ничего не выхожу для любимого и его друга?» – терзал её вопрос. И она не находило ответа. Боялась и собственной неуверенности, и самоуверенности. Итог зависел от обстоятельств и от людей, которые руководствовались не чувствами, а законами. Тем более, для них политические преступники – погубители России. А чиновники министерства сильно любили Россию и не любили Польшу.
На удивление Марии Николаевны товарищ министра отнёсся к ней весьма благосклонно. А может, ей показалось. Но он при ней надевал на переносицу несколько раз пенсне, чтобы прочитать важные, на его взгляд, строки из прошений.
– Мария Николаевна, есть маленький шанс добиться досрочного освобождения ваших друзей из ссылки. Но это компетенция министра. Тем более, что у них в поручителях такой уважаемый правительством человек, как Фёдор Богданович Шмидт. Дерзайте! – посоветовал товарищ министра. – А чтобы вы смогли добиться своего, то на приём к министру идите со Шмидтом и вторым поручителем. Как его? – Он начал копаться в бумагах. – Ага, вот он! Кривошапкин. Так вот, возьмите обоих поручителей – и к министру! Попытайтесь втроём доказать ему необходимость скощения срока ссылки.
– Благодарю вас, господин товарищ министра, за совет. Мне только не совсем понятно, почему четыре года активной переписки с местной и столичной властями заканчивались бюрократическими отписками сухим канцелярским языком. Неужели бездушие заполонило канцелярии власти?
– Знаете, госпожа Цыбульская, люди у нас разные. У многих под чиновничьими сюртуками души нет. А это для России страшнее политссыльных. Желаю удачи!
Через день, посоветовавшись со Шмидтом, Мария Николаевна телеграфировала Кривошапкину в Казань просьбу срочно прибыть в Санкт-Петербург по делу ссыльных. Михаил Фомич не заставил себя долго ждать. На одиннадцатый день он прибыл в Санкт-Петербург прямо в дом Фёдора Богдановича Шмидта. А через неделю они оказались в кабинете у министра внутренних дел, который лично знал академика. Поздоровался за руку с вошедшими учеными, а Марии Николаевне поцеловал.
– Никогда не думал, что и академики сутяжничают, дорогой Фёдор Богданович! Или время некуда девать? – засмеялся министр.
– Да вот пришлось, господин министр! Прошу помочь двум полякам, попавшим по молодости в большую беду. – попросил академик. – Они уже всё осознали. Поняли, что патриотизм – не только отстаивание с оружием своей Польши. Любить родину можно и в рамках закона без ружейной стрельбы и рубки саблями.
– Я знаю суть этого дела. Переписка идёт четыре года. У нас таких просьб тысячи. Не успеваем своевременно отказывать. Ведь только по Польскому восстанию осуждено более восемнадцати тысяч человек. Массовый патриотический психоз втянул многих молодых людей того времени в ненужное противостояние с властью. Теперь их лучшие молодые годы проходят на каторгах да в ссылках. Сосланы двадцатилетними, а вернутся домой в сорок пять, пятьдесят. А жизнь-то одна! Я дам согласие на сокращение срока ссылки до семнадцати лет. Меньше не имею права. Это прерогатива государя. Стало быть, при благоприятных стечениях обстоятельств, ваши друзья будут освобождены 1 июля 1880 года. Только прошу госпожу Марию получить копии необходимых документов у нас в канцелярии самолично. Пока, к сожалению, почтовые станции нередко теряют документы.
Он поднялся, дал понять, разговор окончен. Министр вышел из-за стола, пожал руки и пожелал, чтобы гости больше не приходили с подобными прошениями.
– С одним полиберальничай, скости ссылку. И пойдут тысячи ходатаев и ходатайств. А законы нарушать я не имею права! – развёл он руками. – Будьте здоровы, господа!
Мария Николаевна, возвращаясь из Санкт-Петербурга, заехала к матери в Томск и присмотрела в городе дом, сложенный из кирпича, с двускатной железной крышей, с четырьмя водосточными трубами и небольшим парадным подъездом. В доме три комнаты, кухня и чулан. Поторговалась со старой купчихой и купила его для будущей жизни. Наняла сторожа, чтобы присматривал за домом до их приезда. До конца ссылки оставалось два года. Вскоре она родила белоголовую дочь, названную Зосей.
* * *
Теперь жили и считали дни до окончания ссылки. Збигнев с Сигизмундом чаще ходили на охоту и рыбалку, приносили добычу и стали сдавать Петру Михайловичу добротный песцовый мех в обмен на муку, чай, сахар. Порох и свинец они брали в складочном магазине, который остался от Киприяна Михайловича Сотникова. Теперь смотрителем магазина служил Мотюмяку Евфимович Хвостов.
Збигнев с Марией Николаевной и маленькой Зосей решили после ссылки осесть в Томске. Звали с собой Сигизмунда. Но он задумал, прежде всего, съездить в Польшу, навестить старушку мать, а уж потом выбрать место, где доживать век. К нему в гости лет пять назад приезжала бывшая невеста Ядвига. После его ареста и ссылки она вышла замуж за молодого помещика. Десять лет прожила с ним в мире и согласии, а потом поняла, что не может без своей первой любви. Стала писать ему безответные письма, клялась в верности, в готовности, хоть сейчас, соединится брачными узами. Но Сигизмунд молчал. Тогда она пришла к его матери и сказала, что собирается ехать в Дудинское. Мать уговаривала отказаться от затеи:
– Ядя! Дорога долгая и тяжёлая. Только на неё уйдёт не менее полугода. Ты знаешь характер Сигизмунда. Он никогда не простит тебе предательства. А ссылка, видно, ещё ожесточила его сердце. Я не могу благословить тебя на эту безуспешную поездку.
Но Ядвига упорствовала. «Доберусь до него или нет, но зато посмотрю и Россию, и Сибирь», – взвешивала она «за» и «против». Из Кракова на тарантасе доехала до Варшавы, взяла билет на поезд до Бреста, а потом и до самой Москвы.
Через месяц она добралась поездом до Уральска, а затем до Енисейска – в кибитке. Остановилась в гостинице и стала ждать вскрытия Енисея, чтобы пароходом плыть в Дудинское. Встречала из Туруханска обозы с рыбой, расспрашивала кучеров о Дудинском. Те в ответ говорили:
– Мы, пани, дальше Туруханска не ходим. Возим рыбу с Дудинского участка. Но в самом станке не бываем. Поищите сотниковских приказчиков. Они здесь товарами запасаются для навигации. Может, кого-нибудь и встретите.
Не повезло Ядвиге. Видно, приказчики в ту пору были в Минусинске или в Томске. Ехать же на почтовых лошадях до Туруханска, а там до Дудинского на оленьих упряжках она не решилась. Да и люди советовали дождаться парохода. Письмо Сигизмунду она отправила почтой, сообщив, что прибудет по высокой воде.
Сигизмунд встретил Ядвигу холодно. Он даже не прикоснулся к ней, хотя она на коленях просила прощения.
– Я презираю тебя, Ядя! У тебя не было любви! У тебя была увлечённость! Короткая, холодная, как северное лето! – упрекнул Сигизмунд. – Ты не выдержала испытания разлукой! Потому всё, что случилось, логично. Ты лишила себя счастья быть любимой. Что бы ни случилось, я вернусь в Польшу через пять или десять лет. Женюсь или нет, знает только Бог. Ты разуверила меня в женщинах. На каждую я буду смотреть сквозь тебя, вешать на них твой ярлык измены. Русские женщины другие. Они преданы любви, как Мария Николаевна. Она ради Збигнева сама ушла в неволю, хотя могла по-другому устроить свою жизнь. У меня больше нет желания видеть тебя. Предательство страшнее каторги.
Он не слушал её оправданий. Проводил на пароход и даже не стал ждать его отхода. Единственный раз взглянул в окошко на судно, когда оно выходило из устья Дудинки на стрежень Енисея.
* * *
Покидали ссыльные Дудинское со светлой грустью на лицах. Их провожал Мотюмяку Евфимович Хвостов. Долго стояли у ряжевого причала, будто опасались взойти на пароход. Не верилось, что навсегда покидают низовье, что больше никогда их ноги не ступят на таймырскую землю. Хотелось запомнить всякую мелочь последнего дня, отложить в памяти и этот зелёный берег, и этот причал, и их осиротевший домик, и позолоту церковных куполов, и вырастающий из воды Кабацкий, и многое другое, что связывало их долгие годы жизни. Хотелось запомнить и плачущего Хвостова. Они ощутили даже какой-то страх перед появившейся свободой. Из оцепенения вывел зычный голос Гаврилы-шкипера:
– Эй, на причале! Проходите на палубу или не верите, что уже без цепей!
Тогда Збигнев и Сигизмунд вернулись на берег, стали на колени, поклонились и поцеловали землю изгнания. А Хвостов набрал в кожаный мешочек и поднёс маленькой Зосе:
– Возьми с собой! Ты родилась на этой земле. Пусть всегда будет с тобой частичка твоей родины.
Гаврила стоял и вытирал слёзы. Когда поляки поднялись на палубу, он сказал:
– Так прощаются даже с чужой землёй великие мореплаватели и люди с большими сердцами. Вы – настоящие люди.
Збигнев с Сигизмундом в ответ подарили шкиперу свои ружья.
– Возьмите, Гаврила Петрович, на память о нас. Пусть они вам приносят удачу! – И Сигизмунд обнял шкипера.
Путь от Дудинского до Енисейска Гаврила Петрович почти не расставался с поляками. Освободившись от вахты, он приглашал их к себе, где за чаркой вели беседы о житье-бытье. В Туруханске отдельный пристав проверил кладь бывших политссыльных, дал подтверждающие бумаги, что они досрочно освобождены и направляются по месту будущего жительства и о запрете на проживание в городах Санкт-Петербурге, Варшаве, Москве.
– Мы и не претендуем на столицы! – сказал Сигизмунд, прочитав бумаги. – Нас и Краков устроит, если его ещё не стёрли с польской земли.
– Это и называется «свобода с ограничениями». Коль единожды закон преступил, то теперь всю оставшуюся жизнь тебя закон преступать будет! – рассудил Гаврила Петрович, озабоченный полицейскими бумагами.
– Для нас то не страшно! В мире нет абсолютной свободы, поскольку всё взаимосвязано. А полицейские запреты для самих же полицейских. Они должны блюсти их выполнение нами, а не мы! – сказал Збигнев и внимательно посмотрел на Сигизмунда. – Может, и он вернётся в Сибирь.
– И правда! – подхватил Гаврила Петрович. – Вернёшься в Краков, проведаешь матушку, пройдёшься по бывшим друзьям, если кто из них не на каторге. Прочувствуешь, чем встретит тебя родная Польша. Станет невмоготу, бросай всё и приезжай или ко мне в Енисейск, или к Збигневу в Томск. Пойдёшь на службу, куда возьмут, полюбишь крепкую сибирячку и начнёшь жить, по-своему, как Бог велит.
– По-своему, пан Гаврила, жить я уже не смогу Вкус к жизни теряю. Не удалась она у меня, или я неудачливый её владелец. Уже сорок. Годы ушли, а взамен нового ничего не пришло. Только седина в волосах, боль в сердце, да впереди сплошной туман, – покачал головой Сигизмунд. – Ох уж эти порывы юности! Как писал Пушкин: «Пока свободою горим, пока сердца для чести живы». Перегорел я свободою. Честь мою давно растоптали, ещё у «позорного столба» в Варшаве. Бросились мы дурными головами в омут восстания и до сих пор из него не выберемся. Двадцать лет жизни с кандалами на ногах. Потеряно впустую время – главный, никому не подвластный бог нашего бытия. Жаль! Другой жизни не будет! Мне остаётся только мстить нынешней власти за пролитую кровь, за сломанную жизнь. Значит, снова преступить закон и бороться, пока не встретит пуля или вечная каторга.
– У тебя разочарование в любви и к женщине, и к родине. К тому же ты рос и мужал на этих двух ипостасях, да, пожалуй, ещё на чести. Теперь они размылись, осталась только месть, – проанализировал Гаврила Петрович. – Это опасно, Сигизмунд! Месть так туманит мозги, что человек черные дела совершает вслепую. И только открыв глаза, видит непоправимое. С мрачным настроем сразу ехать домой нельзя. Придётся месяц-два погостить в Томске, чтобы выйти из такого состояния.
– Думаю, верно мыслит Гаврила Петрович! – сказал Збигнев. – Отдохнёшь у нас, сколько потребуется, выгонишь тяжелые мысли, а уж потом поедешь в добром здравии в родной Краков.
– У тебя, Збигнев, вероятно, то ли характер крепче оказался, то ли душа твёрже? Ты спокойнее перенёс осознанную нелепость своих юношеских устремлений? – спросил Гаврила Петрович.
– Не знаю, крепче или нет, но тяжесть пережитого я разделил с Машей. Если бы не её любовь, я, наверное, не вынес бы столько душевных невзгод. Спасибо ей, она отвлекла меня от жутких переживаний, от маячившей каждый день безысходности. Она помогла укротить гордыню, плюнуть на высокие помыслы и забыть их. Я освободил голову от ощущения своей виноватости перед Польшей, от клятвы, данной опрометчиво перед членами тайного общества, от безрассудной гибели за идеалы свободы.
Гаврила Петрович слегка погрозил пальцем Збигневу:
– Не бахвалься! Отступник – тот же предатель. И ты, и Сигизмунд прожили часть своих жизней благими порывами. Это ваше оправдание, что не зря прожили. И не терзайте души! Я что-то подобное советовал вам лет десять назад. Говорил, что у вас всё впереди. Время ушло. Сейчас я этого не могу сказать. У вас просто не осталось будущего. Вам жить надо настоящим, только в два раза быстрее обычных людей, чтобы догнать ушедшее. Не думал я, паны, что вы окажетесь сломленными. А жаль. Сейчас надо разогнуться и выпрямиться. Выстоять в начале свежей жизни!
– Горечь душу сушит, Гаврила Петрович! Тяжело сознавать, что лучшие годы, когда ты полон сил и желаний, прошли впустую.
У шкипера выступили слёзы:
– Эх, ребята! Начинаем повторяться! Вывод такой, в юности, по неопытности, нельзя облекать себя большими целями, чтобы с годами не обмишуриться. Довольствоваться тем, что приносит судьба. Может, и так. Но тратить жизнь на мелочи – расточительно. Кто-то находит себя в жизни, а кто-то нет! Но искать себя необходимо! У вас, друзья мои, только начинается поиск. Вы, по сути, начинаете жизнь с нуля, начинаете зрелыми, понюхавшими пороху и неволи. Тут ошибки недопустимы. Я же нашел себя, и вы найдёте. Я верю в вас! Давайте выпьем за начало вашей жизни.
Выпили как-то нехотя. Душевная горечь была горше водки. Вышли на палубу. Закурили. Справа проплывал Карасинский станок.
* * *
Александр Киприянович Сотников с конца октября до середины апреля кочевал по тундрам с торговыми обозами. Взял у Хвостова в кортом семьдесят упряжек и ходил по Карасинской и Хантайской самоедским управам. Вместе с ним разъездным приказчиком служит средний брат Елизаветы Ивановой Василий Никифорович. Алексей Митрофанович сидит в лабазе на учёте товаров, а Дмитрий Сотников – в верховьях на закупке провизии, холста, муки, ружей, табаку. Юраки, Дмитрий Болин и Михаил Пальчин отвечают за саночных оленей и аргиши по тундрам. Они служат у Хвостова, но сейчас с четырьмястами оленей и двадцатью каюрами в аренде у молодого купца. Троих каюров поднатаскал Степан Варфоломеевич плотницкому делу. Они теперь и нарты чинят, и копылья строгают, и полозья тешут топориками. Возят с собой не балоки, а небольшие чумы, которые служат жильём на местах стоянок. Чумы каюры ставят сами, так как женщин в аргиш не берут. Каждая санка на счету и у каждой своя поклажа. Тут и мука, и чай, и сахар, и холсты, и железные печи. Не берут они только дров. Ходят по лесистой тундре, где вдоволь сушняка да сухостоя. И Болин, и Пальчин за долгие годы узнали все аргиши кочевников, места стойбищ, в каких товарах нуждаются семьи самоедов. А участок – за неделю на бегучих оленях не пройдешь! Только по Енисею от Дудинского до Хантайки пятьсот вёрст. По берегам четырнадцать станков, где живут триста пять государственных крестьян, мещан и ссыльных поселенцев. Да по тундрам кочуют шестьсот двадцать четыре самоеда. Охотятся и на белку, и на соболя, и на горностая. А чуть севернее Хантайки – и песец, и медведь, и росомаха погуливают. Да и лисы с зайцами – тут как тут! Богата лесотундра всякой всячиной!
Зимой на станках крестьяне занимаются подледным ловом. А летом рыбные места занимают на реке сезонники из южных мест губернии. У артельщиков – неводы, а у самоедов – сети. За рыбную путину в ответе опытный Сидельников. Торг среди самоедов ведёт сам купец Сотников, переезжая зимним аргишом от одного стойбища к другому. Приказчик Василий Никифорович Иванов, крепкий, среднего роста мужичок с хитроватым прищуром глаз. На счётах гоняет косточки пятернёй, как Сидельников. Ни крестьянин, ни самоед не успевают следить. Они не могут понять, что прибавили, а что убавили. На счётах замирает лишь результат!
– Закончил! – кричит приказчик завороженному беготнёй косточек самоеду. – Сдал ты пушнины на сто двадцать рублей, минус семьдесят рублей долгу. На товар у тебя остаётся пятьдесят рублей. Я всё записываю в книгу, понял?
Василий Никифорович сидит в большом торговом чуме, где на оленьих шкурах разложены товары. В чуме горит железная печь, рядом гора дров и обеденный столик с чайными кружками. На раскалившейся печке два кипящих чайника: один – для приказчика, второй – для самоедов.
Откинув полог, в чуме появилась голова долганина Седо:
– Ты здесь, хозяин?
– Что, не видишь с улицы, что ли? – спросил Василий Никифорович. – Заноси добычу. Буду смотреть.
В разъём чума влетел один, затем второй, третий кули с пушниной. Наконец, с мешком на спине протиснулся сам Седо и тяжело опустил его на шкуры. Послышался стук костей.
– Бивни мамонта – штука тяжёлая. Олень устал от них! – тяжело дыша сказал Седо. – В кулях сто двадцать шкурок песца, пятнадцать лисьих. На нарте есть ещё две росомашьи. Шкурки одна к одной. Нынче песец крупный попадался. Правда, лисы средненькие. Смотри, оценивай. Выделка – ни жиринки не осталось.
– Ладно, Седо! Садись пока, пей чай, а я смотреть буду!
– Никифорыч, а может, кружечку винишка подашь. Так хочется! Чай я каждый день пью, а вино, когда вы приаргишите в стойбище.
– Пока не сторгуемся, никакого вина! Ваш староста Фёдор Петрович Дураков добивается запрета на продажу хмеля. Скоро и мы вино не будем возить, – сказал приказчик. – Пей чай! Уже вскипел! Бери сахар и баранки!
– На баранки зубов нет! Они твёрже льда на майне! Мороженые.
– А ты в чай опусти, и они отмякнут! – посоветовал Василий Никифорович. – Мы так и баранки, и сухари едим. В размочку.
А сам развязал кули, вытряхнул мех на оленьи шкуры и начал перебирать пальцами «песцовую одёжку». Седо нехотя пил чай и глядел на приказчика, придирчиво осматривающего его пушнину. Тот разложил шкурки в три кучи.
– Смотри сюда, Седо! Шестьдесят шкурок песца беру по полтора рубля, тридцать – по рублю. Остальные – по полтиннику. Лисьи – по два рубля, росомашьи – по два с полтиной!
– Мало, хозяин, мало! Песец больше лисы. Пойди в тундре, поймай полтинник. Из-за одного песца, бывает, по пятнадцать вёрст по путику идёшь. Ноги отваливаются, а ты – полтинник!
– Не могу больше, Седо! Песец небольшой, ворс мелкий. Не могу!
– Ладно! Садись, считай! Я посмотрю, что мне останется.
Василий Никифорович тоже прихлебывает чай из кружки, смотрит квитанции по долгам, играет костяшками. Седо сидит и со страхом ожидает, сколько у него останется денег на муку, табак, чай, ситец, вино. Отщелкав косточками, приказчик разводит руками:
– Я убираю долги, и тебе на товары остаётся девяносто пять рублей! Не густо, дорогой Седо! Много товару не купишь.
Седо сидит на шкуре, придавленный таким известием.
– Василий Никифорович! У меня жена, двое детей. Хлеб, чай, сахар нужен! Помрут с голоду! – лопочет убитый горем Седо. – Год с охоты не вылазил, а заработал сотниковский кукиш.
– Смотри товар, выбирай, что нужно, но не более, чем на девяносто пять рублей. Ах, подожди! У тебя же ещё мамонт есть. Сейчас окину, что за кость.
Перебрал, осмотрел куски бивней.
– Бивень белый! Ни одной трещинки! Давай по четыре рубля за пуд.
– На пароходе по пять берут, а ты – по четыре. Не буду продавать!
– Забирай тогда куль, пусть он у тебя трескается.
Седо в раздумье смотрит на бивни. Жалко отдавать за такую цену. А душа скулит по вину.
– Хозяин! Кружку вина дай, сбавлю цену на бивень! – заискивающе смотрит Седо на приказчика.
– Я налью, только никому не говори, что я угостил. Понял? – заговорщецки сказал.
– Понял, хозяин! Никто знать не будет, где Седо выпил.
Седо, озираясь, хлебнул вина, повеселел и пошёл отбирать товар. Выбрал три куля муки, двадцать пачек чаю, десять папуш табаку, по три фунта пороху и свинца. И ведро вина! Василий Никифорович опять кинул на счётах:
– Не хватает денег на порох, свинец и на вино. Сотников запретил тебе выдавать в долг. Ты, шельмец, с гонором, пушнину продаёшь на пароход, минуя Сотникова. Жалуешься старосте Дуракову, что тебя купец обсчитывает. Поэтому иди к Александру Киприяновичу, проси у него в долг. Разрешит, я выдам!
Седо снова сел на шкуру. Вино покачивает измождённое тело самоеда. Глаза то открываются, то закрываются. Он пытается думать, как выкрутиться зиму без долгов. Пороха и свинца мало. Не хватит на зимнюю охоту. У соседей занять? Сами бедствуют, не знают, как торг пройдёт. Сотников долги удержит – тоже останутся ни с чем. Плохо думается. Вино отвлекает. Он открывает глаза и просит у приказчика табаку.
– Вот последняя папуша – и я тебе больше ничего не должен! – бросает в лицо горькие слова Иванов и даёт щепотку табака на трубку. – Закуривай – и давай отсюда! Не держи очередь, а то купец увидит и за сокуй вытащит тебя на снег. Если хочешь взять в долг, проси у Сотникова, – советует приказчик.
Александр Киприянович сидит в небольшом тёплом чуме у горящей печи и пьёт чай со старостой Затундринского общества Фёдором Петровичем Дураковым. Курят трубки, прихлёбывают и ведут говорку. Сотников знает, зачем заглянул в его чум Дураков. Не чаю попить, а спросить, почему без патента вином торгует. Ждёт купец вопроса, а Дураков петляет вокруг да около, ищет удобного момента, чтобы в лоб спросить.
Потягивая трубку, староста медленно, без напора, как бы между прочим, говорит:
– Жалуются мои сородичи, Александр Киприянович, спаиваешь их, обираешь до нитки, да ещё и бьёшь, когда своё требуют.
– А ты скажи, Фёдор Петрович, кто жалуется? Они у меня с голоду подохнут!
– Не скажу – кто, но уже не один человек. Боятся они тебя! Просят, чтобы я их не называл. Дак вот, я тебя пока прошу – не торгуй в моей управе вином. Одни беды от него. И на цены волчий аппетит убавь. Все у тебя в долгах ходят. Закабалил каждую семью.
– Мой аппетит никому не вредит! Дорого, пусть не берут. Раньше жили без муки, без чая, без табака. Не вымерли. И сейчас не вымрут.
Откинулся полог чума, и втиснулся пьяный Седо.
– Хозяин, дай товар в долг. В тёмную пору верну шкурьём!
– Ну, видишь, Фёдор Петрович! Торг не прошёл, а он уже под хмелем! – обрадовался Сотников. – Я, что ли, поил?
– Где ты напился, Седо? – спросил Дураков.
– Не скажу! Песца сдал, лисицу сдал, росомаху сдал, бивни тоже. Много. Четыре куля сдал, а товару получил мало. Иванов долг удержал! – еле ворочал языком самоед.
– Выйди вон, лодырь! – закричал Сотников. – Жаловаться только можешь, а не охотиться!
Седо пал на колени и начал целовать купцу бокари. Тот оттолкнул ногой. Седо упал на спину, поднялся и снова встал на колени.
– Сейчас ноги целуешь, а через час будешь меня обзывать «Ландуром».
– Не буду! Даже шайтаном обзывать не буду! Поймаю песца – отдам долг.
– Не убив медведя, не продавай шкуры! – сказал купец.
Затем схватил за загривок Седо и выбросил на снег.
– Теперь ты сам увидел, Фёдор Петрович! И так через одного. Выпьют, потом приходят права качать. И за ножи хватаются, – злорадствовал Александр Киприянович. – Приходится кулаком усмирять.
– Это я вижу. Но зачем из чума выбросил на мороз? В тундре свои законы. Мил не мил тебе человек, а коль в чум зашёл, накорми и обогрей. А ты ему – по загривку!
– У него чум рядом. Дойдёт! Наглому дай волю, захочет и боле, – заиграл желваками Александр Киприянович. – А законы я сам устанавливаю.
– Ой, обираешь ты нашу тундру! Жестокость плодишь у самоедов. Задираешь их друг с другом. Одного жалуешь – другого нет. Зависть развиваешь. Так ненароком можно и пулю схлопотать!
– Не схлопочу! Девятый год торжища устраиваю, и никто на меня даже рукой не замахнулся! Многие молча получают расчёт и уходят. А такие, как Седо, нажрутся вина и лезут на рожон. Отсюда и драки, и смерти. Но это твои заботы, Фёдор Петрович! Ты отвечаешь за спокойствие в своей управе. Ты – власть. У тебя и бляха на груди! Вот и управляйся со своими сородичами. Приучай к порядку!
– Моё дело тебя предупредить, Александр Киприянович! А как староста, я должен запрет наложить на торговлю вином в моей управе. Не задирай людей. Поплатишься.
– Твои люди, когда я прихожу с аргишом в стойбище, перво-наперво про вино спрашивают. Не о муке, табаке, порохе. А о вине! Без него им и торг не нужен.
– У тебя, Александр Киприянович, губа – не дура! Твой приказчик с твоего же позволения сначала вином угощает, а потом принимает пушнину. С хмельными легче сторговаться. Поначалу вино их добрыми делает. Сговорчивыми. Вот и берёте по дешёвке пушнину, а товар отдаёте втридорога. Обсчитываете, как малых детей, и ты, и приказчик твой.
Александр Киприянович нервно заходил по чуму вокруг печи:
– Ты, хоть и староста, Фёдор Петрович, но несёшь самый что ни на есть вздор! Если я не приеду с обозом в твою тундру – вы же умрёте без меня. Неужели охотиться станете из лука, не имея ни пороха, ни свинца. Сети не завезу – останетесь без рыбы. Строганину есть перестанете, оцинжаете[12] прежде времени – и каюк! Потому ты мне, Фёдор Петрович, – не указ! Хоть я и без бляхи, но хозяин всей тундры – я. Я – кормилец твоих людей. Понял? И больше с такими обвинениями не приходи!
Староста был не робкого десятка. Он держал в запасе довод, который заставил купца внутренне вздрогнуть, но виду не показать.
– Запомни, Александр Киприянович, если уйдёт донесение Туруханскому отдельному приставу, он быстро найдёт на тебя управу за торговлю непатентным вином.
– Ничего! Я и к отдельному приставу подход найду! Деньги все любят!
– На первый случай штраф наложат, а через суд и торговлю тебе запретят. Ты думаешь незаменимый? Нет, дорогой кормилец! На твоё место уже трое метят: один – из Енисейска, двое – из Туруханска. Крепкие кулаки, оборотистые. Все второй временной гильдии. А ты третьей козыряешь. Догуляешься, брат, по тундрам, народ тебя сам осудит! – урезонивал староста самоедской орды.
Купец вздрогнул. «Значит, уже копают под меня конкуренты. Хотят отобрать самоедскую тундру. Значит, не пристава надо бояться, а конкурентов. От них жди пули в спину, топора или пробоины в барже»…
– Спасибо, Фёдор Петрович! Умную мыслишку кинул! Хотя страшную, но умную! Вот им всем по такой фиге! – И он занёс над столом огромный кулачище. – Не пущу я их в тундру!
Он откуда-то из-за спины достал походную фляжку вина и налил Дуракову.
– Давай, Фёдор Петрович, вином помиримся! Нам с тобой делить нечего, кроме этого вина!
– Нет, Александр Киприянович, пить я не буду. Ты, я вижу, и отдельного пристава хочешь купить за деньги, а меня – за вино. Мне люди доверили себя, поскольку знают, ни за какие посулы я их не предам. Иудой не стану! – ответил староста.
– Ну что ж! На нет – и суда нет! – и купец выплеснул вино на печь. Раскаленное железо сразу превратило зелье в пар. Хмельной запах повис в чуме.
– Не хотел пить, дак хоть понюхай!
– И нюхать не хочу эту гадость. До сорока годов не пробовал и сейчас нюхать не стану, – Дураков поднялся на ноги. – В следующий раз приходи без вина, – рад буду встретить. С вином – гнать буду! Спасибо за чай!
И резко вышел.
У торгового чума стояли несколько нарт с кладью и очередь самоедов на мен. Пьяный Седо вертелся возле очереди, дыша на людей винным перегаром.
– Седо! Иди в чум, проспись! Сегодня больше вина не будет! – сказал староста и вошёл в торговый чум. Василий Никифорович вальяжно сидел за столом и играл на счётах костяшками.
Рядом жался Канюк, молодой крепкий самоед. Он смотрел, как считает деньги приказчик. Больше и больше косточек гонял он туда-сюда по прутику.
– Вот сколько стоит твоя пушнина! – сказал Василий Никифорович.
– Много! – обрадовался Канюк и заёрзал на шкуре. Он представил, сколько товаров возьмёт у купца.
– А теперь посчитаем твои долги, – пояснил Иванов. И начал сбрасывать. Сначала – по одной, потом по две, затем по три косточки за взятые в долг муку, бисер, чай. Он сверял с накладными, сгоняя косточки с Канюкового прутика. Увидел вошедшего старосту:
– Ты что-то хотел, Фёдор Петрович!
– Я держал говорку с Сотниковым и на продажу вина наложил запрет!
– А как же быть? Я хотел взять два ведра. Скоро праздник солнца. Хотели отметить маленько. – огорчился Канюк.
– Встречайте праздник, как раньше бывало. Чай, строганина, живое кольцо вокруг костра. Теперь думают, без вина и солнце не взойдёт. Лишь бы повод выпить, – ответил Дураков. – А затем пьяное веселье закончится стрельбой. Запрет есть запрет!
– Но ведь они досаждают этим вином! – вступился приказчик. – Идут в чум и денно и нощно. За горло берут, чтобы вина дал в долг.
– Теперь отправляй всех ко мне! – сказал Дураков. – Будешь с пьяными вести торг – пеняй на себя!
Он вышел из чума и сказал, стоящим в очереди:
– Не досаждайте купцу вином! Узнаю – судить будем на совете управы. Кроме штрафа и в острог можете угодить за нарушение запрета. Поняли? – строго спросил староста.
– Поняли! – нехотя ответили самоеды.
А не угомонившийся Седо сказал негромко:
– Уедет Дураков, тогда и нальёт купец вина.
Староста услышал шёпот пьяного охотника, повернулся.
– А ты, выпивала, не сбивай людей с толку! Будешь пить, из долгов не выберешься и детей потеряешь!
Он положил на нарту ружьё, куль с провизией и тронул каюра за плечо:
– Поехали в сторону Хантайки.
Упряжка, завихрив снегом, вскоре слилась с тундрой.
Фёдор Петрович Дураков, объехав свои стойбища, добрался до станка Хантайка и заглянул на чай к старосте Хантайской самоедской управы Ивану Никитичу Хвостову. Сидели в тёплой, добротно срубленной избе из местного леса, пили чай, курили и советовались, как навести маломальский порядок в управах. Дуракову, месяц кочующему от стойбища к стойбищу, нравилась ухоженная изба Хвостова.
– Срубили за казённый кошт! Тут у меня и горница, и горенка для приезжих, и приказная, где выдаю кое-какие бумаги и встречаюсь с тундровиками, – рассказывал Иван Никитич. – Учет самоедов веду по каждому кочевью. Из Туруханска много бумаг запрашивают. Писарь еле успевает.
– А у меня в Карасино изба маленькая. Там и живу, и служу вместе с писарем. На поездки беру в кортом оленей и езжу по стойбищам. Правда, в управе есть лодка, летом по станкам ходить. Да, ружьё казенное, – посетовал на сложности Фёдор Петрович Дураков.
Далее говорили о ценах, о самоволии купца Сотникова, разлагающего обе самоедские орды.
– Наше шкурьё берёт за бесценок. Считает, оно нам достаётся даром. А ещё диктует цены, что близко другого продавца нет. Были бы в тундре другие купцы, можно было поторговаться. А здесь, если Сотников не возьмёт пушнину, некому больше сбыть. Он и чувствует себя хозяином. Даже не хозяином, а маленьким царьком. Вся тундра под его дудку пляшет. Туруханская власть за ценами не следит, с торгашей не спрашивает. А в казённых хлебозапасных магазинах выбора товаров нет: мука, порох, свинец да соль. А он по стойбищам проехал, товары поменял на пушнину – и не клят и не мят. Как взять в оборот его – ума не приложу! – рассуждал Фёдор Петрович Дураков.
– Он-то клят! И мы с тобой клянём, и наши сородичи. Толку что? Он карманы набивает на нашей нищете. Отец его был человек, как человек. С этим не сговоришься. Не идёт ни на какие уступки. Не привечает он нашего брата-тундровика. Силища, как у медведя. Ручища, как лапа медвежья. Кулак с голову мою. – страшил Иван Никитич Хвостов. – Вся тундра страдает от его бесчинств. Люди стараются не попадаться на глаза. Если бы не нужда, обходили его обоз десятой дорогой. Боятся. Одного избил, второго споил, третьего обобрал с ног до головы. Жалуются шёпотом. Узнает – загнобит. У меня на озере, во хмелю, схватились за ружья два брата-охотника. Следопыты – от Бога! Перестрелялись. Один замёрз, опившись вином. А трое летом на рыбалке утонули. На пароходе бивни мамонта на вино сменяли. Не голод и болезни страшны, а вино. Сотников только за вино получает около трёх тысяч рублей дохода. Не исправится, напишем жалобы или донесения Туруханскому приставу от двух управ. Пусть приезжают и в Карасино, и в Хантайку. Посмотрят, как живут самоеды.
Александр Киприянович упорно шёл к намеченной цели. Плотники Степана Варфоломеевича Буторина срубили в Енисейске большой дом-пятистенок, разобрали по брёвнышку, пролокчили[13] брёвна и венцы, сбили плот и привели в Потаповское. Плотогоны Ивана Кирдяшкина приплавили лес без потерь. Выкатили на берег по брёвнышку и по номерам сдали артельщикам Буторина. Лесины до осени сохли на берегу, а зимою шестёрками оленей были свезены на угор для сбора дома. По весне артель Буторина снова вернулась в Потаповское и занялась сборкой. Связали по углам рубкою венцы, сделали вчерне полы, соорудили накат и крышу. Приехавший осенью на неделю хозяин дома похвалил за работу:
– Теперь езжайте домой, а в апреле жду вас в Потаповском. Надо к осени завершить работу. В ноябре женюсь. Жену привезу сразу в новый дом.
– Будем, будем в апреле, Александр Киприянович! Будь спокоен, ко времени дом поставим! Кровельное железо есть, кирпич есть, стекло есть. Половая доска, пятидесятка сухая, как серянка. Думаю, вшестером поспеем к белым мухам, – заверил старшина артели. – Тебе завершу – и пора на лежанку внукам сказки сказывать! И так вся жизнь прошла в низовье!
В доме четыре просторных комнаты и – через длинный коридор – большая кухня. Она же и столовая. Рядом с кухней два больших чулана.
Законопатили мхом стены, утеплили черновой пол, затем забрали пятидесяткой. Внутри стены обили дранкой, заштукатурили и побелили. Сложили три утермановские печи[14]. И лишь на кухне русская кирпичная печь.
Александр Киприянович привёз из Мало-Дудинского в Потаповское круглый из гостиной стол, часы с боем, шкафы с книгами, иконы с позолоченными киотами и широкий, со стоячей спинкой, диван. Взял также один сундук с кухонной утварью, оставленный родителями.
Осенью 1889 года Александр Киприянович обвенчался с Елизаветой Никифоровной Ивановой. Десять упряжек, по шестёрке белых оленей в каждой, привезли в Мало-Дудинское жениха с невестой, пятерых братьев Елизаветы и отца с матерью. Дмитрий Болин и Михаил Пальчин, в праздничных вышитых парках, остановили упряжки у избы Степана Петровича Юрлова. Начинало смеркаться. На крыльцо вышел опекун без шапки, в стёганой поддевке, накинутой на плечи. Стоял, разведя руки, встречал гостей. Обнял невесту, затем Александра Киприяновича, потом всю Елизаветину родню.
– Проходите в избу, гости дорогие! Что-то вы маленько припозднились. Банька устала ждать, камни перекалились, – приговаривали у порога Степан Петрович с женою. В горнице гостей ждали брат Иннокентий, приказчики: Сидельников Алексей Митрофанович, Дмитрий Константинович Сотников с женами и Стратоник Ефремов. Два стола, накрытые одной скатертью, ломились от холодных закусок. Промёрзших на морозе гостей усадили за стол, налили по чарке. И выпили за удачный аргиш в Мало-Дудинское. Все пригубили кроме Стратоника. Александр Киприянович посмотрел на псаломщика, налегающего на заливного сига:
– Может, сегодня и не к месту, но я хочу выпить за моего учителя Стратоника Игнатьевича, до сих пор не нарушившего данной мне клятвы. – Головы повернулись к псаломщику: о какой клятве шла речь – никто не знал.
– Было дело, было, – оторвался от еды Стратоник. – Я сказал, брошу пить не ради Господа Бога, а ради Александра Сотникова. С тех пор в рот не беру.
– За это следует выпить! – поддержал Степан Петрович. – За сильную волю Стратоника!
Выпили. Закусывали строганиной, холодцом, заливным сигом, вяленым мясом, оттаявшей морошкой, солёными грибками. Накинулись на еду, заморили червяка с дороги, и тогда на стол подали горячее.
– Под горячее я, на правах жениха, хочу выпить за хозяев этой избы, Степана Петровича и его жену Александру Порфирьевну, теперешних наших с Кешей тятю и маму. Спасибо вам, что поддержали нас в тяжёлую годину, спасли от измываний дяди Петра, помогли встать на ноги двум сиротам.
Александр Киприянович вышел из-за стола и крепко поцеловал Александру Порфирьевну, а затем – Степана Петровича. Когда гости и хозяева насытились, Степан Петрович сказал:
– Баня ждёт молодых. Или вместе, или порознь. Думайте жених с невестой. Не сегодня завтра всё равно вместе в баню ходить. Соромно не соромно, но у нас так заведено.
– Дайте чуток подумать, Степан Петрович! – попросила Елизавета.
– Вроде бойкая, а тут сумлевается омовение совершить вместе с завтрашним мужем. Думай, неволить не буду.
Александр Киприянович, переминался с ноги на ногу, не зная, как поступить. Он не ожидал сегодняшней бани с невестой. Поэтому всё отдал на откуп Елизавете: как решит, так и будет.
Его подзадоривали братья Елизаветы, особенно младший, Костя:
– Своячок, трусишь! Такой большой, а Лизаньки испугался! Тятя мой с мамой давно вместе банятся.
– Помолчи, недоросль! – цыкнул Василий Никифорович. – Вот когда женишься, то попробуешь. Там столько неловкостей вылазят наружу, шаек не хватает срам прикрыть.
Мужики засмеялись. Елизавета из кухни зашла в горенку, подошла к Александру и положила голову на плечо:
– Нет, милый! Соромно. Париться пойду одна. Хочу под венец идти чистой. И телом, и душой.
Елизавета мылась, а из головы не выходили думы об Александре Киприяновиче. Нахлынули бурным водопольем. Душой пока она не чувствует молодого купца. Всё рассудком взвешивает. О богатстве она не думает. Ей не нравится его угрюмость и тяжёлый взгляд. Брат Василий не очень доброго суждения о нём. Он поаргишил с ним по тундрам, всяким видал, но добрым ни разу. Ценит только себя и доверяет только своим мыслям. Людей гнёт через колено до треска в хребтинах, пока те не становятся покладистыми. Особенно юраков и тунгусов. Под нос суёт увесистый кулак и орёт:
– А этого не нюхал! Сейчас как дам, и нюх потеряешь! Вас – тучи! Как комары обседаете мой магазин! Каждый садится предо мной и жужжит, чтоб пушнину дороже продать, да моего товару больше взять. Не хошь по сходной цене – сдыхай с голоду!
Походит, походит кочевник вокруг торгового чума, помнётся, подумает. Не хочется отдавать за бесценок охотничьи старания, да куда деваться. Товары нужны, припасы ружейные, да и курево тоже. Наступает он на горло неуступчивости и уже на коленях, за бросовую цену отдаёт и песца, и волка, и соболя. А Сотников на беде людской множит своё богатство. И Василию, как приказчику, уже перепадало. Избил его на берегу озера, прямо на глазах каюров, за то, что на копейку дешевле два пуда соли продал. Посчитал и удержал из жалованья. Так это ещё по-божески к нему, всё-таки в родню метит.
– Достанется тебе, Елизавета! – не раз говорил ей Василий. – Мука несусветная. Тяжёл норовом и рукой. Не тем, дак другим человека свалит. Может, тебе и впору будет, у тебя ведь норов – кремень! Будете всю жизнь ломать друг друга.
– Я не боюсь, Вася, ничего, кроме угрюмости и взгляда, – отвечала Елизавета. – У него много ума книжного, а у меня природная сметка. Природа – важнее книг. Пока я люба, он будет, как олень, по одной тропке ходить. Поживём, авось притрёмся. Я ему сказала, что выхожу не за богатство его. Хочу смягчить его долю сиротскую. Ни кулаком, ни норовом меня не возьмёшь. И не пытайся неволить! Сразу уйду!
Она мылась и думала, сможет ли отговорить своего мужа от опрометчивых деяний, держать в том жизненном русле, какое не размывалось бы всплесками его неукротимого характера. Оглядела себя с ног до головы, провела руками по упругим бёдрам, подержала на весу полные груди, откинула мокрые волосы. «Дай, Бог! – перекрестилась она. – Сохранить себя такой на долгие годы, не позволить упругости оставить тело». Елизавета плеснула воды на раскрасневшуюся каменку, легла спиной на полок и уставилась вверх, на сырой деревянный потолок. Затем заскользила взглядом по ровному досчатому настилу в надежде найти хоть меленькую зазубрину. Но потолок был ровный, будто сделан из одной гладкой тесины. «Может, и моя семейная жизнь будет такой же ровной и гладкой, как потолок», – думала она и даже испугалась такой одинаковости. Пар то скрывал, то проявлял потолок, клубясь перед глазами, будто предвещал Елизавете туманную жизнь, когда толком не разглядишь, куда дальше идти. Она на ощупь дотянулась до веника и неистово стала хлестать себя по бокам, по животу, по ногам, чтобы быстрее избавиться от непроглядного пара. Веник оставлял красные полосы на теле, гнал по жилам молодую кровь, разметал брызгами оседающий пар. Пристенная лампа тускло светила сквозь повисший в уголке клочок пара.
Из бани Елизавета вышли грустной. Ей казалось, что в парилке, осталось то, чем она жила: девичья гордость, весёлый нрав и красота девственного тела. Вернулась в предбанник, выпила квасу, ещё раз отжала мокрые волосы, протёрла полотенцем, подобрала в клубок и завязала снизу косынкой.
«Всё так, как было до этого, а душа неспокойна!» – думала она, выходя из бани.
На завтра над Дудинским плыл колокольный звон. В Введенской церкви, построенной братьями Сотниковыми, венчался сын покойного Киприяна Александр с Елизаветой Ивановой. В церковь, поглядеть на невесту, пришло всё село. Да и Александр Киприянович, как занялся кочеваньем, в Дудинском появлялся редко. Товарами обоз загрузит, Юрловых и брата Кешу проведает – и опять в тундру. У церкви стояли двенадцать оленьих и собачьих упряжек, украшенных разноцветными лентами с колокольчиками. На последней нарте бочонок с вином, на крышке лежал ливер и стояли десять деревянных кружек. Иннокентий сначала наливал вино в кружки, а затем накачал ведро, чтобы удобнее было потчевать селян после венчания брата.
В церкви тепло потрескивают свечи. Отец Николай, переведённый консисторией из Хатанги в Дудинское на замену Александру Покровскому, не спеша, с достоинством, ведёт обряд. Когда молодые обменялись кольцами и вместе с восприемниками[15] Дмитрием Сотниковым и его женой Василиной вышли на улицу, их осыпала зерном и серебряными монетами Александра Порфирьевна Юрлова. Прихожане кричали «ура» и искали серебро в снегу. Прямо у входа на колокольню их поздравили приказчик Сидельников и Мотюмяку Хвостов с женой Варварой, староста церкви Иван Никитич Даурский и каждый, кто сумел дотянуться до молодой пары. И только Петр Михайлович, и Авдотья Васильевна стояли осторонь и виновато смотрели на послевенчальную суету. Они заметили в прихожанах явную неприязнь к их неучтивому присутствию.
– Пойдём домой, Пётр Михайлович! Люди глазами съедают нас! – попросила Авдотья Васильевна и взяла мужа под руку.
А Иннокентий Киприянович налево и направо разливал вино, угощая прихожан за здравие молодых:
– Пейте, пока бочка не опустеет! – кричал молодой виночерпий, водя перед людьми кружкой. – За совет да любовь!
Люди подходили к молодым, желали добра и счастья и тут же опрокидывали в себя полные кружки. Никто не расходился по домам. Кто-то пустился в пляс, а кто-то заводил песню. Мужики важно курили трубки и степенно пили вино. У Степана Петровича Юрлова текли по щекам и оседали на бороде слёзы радости:
– Киприян Михайлович! Если ты меня сейчас слышишь, я выполнил твоё завещание. Твой старший сын женился! – и перекрестился. Потом обнял молодых и прошептал: – Берегите друг друга!
Прихожане долго пировали у церкви, а молодые с родственниками уехали на упряжках в Мало-Дудинское.
Шестёрка белых оленей с Елизаветой и Александром шла первой. Вились праздничные ленты на ветру, скрипел на гармонике Дмитрий Сотников, слышались весёлые голоса и смех. Елизавета изредка взмахивала хореем. Олени и так ходко бежали по накатанной дороге. Проскочили выселковое кладбище и выскочили на покатый берег Дудинки. Перед глазами открылась белая бескрайность.
– Пусть будет вот такой же бескрайней наша жизнь, Саша, как эта тундра!
– Тундрой я только и живу! Не будь её, не стал бы купцом! – ответил Александр. – Только в ней я себя человеком чувствую!
Он обнял Елизавету и поцеловал в губы. Она развернула упряжку, взмахнула хореем, и белые быки пошли вскачь вдоль единственной улицы выселок. Резко остановились у избы Степана Юрлова. Здесь их уже поджидали остальные упряжки.
– Я тебя прокатила с ветерком впервые! Понравилось?
– Понравилось. Ездишь лучше своего брата Василия. Чуть в снег не слетел! – ответил Александр Киприянович.
– Не слетишь, если я буду всю жизнь управлять упряжкой!
– Согласен! Только к торгу не имей касания. У меня в тундре свои законы. Я там не признаю родни.
– Да ладно, не серчай, муженёк! Коль купец, то торгуй – пока торгуется, кочуй – пока кочуется. Только помни, мой совет – не пустомеля. У меня особое чутьё. Оно сильнее собачьего. Только собака чует, что уже произошло, а я чую, что будет. Понял? Не хмурься, а помни! Теперь зови гостей в избу! Гулять будем!
10
Литургия – торжественное богослужение.
11
Товарищ министра – заместитель министра.
12
Оцинжаете – заболеете цингой.
13
Пролокчить – пометить бревна зарубками.
14
Утермановские печи – кирпичные печи с железной облицовкой снаружи для обогрева помещения.
15
Восприемник – крестный отец, восприемница – крестная мать.